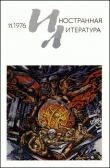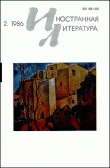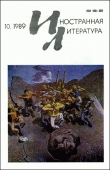Текст книги "Великое никогда"
Автор книги: Эльза Триоле
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)
– Опустите шторы, Мари….
– Если мадам предпочитает сидеть в темноте…
Мари знала Мадлену еще девчонкой, но ей нравилось торжественно величать ее «мадам». И правда, в солнечном свете эта белизна и впрямь резала глаза – можно было ослепнуть от этого блеска, даже не будучи в трауре, Мадлена сама была в белом – сейчас она. как раз тщательно следила за собой, была чистенькая, как фаянс, белая, вся светилась. Бернар, несомненно, чем-то напоминал Режиса, только Бернар повыше ростом и сутуловат. Мари придвинула стол к широко открытой балконной двери. Столик на колесиках, который выкатили из кухни со всякой снедью, туго накрахмаленная скатерть, серебро – все как в американском отеле. Мадлена, самая беспорядочная женщина на свете, уже давно научила Мари накрывать на стол и убирать квартиру.
Бернару было жарко. Очки он снял и положил их рядом с грейпфрутом, лежавшим на льду. – Мадлена, казалось, витала в расплывающемся тумане.
– Мне кажется, я его вижу… – проговорил он.
– Это потому, что ты без очков.
Бернар надел очки. И сразу же Мадлена вошла в свои обычные рамки, обозначился профиль, плечи, черты лица, он разглядел синюю тушь на ее веках, белокурые волосы.
– Мне кажется, я его вижу, – повторил он. – С каждым днем его присутствие становится все более ощутимым. И если я тебя полюблю, то только благодаря ему. Кончится тем, что я буду смотреть на тебя его глазами.
Ветер приоткрыл стеклянную дверь, и по комнате пробежали радужные полосы.
– Нет, не хочу… – возразила Мадлена. – Что ты опять выдумываешь? Мне это неприятно!
– Боюсь, что ты просто не отдаешь себе отчета. Только теперь, когда я вижу масштабы его трудов… Это великий человек. И, возможно, даже глубоко верующий.
– Ну, это ты зря… – Мадлена засмеялась, а Бернар поглядел на нее так, словно она сказала непристойность.
– Не знаю, какими глазами ты его читаешь… Должно быть, глазами неверующей, готовой все повернуть в сторону неверия… Я не религиозен, однако…
– Не болтай ерунды… Поди поцелуй меня. Не хочешь? Предпочитаешь мои гренки? Звонила Лиза. Никак не развяжется с этим наследством, подумаешь, точно он был мультимиллионер. Меня так и подмывало сказать Лизе, что не нужно мне наследства, пускай меня оставят в покое… Из-за каких-то грошей…
Бернар резко поднялся с места. Он сам удивился тому, как ему больно; никогда еще он столь ясно не сознавал силу своей привязанности к Режису. Никто ничего не знает ни о себе, ни о своих чувствах. Уходит человек, и вдруг оказывается… Бывает, еле знаешь человека, а смерть его для тебя катастрофа; другого же видишь чуть ли не ежедневно, и он уходит, не оставив следа. Жизнь продолжается, будто ничего и не произошло. Режис сам говорил ему об этом… Говорил он также, что жизнь – это нечто противоположное долгому путешествию по железной дороге: в поезде нестерпимо долго тянутся как раз последние часы пути, тогда как в жизни – чем ближе к смерти, тем короче становятся годы. Бернару был двадцать один год, он не прошел и половины пути, и его годы точно соответствовали солнечным годам. Относительность времени живет в нас самих: емкость одного часа вовсе не шестьдесят минут, она меняется в зависимости от того, чем его нагрузит жизнь. «Счастливые часов не наблюдают». Что она подлила в кофе, эта колдунья, недаром такая странная тяжесть во всем теле, он дремлет на ходу… Это она оставила Режису морфий. Бернар оперся о косяк двери… Париж вспыхнул и погас, как перегоревшая электрическая лампочка.
– Прости, Мадлена, но я пойду прилягу… Можно?
Она кивнула, послав ему рассеянную, неопределенную улыбку.
Спальня. Их супружеская спальня. Банальная, как эти спальни, что показывают вам в продаваемых квартирах, откуда еще не вынесена мебель, и ее аккуратно расставили для осмотра посетителей. Мадлена не хотела спать на этой кровати, где скончался ее муж, она #Атала теперь в соседней комнатушке, служившей ей кабинетом. Бернар рухнул на постель Режиса. Он не слышал, как вошла Мадлена.
Он не вызвал лифта, даже не подумал об этом. Одиннадцать этажей… Пустынная лестница, по которой никто не спускается и не подымается, казалась никому не нужной, здесь пахло сыростью, как от половой тряпки, пахло заброшенностью, пустотою. Только от дверей, выходящих на площадки, шло какое-то человеческое тепло, оно шло изнутри. Бернар, не застегнув воротничка, перекинув через руку пиджак, зажав в кулаке галстук, спускался по этой пустынной лестнице, словно его выгнали.
Париж незаметно погружался в сумерки. Сколько же времени провел он на смертном одре Режиса, лаская маленькие груди Мадлены? В этой незавершенности – середина на половину, – в этой неполноте чувствовалось что-то порочное, в чем Мадлена не была повинна. Как будто он занимался любовью с несовершеннолетней… Немыслимо… Одиннадцатилетней, не больше. Режис думал, что она ему изменяет, но при жизни она ему не изменяла. Если строго придерживаться фактов. А вот теперь Бернар предал его память, во всяком случае, он твердил это про себя, и от этого у него кружилась голова. Он, Бернар, предал. Совершил самый гнусный из всех мыслимых проступков. Остановившись на тротуаре, словно в ожидании автобуса, он глядел на здание ЮНЕСКО и не видел его. Любовник Мадлены, вот он кто… Бернар твердил это себе с таким чувством, будто наконец-то понял, что он убийца. Он побрел по улицам, опомнился только возле Дворца Инвалидов, обогнул огромное здание и снова погрузился в полузабытье. Нет, дело тут вовсе не в любовном зелье, нет, Мадлена вовсе не колдунья… И вдруг, просто произнеся шепотом это имя, он бросился бежать, расталкивая прохожих… Мадлена!
Очевидно, он долго бродил по улицам, потому что очутился у своего дома, когда уже окончательно спустилась ночь, теплая, глубокая. Весь путь он проделал пешком, бросив свою машину где-то у подъезда Мадлены.
– В каком часу ты являешься домой?.. Отец за обедом рта не открыл…
– Знаешь, мама, оставь меня в покое…
Мадам Плесе, придерживавшаяся иного мнения, прошла за сыном в его комнату.
– Я тебя просто не понимаю, – сказала она. – Мы все сделали, как ты хотел: у тебя отдельная комната, выход прямо на черную лестницу – на тот случай, если тебе вздумается пригласить приятелей к себе. Ты делаешь все, что тебе заблагорассудится, мы никогда не требуем от тебя отчета…
– Мама, – в голосе Бернара прозвучали угрожающие нотки, – мама, оставь меня в покое.
И так далее и тому подобное. Словом, сами знаете. Но на сей раз дело кончилось скандалом.
Бернар сложил чемоданы и спустился по черной лестнице. Машины под рукой не было, пришлось долго ждать такси. Все это его отвлекало, и хорошо, что отвлекало, требовалось чем-то заняться, чтобы подавить внутреннюю дрожь, сотрясавшую все тело с головы до ног. Когда такси остановилось, он не знал, что сказать, какой дать адрес… «Вокзал Сен-Лазар!» Значит, он собирается покинуть Париж? Он слез у вокзала и растерянно остановился перед входом, с двумя своими чемоданами в руках. Что предпринять?
Напротив вокзала вывеска «Отель», непристойная, алая, неподвижная, как проститутка на углу улицы, молча манила его. Бернар стал пробираться к ней между машинами – несмотря на поздний час, движение было оживленное.
Это оказался отель для приезжих – для временной ночевки, он даже и не притворялся, что хочет удержать своих случайных постояльцев, – ни цветка, ни улыбки… Анонимный постой для анонимов.
«Я веду себя так, словно кого-то убил, бегу, заметаю следы. Но от самого себя не убежать, я себя нагнал, схватил…» Несмотря на поздний час, вокзал продолжал грохотать, железные жалюзи, дребезжа, посылали в комнату весь этот металлический скрежет рельсов, вагонов, такси, мусорных баков… Бернар заснул лишь под утро, правда, это были самые длинные дни в году, когда солнце поднимается раньше, чем отходят первые поезда.
III. Архивы
Лиза напросилась к завтраку. Скорбь ее утомила, карие глаза с остановившимся взглядом помутнели. Широкие квадратные плечи ссутулились… Она была в черном, не в настоящем трауре, но в черном. Режис скончался полгода назад. Мадлена выглядела блестяще. Ела она с жадностью.
– Теперь у тебя едят лучше, чем при жизни Режиса.
У Лизы была привычка говорить все без обиняков, и поэтому она была пренеприятнейшей собеседницей. Другой на ее месте сказал бы: «Мари определенно делает успехи. Это ты научила ее готовить рагу из курицы?» Прозвучало бы как комплимент, а тут… Лиза жевала. Лицо у нее было неподвижное, и Мадлена знала, что таким оно бывает при любых обстоятельствах. Режис говорил, что все нутро Лизы изъедено, что оно полое, как ствол трухлявого дерева; говорил, что ее гложет честолюбие. Мадлена обсасывала куриные косточки, ей хотелось понять, в чем же честолюбие Лизы, чего она добивается: когда человек что-то делает в жизни, он пытается преуспеть в своем деле, но ведь Лиза ничего, собственно, не делала. У нее был муж, дочь, внуки, знакомые. Она обожала людей знаменитых и мечтала играть роль, но в какой области? Мадлена жалела, что не успела выяснить у Режиса, в чем именно Лиза собиралась преуспеть, играть роль. В сущности, она никогда особенно не интересовалась Лизой, в ее жизни для Лизы просто не было места.
– Пойду вымою руки…
Мадлена вышла из-за стола. Полгода прошло после смерти Режиса, а она до сих пор с грустью смотрела на пустую полочку, откуда убрали стакан, которым он пользовался, чистя зубы. В те времена, когда они любили друг друга, Режис ставил их зубные щетки в один стакан, наклоняя одну к другой, чтобы они стояли щетинка к щетинке… «Видишь, и они тоже любят друг друга…» Глупости влюбленных. Она вымыла руки, все в курице, и вернулась в комнату.
Лиза, стоя у балконной двери, смотрела на Париж…
– Ты не собираешься продавать ваш дом в Сене-и-Уазе? – спросила она, не оборачиваясь.
– Нет… А что? Он мне нравится. Иди, а то блинчики остынут.
Лиза утерла глаза носовым платочком, зажатым в кулаке, и села перед тарелкой с блинчиками.
– Превосходные, – заметила она. – А я думала, что слишком много воспоминаний… Я бы его у тебя купила.
– Воспоминания – они повсюду. Даже в воздухе. Однако нельзя же не дышать.
– Верно. Ты тоже воспоминание! От них не отделаешься. Я бы его у тебя купила.
Противная эта Лиза. Но Мадлена сдержалась и ответила:
– Я не хочу отделываться от воспоминаний. Хочу жить с ними.
Мари подала кофе. Все эти три женщины делали те самые жесты, что делают люди, когда обедают, когда им приносят кофе. Для того чтобы лучше представить себе всех трех, быть может, следует напомнить, какова комната, что обои здесь белые по белому, занавеси белые, за окном Париж? Чтобы лучше представить себе их, надо ли описывать каждую безделушку, слоновую кость на полках и на камине, белизну пушистого ковра, лампы, серебристую подкладку абажуров? Надо ли повторять, что Режису приходилось работать в их белой комнате, напоминать еще раз, что Мадлена выселяла его отсюда, когда принимала гостей?.. Напоминать о смехе, которым гости встретили обстриженного подо льва пуделя? Говорить о Режисе? О том, что здесь от него осталось?
– А знаешь, эти связки бумаг на полу уродуют комнату, нельзя ли их куда-нибудь убрать? – сказала Лиза.
Мадлена покачала головой:
– Прежде надо с ними кончить. Ты же понимаешь, мне придется перевезти эти архивы в деревню. Хотя и там бумаг полно. Слава богу, хоть чердак большой.
– Ну, а потом?
– Что потом?
– Что ты будешь с этим делать?
– Ничего не буду! А что я, по-твоему, должна делать? Пока разбираем… Это работа нелегкая.
Надо ли говорить здесь о том, что думали они обе, запивая блинчики кофе? Или предоставить это воображению читателя? В реальной жизни мы не знаем, о чем думают люди, мы можем только вообразить это. И даже когда они говорят, о чем думают, они могут выразить словами лишь ничтожно малую часть того, что хотели сказать… Любое «нет», в сущности, не «нет», любое «да» – не полностью «да». «Вы убили этого человека?» – «Нет!» Это может означать: «Нет, я его не убивал. Но почему вы меня об этом спрашиваете? Мне ужасно страшно». Или: «Его смерть привела меня в такое отчаяние, что все прочее мне безразлично». Или: «Да, я его убил, но не признаюсь в убийстве». Не бывает чистого «нет» – оно всегда подается под неким соусом. А что делает романист? Это зависит от обстоятельств. И от эпохи. Уходит время, и вместе с ним уходят романы, которые не соответствуют мерке нового времени. Кстати, следовало бы проставлять в уголке книги ее масштабы, как это делается на архитектурном плане или на географической карте. Миллиметр вместо метра – бесконечно малое вместо бесконечно большого. Вот что позволило бы представить себе каждую описываемую вещь в натуральную величину. На планах и картах есть также условные обозначения: вода – синяя, леса – зеленые, граница – пунктиром… Универсальный язык. Все, вместе взятое, помогло бы нам представить пейзаж, написанный с птичьего полета, дать, к примеру, представление о пространстве и о том, что оно несет на своем горбу: континенты – дело рук природы или границы – дело рук человеческих. Но как кодируется время? Как расшифровать этот код? Часы – это всего лишь уловка человека… Кто-то из поэтов предложил взять за меру времени биение сердца. Человеческое сердце – маятник мира. Он ждал ее у вокзала в течение пяти тысяч двухсот тридцати трех ударов…
Мера времени в романе, который печатается кусками, – продолжение следует… продолжение следует… Он не должен иметь ни начала, ни конца, ни возможности быть измеренным. Обычно романист шествует в грубых своих сапожищах и из того, что происходит вокруг, выковыривает маленький кусочек чего-нибудь. Чего-нибудь, что существовало до нас, будет существовать после нас, что составляет часть целого. Даже смерть – и та ничего не останавливает. Скелет, материя, бывшая мозгом, прах – каково же продолжение всего этого? Не обидно ли, что, рождаясь, мы не знаем, продолжением чего являемся? После провала в яму наркоза «это» возвращается, после провала в могильную яму приходится все переучивать заново, тем более что вы – уже не вы…
– Значит, продавать не хочешь?
– Даже не думаю! Я не сентиментальна, не склонна к суевериям, но я купила дом на свой первый большой заработок в обойной фирме, ну и…
– Разве ты купила его на свои деньги? А я и не знала.
Лиза поднялась. Глаза у нее были растерянные.
– Мадлена, я никак не могу прийти в себя, – начала она. – Как ты можешь? Значит, ты его не любила? Но если даже ты его не любила… Тебе не страшно?
Мадлена отвернулась.
– Я не из трусих. В деревне я ночую совсем одна…
– Значит, если ты спишь не одна – это не потому, что боишься?
Только Лиза умела быть такой противной.
– Нет, не потому, что я боюсь. И при жизни Режиса я там часто спала одна.
– Ах, при жизни… – Лиза побледнела… – При жизни… При жизни… Ты слишком закармливаешь гостей. Если разрешишь, я прилягу на минутку… Но только не в спальне. Я не ты, мне он все время видится…
– Спальня… Там ничего не тронуто. Я сплю в своем кабинете. Ложись здесь. А я, извини, я вынуждена уйти.
Лиза растянулась на белой кушетке. Черная, такая огромная, что заняла всю кушетку, будто разлеглась лошадь. Мадлена быстро вышла из комнаты.
У нее было свидание с Бернаром на его холостяцкой квартире – в гарсоньерке. Гарсоньерка – странное слово, понятие, уже выброшенное на свалку. Место, где мужчина-холостяк или не холостяк принимал женщину, которая не была его женой, и принимал, чтобы заниматься с ней любовью. Было это в эпоху адюльтеров, когда дамы, идя на тайное свидание, надевали густую вуалетку. А теперь Мадлена шла к любовнику с поднятым забралом, и, хотя они занимались любовью в комнате Бернара, его студенческая комната от этого гарсоньеркой не становилась. Впрочем, они скоро переедут в деревню, в дом Мадлены, который Лиза хотела у нее купить. Они решили жить там: начался сезон охоты и архивы Режиса ждали на чердаке.
Тишина, даже тишина может быть совсем особой – отягощенной умолчаниями.
Вокруг дома Мадлены, одиноко стоявшего на самой вершине каменистого пригорка, царила тишина, и только время от времени она рушилась под порывами ветра. Странно все-таки: ветер взял себе в привычку играть своей силой, шириться опадать, никогда по-настоящему не затихая. Да, он как огонь. Странная это была тишина – застывшая между двух взмахов помела, грозно вздымающего ветви, снег, песок… Ивы на дороге, круто подымающейся к дому, волочили по земле свои растрепанные пряди волос; там, повыше, сосны сгибались в дугу, ветки касались земли мохнатыми ладонями, кусты, переплетая свои тоненькие рыбьи скелетики, цеплялись друг за друга колючками. Вот мы и дождались зимы. Первой зимы после смерти Режиса. Первой зимы, когда они спят вместе.
Очевидно, на самой вершине пригорка стоял некогда феодальный замок, от которого не осталось ничего, кроме выщербленных временем укреплений, да при входе во владение Мадлены, без калитки и решеток, еще высилась средневековая башня, растерявшая половину своих камней. Какой-то норвежец в свое время приобрел этот каменистый пригорок и на месте бывшего замка построил деревянный дом – возможно, чтобы создать себе иллюзию родного края. Кругом были скалы и вид необъятный, как море, но то, что в хорошую погоду вырисовывалось на горизонте, отделенное пятьюдесятью километрами суши, вполне могло быть тенью Парижа. Норвежец, великий путешественник и любитель флоры, посадил по всему пригорку разные породы деревьев, но департамент Сены-и-Уазы не признал ничего, кроме пиний, которые со временем стали мощными красавицами, колючего кустарника да папоротника. Вокруг дома царила чисто нордическая нагота. Одни только пинии, распускавшие над пригорком свои черные зонты, а еще выше – небо.
Чудовищный хаос, царивший в комнате, освещенной лишь пламенем камина, казался еще невообразимее из-за этого зловещего полумрака. Бернар поднялся с подушки, брошенной прямо на пол перед камином, и подошел к валявшимся в углу сапогам, из-под которых на паркет натекла струйка растаявшего снега. Одно ружье лежало поперек стола, другие стояли в козлах. По обе стороны широкого камина охапки дров покорно ждали сожжения. Бронзовый юноша с крылышками за спиной держал в руке факел, он был включен, этот факел, но лампочка горела тускло-красным светом – ток здесь был с норовом. Кресла, обитые одни– кожей, другие – тканью, стояли как попало, друг против друга, спинка к спинке, бок о бок, и на них валялись меховые вещи, непромокаемые плащи, одеяла– всё брошенное вперемежку. На столе чуть Поблескивали стаканы и тарелки… Ковры лежали вкось и вкривь. Можно было подумать, что в доме живет целый табор, а не одна Мадлена с Бернаром, комната походила на охотничий павильон после облавы на волков или на медведя, на разбойничий притон, на склад мебели…
Теперь, когда Бернар попривык, он с каким-то мазохистским наслаждением принимал то, что ненавидел пуще всего на свете: беспорядок. Здесь не было и следа Режиса, здесь властвовала Мадлена.
– Никак не найду сигареты… А где моя куртка?
Мадлена представления не имела, где куртка, она глядела на тлевшие поленья, на пылающие уголья.
– Вот о чем я думаю… – проговорила она. – Думаю, что все будет как с Режисом.
Бернар позабыл о сигаретах, он стоял в темноте за спиной Мадлены. Вот оно! Он ждал этих слов с первого дня: она его непременно прогонит.
– О чем ты говоришь? Что я умру?
Они уже договорились до этого…
– Выслушай меня, Бернар…
Ей хотелось растолковать Бернару, что Режис никогда ее не любил, что она лишь ничтожной долей входила в то чувство, которое он именовал любовью; был Режис, была любовь, как таковая, и потом, где-то там – она. И он, Бернар, тоже не любит ее, как не любил ее Режис. Но вместо этого она неопределенно протянула:
– Все лишь видимость…
Бернар, стоявший за ее спиной, положил ей руки на плечи, встряхнул:
– Ты невыносимая! Просто невыносимая!
– Ну что ж!.. Ты не голоден?
– Это снежное молчание! – Он обхватил ладонями голову. – Именно невыносимая… #Ват опять набегает волна! Ветер! Шторм!
Мадлена подняла голову:
– Как бы крышу не сорвало. Странная погода…
Они вышли из комнаты. В коридоре, на кухне все затянуто войлоком тепла. Мадлена ходила в брючках, в свитере, женского в ней только и было что длинные волосы, разбросанные по плечам. Оба жадно набросились на еду. Мадлена умела готовить, делала паштеты, печенье, суфле, и всегда ее стряпня удавалась на славу, хотя она ничего не отвешивала, не отмеривала, даже на часы не глядела. Она была настоящим Ларуссом[3] в кулинарии. Бернар начал было полнеть, но быстро потерял набранные килограммы – очень уж он мучился. В кухне, где стоял длинный деревянный белый стол, на котором готовила Мадлена, и маленький столик, за которым они ели, плавали ароматы: супа с салом, жареного лука, печенья с ванилью… За едой оба молчали. Бернар, чувствуя излишнюю сытость, совсем раскис… Нет, нельзя так, он не ляжет, пока не перепишет хоть несколько страниц работы Режиса о Людовике II Баварском. Даже сейчас – а уж он-то, кажется, привык – Бернар с трудом разбирал почерк Режиса, особенно под конец. Сегодня вечером он чувствовал себя усталым, Мадлена несколько часов подряд таскала его по лесам… А как он только что перепугался!.. Бернар знал, что после этого фазана, которого убил не он, зато он съел, он непременно заснет, а тут еще вино! И какое вино! Он встал и впустил Тома, который царапался в дверь, – огненно-рыжего сеттера с золотыми глазами, собственную свою собаку, единственное, чем он владел в этом доме.
И внезапно он увидел себя в родительской столовой, увидел белые руки своего отца-хирурга, тщательно уложенные волосы матери, лакея, бесшумно прислуживавшего за столом… Арлетта!
– Итак, что же? – спросила Мадлена.
Бернар с преувеличенным вниманием резал фазана: кто знает, а вдруг она умеет читать чужие мысли. Но она задумчиво проговорила:
– Посмотри, я так и знала, что обоями можно оклеивать даже кухню… Уже год держатся и все как новые.
Бернар жевал… Арлетта по-прежнему была с головой погружена в политику. Мадлена – та политикой не интересовалась, считала, что все это пустяки. Совсем как Режис. Пустяки, выдуманные людьми. Впрочем, это не по ее части, говорила она. А что тогда по ее? Обои? Почему бы и нет? Конечно обои. Бернар, как и Режис, не понимал страсти Мадлены к обоям – одними деньгами этого не объяснишь. И обои, и политику тоже выдумали люди, значит, если Мадлена желала иметь дело только со стихиями… Он спросил ее об этом за жареным фазаном и удивился ответу, ведь Мадлена в конце концов была просто ребенок.
– Но обои – это нечто само собой разумеющееся… Никакой ответственности я не несу! Я не пифия, которая всегда права… Ты опять будешь ночью разбирать бумаги Режиса?
– Да…
– Чудесно. А я пойду погуляю с собакой.
– По такому ветру? В темноте?
– Какой ветер? Пес, идем… Пес!
Том вскочил на лапы, поглядел на Бернара и поплелся за Мадленой.
Комната, где работал Бернар, – бывший кабинет Режиса – помещалась на втором этаже. Тут было еще теплее, чем внизу, ставни закрыты, занавеси задернуты, книжные полки, библиотечные шкафы с рядами папок окружали Бернара, ограждали его от ветра, снега… Он уселся перед огромным столом, где царил образцовый порядок, словно в издевку над Мадленой. «Режис!» – простонал Бернар и уткнулся лбом в сложенные на столе руки.
Когда Мадлена поднялась наверх в бархатной куртке Режиса, накинутой поверх ночной рубашки, Бернар мирно спал, уткнув голову в сложенные на столе руки. Он проснулся и первым делом сказал: «Опять ты надела эту куртку… На кого ты в ней похожа…» – И потянул за обшлаг, закрывавший Мадлене всю кисть руки…
«Оставь… Это куртка Режиса, мне в ней тепло… Иди ложись. Ты же засыпаешь». Нет, он не желает ложиться, он будет работать, он уже выспался. Куртка Режиса, в которой Мадлене было так тепло, окончательно прогнала сон. Мадлена вышла и прикрыла за собой дверь.
IV. Образ Режиса Лаланда кристаллизуется
Нервы! Только нервы, и ничто другое. В его-то годы! У Бернара болела голова, все тело, подымалась температура, появились сердцебиения. Отец совсем растерялся, не знал, к какому врачу его направить, к специалистам по каким болезням. Ревмокардит? Расстройство кровообращения? Бернар ходил по докторам, его посылали на рентген, делали анализы и так ничего и не выяснили. Лекарства помогали от одного недомогания, но усиливали другое… Какая именно аллергия, ибо, бесспорно, в основе всего лежала аллергия. Или причина в позвоночнике – склонность к спондилезу, отложение солей, как у всех? Ему назначили гимнастику, чтобы укрепить спинной хребет, мускулы спины, – это ему-то, спортсмену, да у него и так все тело – сплошные мускулы, смешно… Когда начинались боли, он принимал аспирин, что вполне безвредно и снижает температуру. Отец потребовал, чтобы он переехал домой: надо же проследить, как реагирует организм Бернара на то или иное лечение. Ему назначали различные диеты. Словом, залечили окончательно. Болеть в двадцать три года – это просто стыд!
Однако он продолжал разбирать архивы Режиса. Что именно вело его, как только он вставал с постели, на одиннадцатый этаж дома возле ЮНЕСКО, преклонение перед Режисом или любовь к Мадлене? Из-за своих болезней он терял уйму времени: отец был знаменитый врач, и его коллеги изо всех сил лечили Бернара. Возможно, было бы гораздо лучше, если бы он просто, как все смертные, сходил в больницу, где ему посоветовали бы без дальних слов принимать аспирин, ведь не исключена возможность, что это просто осложнение после гриппа.
Труды Режиса с каждым днем приобретали в глазах Бернара все большее значение. Попадались страницы… страницы, где он прозревал вспышки гениальности. Поиски истины… Иной раз ему слышался как бы призыв к богу, который «еси на небесех», иной раз его буквально завораживал экстравагантный атеизм Режиса. Бернар был мальчик культурный, и в области культуры у него имелись пылкие пристрастия. Размах колебаний мысли Режиса давал ему сильнейшее интеллектуальное наслаждение. Он отнес рукопись Режиса к одному своему другу, профессору литературы в Сорбонне, неистовому клоделианцу, и профессор через несколько дней явился к Бернару, возбужденный, ликующий: он открыл нового Режиса – лидера католической литературы, ее теоретика. Бернар не мог опомниться от изумления: да, безусловно, можно считать и так, но ведь тут есть также и прямо противоположные высказывания, что же его друг намерен делать с этими противоположными высказываниями? Ах, да весь интерес этих работ именно в противоречиях, из которых явствует, что вера торжествует. Не понимаю… Они схватились, и это было ужасно увлекательно.
Через некоторое время Давэ – так звали профессора Сорбонны – привел к Бернару двух своих друзей; оба могли говорить только об одном – о Режисе Лаланде. Что касается текстов, то они уже знали их наизусть. Мать Бернара, измученная болезнями сына и его скверным видом, охотно согласилась предоставить для собрания большую гостиную, где сошлось примерно двадцать ученых мужей; была подана отличная закуска, и Бернар прочел вслух отрывок все из того же труда Режиса. Энтузиазм был единодушный, непритворный, и к концу вечера собравшиеся приняли решение любой ценой опубликовать эти страницы. А там видно будет. По части издания у всех собравшихся были весьма солидные возможности. Пришли также к решению, что труды Режиса Лаланда следует рассматривать как художественную литературу, а не как исторические исследования. Помимо всего прочего, это позволяло обойти учителя Режиса, того, что приглашал покойного в университет в качестве своего ассистента. Если вы помните, Режис Лаланд тогда отказался. Мадлена, которая старалась, чтобы ни один факт биографии Режиса не ускользнул от Бернара, столь преданного памяти покойного учителя, объяснила ему, почему отказ от этой чести не был такой уж великой заслугой со стороны Режиса: история интересовала его меньше всего. Он писал исторические труды, как ему заблагорассудится, по прихоти своей фантазии.
Когда Бернар сообщил Мадлене результаты публичного чтения перед избранным обществом, она, занятая своими ногтями, заметила:
– Вот как! Решили сделать из Режиса романиста? Что ж, неплохо придумано…
В общем-то она оставалась в стороне от всего, что Бернар предпринимал для увековечивания памяти Режиса. Каждую свободную от обоев минуту она проводила в деревне, предпочтительно одна.
Бернар, бледный – похоже, что он еще успел подрасти! – рассеянно крутил в пальцах очки и пытался втолковать Мадлене причины успеха Режиса. Лично он, работая над бумагами, все больше и больше влюбляется в них. Он просто околдован, впрочем, Мадлена сама это знает, она же видела, как он трудится над рукописями… Сначала классификация, потом трудности с почерком, с расшифровкой, но когда дело пошло на лад и он смог читать рукописи, по-настоящему читать, следить за развитием мысли… внутренней борьбой… муками Режиса, увидел, как тот на основании, казалось бы, одинаковых данных приходил к противоположным выводам… начинал искать ошибку…
– О чем ты говоришь?
Бернар осекся, надел очки: Мадлена – сегодня она выглядела золушкой, волосы небрежно заколоты на макушке – сидела босоногая в углу дивана на одиннадцатом этаже своей парижской квартиры, неправдоподобно тоненькая и внимательная. Рядом с ней стояла мисочка, и Мадлена тесно сжимала свои обтянутые старенькими брюками ноги, чтобы удержать на коленях маникюрные принадлежности.
– О твоем муже, Режисе.
– Понятно, но о каких проблемах?
– Есть бог или нет бога.
Мадлена сунула в рот палец, пососала его…
– Режис не интересовался богом. – Она чуть пришепетывала из-за этого пальца, потом вынула палец изо рта и внимательно осмотрела. – Откуда вы взяли бога? Режис был историком или, вернее, романистом, потому что верил столь же мало в историческую правду, как в правду небесную. Для него история – это роман. И я говорю тебе не в первый раз…
– Да, но я тебе никогда не говорил, что согласен с тобой.
Мадлена отвинтила пробочку от пузырька с лаком, вытащила кисточку, проверила ее на свет, сняла крохотное волоконце ваты…
– Послушай, Бернар… Вот я, например, мажу лаком ногти. Если мне удастся покрыть их с первого раза, если я их высушу и не одного не смажу, я буду продолжать спорить с тобой и постараюсь тебя убедить в том, что ты неправ. А если лак смажется, я рассержусь и прогоню тебя. Лицо мира таким образом изменится. Вот это-то Режис называл неуловимыми историческими факторами.
Бернар поднялся, зашагал по комнате, потом остановился перед китайской безделушкой из слоновой кости – а может быть, просто кость, не слоновая? – что-то вроде бильбоке, где один резной шарик помещается внутри другого, тоже резного шарика побольше, тот – в шарике еще большего размера, и все они резные…