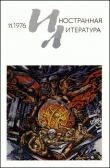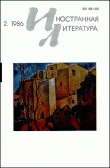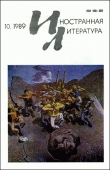Текст книги "Великое никогда"
Автор книги: Эльза Триоле
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
Мадлена поднялась, открыла ставни… Весна была серенькая, неустойчивая, еще медлившая на грани сегодняшнего и завтрашнего дня, однако дикие маргаритки усыпали белыми точечками бесцветную, похожую на прошлогоднее сено траву. Никто здесь не сажал, не сеял цветов, а сосны круглый год – и зимой и летом – сохраняли свою темнозеленую колючую хвою. Только папоротник, сухой, коричневый, желтый, сменит свою одежду, да вьющиеся растения зазеленеют на развалинах крепостных стен. И, однако, это тускло-зеленое небо, этот серенький воздух несли в себе весну, и все это знали: и высокие утесы, и мох, и заросли там, за соснами, – всё было ожиданием… Мадлена обхватила голову руками. Она услышала звон цепей…
Жан приехал к обеду… Он попытался успокоить Мадлену: ну-ну, по сравнению с другими детективными романами, романы Режиса совершенство, – это так, но как произведения искусства.. – Таково было мнение и самого Режиса, он и не претендовал на большее! Все-таки она преувеличивает, она обращается с ними, как, как с…
Жан начинал сердиться всерьез. Значит, она понимает все лучше всех? А почему, собственно? Она вечно считает, что понимает все лучше всех! Так всегда было, еще во времена Режиса… Нет, эти романы ничего особенного собой не представляют… И если он напишет Полю, что, по мнению Мадлены, тот искажает их своими купюрами, переделками, переводами… Мадлена страдала. Она пыталась объяснить Жану, что бессмысленно заводить мистификацию так далеко, что если бы Жан представил французскому издателю оригинал, тот его принял бы еще охотнее. Жан с трудом сдерживался… Ему стоило немалых хлопот пристроить эти романы…
– Вы заблуждаетесь, Мадлена… Вы в этом ничего не понимаете! Признайтесь хоть раз, хоть случайно, что вы в чем-то ничего не понимаете… Оригинальный текст – это сразу чувствуется, а читатель не хочет французского детективного романа, он хочет переводной. Так он словно бы путешествует… Он предпочитает, чтобы преступления совершались не на нашей, а на чужой территории… Так спокойнее… Вы знаете, обороты непереводимых фраз, которые все-таки переводятся, этого не подделаешь… Он, читатель, хитрый.
Мадлена молчала. Теперь Жан надулся. Почему она молчит? И предпринял последнюю попытку…
– Поверьте мне, Мадлена, так лучше. Читатель получает то, к чему привык, он доволен. Пусть романы Режиса идут своим путем… Представляете себе, какой подымется скандал – и скандал никому не нужный, если вы предадите гласности нашу маленькую тайну! Особенно теперь, когда Режис стал знаменит… Ей-богу, Мадлена, иногда я начинаю сомневаться, в своем ли вы уме… Главное, мы почти договорились насчет фильма, сценарий получился совсем неплохой… И принесет нам много денег.
Мадлена топнула ногой, но не сказала того, что думала: Жан просто боится, что поднятая ею волна затопит их голливудский бред. Ей удалось сдержаться, она только ногой топнула… Оба замолчали. Мадлена предложила Жану пройтись по саду, ночь уже дышала весной– Жану вовсе не хотелось бродить по саду, он сел в машину… Фары осветили Мадлену, на мгновение она вся засияла, потом двинулись, осветив шоссе и оставив ей мрак.
Вся пасхальная неделя прошла за пишущей машинкой. По-прежнему стояла серенькая, холодная погода, весна еще не вошла в свои права. Мадлена щеголяла в тулупчике – тулупчики, они теплые, но уже через неделю кажутся залоснившимися, грязными. Обутая в сапоги, она бродила среди скал, карабкалась на самые вершины, восхищалась ядовито-зеленым мхом, их покрывавшим, – тоненьким плюшевым мхом, который липнет к подошвам и к коре деревьев, и густым мхом, который пышнее, чем шерсть ковра ручной работы, и каждый его стебелек – настоящее зеленое деревце, не связанное с соседним, совсем как шерстинка от шерстинки. В самом деле, нынешняя пасха была куда холоднее прошедшего рождества. Мадлена уселась на холодную мокрую стену укреплений, спустила ноги. Здесь, как всегда, гулял ветер, и, однако, над расстилавшимся перед ней пространством стоял туман, неподвижный и упорный, словно дым в курилке. От Парижа, лежавшего где-то там, не осталось и следа… Все исчезло, или притаилось, или никогда и не существовало. Единственной реальностью был гребень стены, на котором она сидела, каменные глыбы, похожие на огромные узловатые колени, да черные сосны. Туман еще не подобрался к ним, хотя за колючий кустарник, росший на откосе, уже цеплялся подол муслиновой вуали новобрачной, весь в лохмотьях. Мадлена встала и принялась прыгать через проломы стены. Она всегда прыгала через них, но проломы с каждым годом почему-то становились все шире… А может, это она стареет? Она вовремя ухватилась за крутой обрывистый край и вернулась домой запыхавшаяся, в разорванных чулках, с мокрыми перчатками. Она устала как раз настолько, чтобы с удовольствием проглотить чашку горячего кофе и снова сесть за все выносящую пишущую машинку.
Она вышла из дома, только когда спустилась ночь. Не зажигая фонаря, висевшего у входа, она подошла к решетке, которую недавно поставили: это было единственное место, откуда легко было проникнуть на участок, со всех сторон окруженный крутыми склонами, практически недоступный. И тем не менее бродяга проникал в дом… Каким путем? Очевидно, через ворота, которые она, должно быть, не заперла на ключ. Как это на нее похоже! Ей никак не удавалось стать недоверчивой и предусмотрительной. Мадлена проверила замок: ключ был повернут. Но кто же его повернул? Она сама? Заперла и забыла? Ухватившись за прутья решетки, она вслушивалась; ветер шел снизу, со стороны шоссе, и Мадлена отчетливо различила гул автомобилей. Люди возвращались в Париж; там, на шоссе, должно быть, вереницы машин, аварии, пробки… Гостиницы, созданные для того, чтобы вас разорять, нетопленные дома с влажными простынями. Погода такая, что страшно высунуть нос на улицу. А на шоссе все гудит, гудит. Вместо того чтобы сидеть в Париже, в тепле… Несчастные люди! Мадлена медленно подымалась к себе по широкой дороге – с каждым шагом гул становился все приглушеннее и вскоре, как и все прочее, исчез в тумане. Мадлена стояла одна, выше уровня тумана и дороги, в каком-то белесом свете и тишине.
В кухне она, не присаживаясь, съела кусок сыра. Завтра придет Дениза, принесет провизию, вымоет посуду… Явится почтальон с газетами, положит их на деревянные ступеньки крыльца, и она крикнет ему из спальни: «Доброе утро, почтальон!» Ей доставляло удовольствие думать о всех этих уже годами повторявшихся, заранее известных вещах… Что с ней такое? То она чуть не свалилась со стены, то ей вдруг становится по душе будничный круговорот. Может быть, старость? Мадлену словно что-то ударило, должно быть, мгновенный страх.
Однако зеркало отразило ее обычное лицо, морщин вроде не прибавилось, зубы и волосы целы, кожа прозрачна. Лоб – все такой же гладкий, и не будь этих мелких морщинок, идущих от крыльев носа к уголкам рта, не будь этого особого выражения глаз, какой-то пристальности взгляда, возможно, объяснявшейся совсем недавно развившейся близорукостью, Мадлене по-прежнему можно было дать не больше двадцати. Не в этом дело, это душа ее покрылась морщинами, они на всем, что она думает и чувствует.
Мадлена опять села за Пишущую машинку, и вновь застучал дятел, этот бессонный ночной работяга. Она легла вся разбитая. Возможно, завтра придет ответ от ее знаменитого физика… Ей необходимы новые данные для решения задачи, хватит вертеться как белка в колесе. Не совета она ждала – ей хотелось отвлечься от своих мыслей.
Но, по несчастью или по невезенью, на следующий день Мадлена обнаружила в газете извещение о смерти знаменитого физика Никола Рибера. Ей на мгновение показалось, что ступенька уплывает из-под ног, но она тут же овладела собой и перевернула огромный шуршащий лист, не прочитав биографии ученого и многочисленных статей, посвященных ему. Смерть… Надо бы противиться смерти, надо бы показать ей, что вам на нее плевать, да что она, гадина, в конце концов, себе позволяет?! Мадлена вскипятила молоко, позавтракала и вышла из дома – на деревянной ступеньке сидел бродяга! «Кого я вижу? – сказала Мадлена. – Убирайтесь с глаз моих!» – «Не пойду!» Бродяга поднялся и смело заявил: «Когда же вы уедете? Целую неделю жду!» – «Чего ждете? Чтобы я уехала?» – «Само собой!» Бродяга с силой швырнул на землю мешок, который во время разговора держал в руке. Послышался металлический лязг. «Или вы, или я, – сказала Мадлена. – Ну-ка, катитесь!!» – «Не пойду». Бродяга снова уселся на ступеньки. Он явно раскапризничался. Мадлена собиралась в соседний поселок, где давали напрокат лошадей; недавно ее вновь охватила страсть к верховой езде, как в детские годы, когда она жила на ферме. Наездница она была превосходная. Тоненькая, как стек, зажатый в ее руке, она смотрела на эту груду тряпья и нищеты у своих ног и размышляла, что делать. «Что вам, в сущности, надо?» Бродяга сердито отвернулся: «Мне в вашей башне нравится… Тепло и не дует. Только при таком ветре боюсь, она обвалится и раздавит меня. А тогда уж виноваты будете вы!» – «Это вы открываете и закрываете ворота по своему усмотрению?» – «Да, я… Увидите, какой я надежный сторож…» Мадлена задумалась… «Потом договоримся, – сказала она, – сейчас я поеду в поселок и найму каменщика. При условии, чтобы я вас не видела здесь, пока башню не починят»… Бродяга захныкал: «А пока?.. Куда мне пока-то деваться?» – «Идите к дьяволу!.. Договорились?» – «Ну как угодно…» Бродяга поднялся. «А собаку вы мне купите?» – «Ладно, будет вам собака… И прямой выход на улицу… Катитесь!» Бродяга скрючился, закряхтел, заворчал под металлический лязг своего мешка. Мадлена побежала в гараж, вывела машину; она, должно быть, уже опоздала: лошадей дают только до определенного часа.
Бродяга исчез из ее памяти, как и Никола Рибер, как рукописи Режиса. Она слилась с движением лошади, ее теплом, покорностью… Мокрые ветки хлестали ее по лицу на тропинках, где она ехала шагом; комья земли взлетали из-под лошадиных копыт, когда она шла рысью, когда посылала лошадь галопом на препятствия, и капель обрушивалась ей на голову, на плечи, она проглатывала солнце, как сырой желток, прямо напротив радуги, напротив многоцветной триумфальной арки, куда она неслась, чтобы проехать под ее дугой.
Разбитая и счастливая, непристойно счастливая, с розовыми горящими щеками, она катила на машине к дому. Да здравствует пишущая машинка! Она чувствовала себя способной совладать с рукописями этого мистификатора Режиса. Когда она все кончит, она вступит в бой, и тогда посмотрим!
У въезда стоял бродяга; он открыл Мадлене ворота, пропуская машину, и снова их запер.
В доме царил порядок, посуда вымыта, постель убрана: видно, приходила Дениза. Напевая, Мадлена приняла душ. Села за пишущую машинку. Ощущение физического блаженства продержалось два-три часа и отступило. Лучше бы лечь, попытаться заснуть… Не тут-то было! Никола Рибер и бродяга, оба такие жалкие старики.. – Она услышала ржание и уже не могла отличить смех Режиса от лошадиного ржания. «Плохи мои дела, плохи, плохи…» И села в постели, окончательно проснувшись.
III. Время – пространство в действии
Что сделала я с временем, которое должно было стать героем этого романа? Я начинаю сомневаться и в нем, и в самой себе. Разве я не приняла за отправную точку ту истину, что время необратимо? А теперь мне кажется, что я допустила ошибку. Представьте себе, что я мастерю что-то, скажем, стул, платье, или делаю химический опыт; то, что мне не удастся с первого раза, я начну заново и буду повторять опыт до тех пор! пока не добьюсь успеха. Если никто не ждет ни стула, ни платья, ни результата опыта, если время не является одним из данных действия, тогда оно нейтрально, безразлично, оно не существует. Я возвращаюсь вспять, начинаю все сызнова, в этих пределах и по отношению к тому, что я делаю, время в счет не идет. Для того чтобы время существовало, надо зависеть от него, иначе мы можем бродить по времени взад и вперед, сообразно нашему желанию.
Сразу видно, в чем тут ошибка. Одно дело, когда тебя не принимают в расчет, и другое – когда ты просто не существуешь. Однако я упрямо и тупо твержу, что необратимы определенные поступки, определенные события со всеми вытекающими из них последствиями, а вовсе не время. Химический опыт обратим, его можно начать вновь с нуля, но нельзя заново начать жизнь – она необратима. Необратимо не время, а именно жизнь, каждый трепет нашего тела, каждая беглая наша мысль, которые неизбежно имеют последствия и последствия последствий и т. д. и т. п. Необратимо то, что превращает ребенка во взрослого. Не время проходит – проходим мы сами. Время неподвижно, это мы, проезжая по какой-либо местности, измеряем ее в километрах и часах. А время – оно не движется.
«Что бы я ни предприняла, – думала Мадлена, – зло уже совершилось, оно необратимо…» Она сидела у себя на кухне, листая книгу, обнаруженную на деревянном, некрашеном столе, ее принесли вместе с газетами: «Любовная переписка Режиса Лаланда». Мадлена прихлебывала из чашки кофе с молоком… Когда она увидела напечатанную в газетах просьбу посылать в кружок по изучению творчества Режиса Лаланда любовные письма, учитывая интересы истории литературы, она сначала подумала, что ничего кружок не получит. Так вот, она ошиблась. История литературы!.. Смешно, ей-богу! Они делают буквально все, лишь бы вычеркнуть Мадлену из жизни Режиса, и эти «они» представляют собой такой клубок различных сил, что, по-видимому, нет возможности бороться с ними. Она не переписывалась с Режисом, так как они никогда не разлучались, а в последние годы, когда она много путешествовала одна, слали друг другу только телеграммы. Уезжала она обычно так далеко, что, пока письмо приходило, она уже была в другом месте. У нее не было ни тщеславия, #т самолюбия, ни ревности… но сейчас все клонилось к тому, чтобы лишить ее остатков авторитета. Как это она ухитрилась настроить так единодушно всех против себя? Никола Рибер был прав: что бы она ни предпринимала, все равно…
Адресатки Режиса, за двумя-тремя исключениями, предпочли скрыть свое имя, но все они охотно сообщали о себе сведения, которых хватило на заметки и комментарии. Итак, кто-то знал писавших. Книга бесспорно будет иметь шумный успех. Мадлена положила на стол недоеденный бутерброд…
Так она сидела до вечера голодная, еда не шла ей в горло. Устроившись в гостиной перед потрескивавшими в камине дымящими поленьями, она листала эту «Любовную переписку», читала ее, перечитывала… Рядовой читатель будет разочарован, введен в заблуждение многообещающим заголовком. Не было ничего скабрезного, скандального в этих письмах, в этих коротеньких записках, в которых назначалось или откладывалось свидание, в этих открытках, присланных из Италии, из Испании… Одно письмо, довольно развязное, извещало о разрыве… Ряд писем, отправленных из глуши, содержал многочисленные указания относительно гранок книги «Во тьме времен», вышедшей еще до встречи Режиса с Мадленой и изданием которой корреспондентка Режиса, очевидно, занималась. Несколько прелестных писем какой-то крошке, все они начинались обращением: «Моя крошка», и сообщалось в них только: «Чувствую себя хорошо… был в кино… чуточку соскучился по тебе».
Сколько женщин… Немудрено и запутаться… Из всех их Мадлена знала лишь одну, ту, которой Режис писал насчет гранок: это была машинистка, она иногда заходила к Режису за работой. А что, если это она посылала Мадлене анонимные письма?.. «Целую твои маленькие, твои прелестные ножки, не забудь исправить „Харьков“ – не „Карьков“, дорогая, а „Харьков“. Нет, Рашель славная, очень славная женщина, она замужем, думает только о своих детях. Теперь ее роман с Режисом – уже далекое прошлое, невозможно представить себе Рашель, пишущую анонимные письма, некогда ей этим заниматься. Единственное, что впечатляло в этой книге, это количество женщин, с которыми Режис имел дело. И это только ничтожная их часть, Мадлена знала об этом, так как обнаружила целую груду таких писем в одном из чемоданов, – писем, которые Режис не уничтожил чисто случайно, по небрежности. Она к ним еще не прикасалась. Может быть, в интересах „Истории литературы“ ей следовало бы разобрать женские письма, найти те, на которые намекалось в „Любовной переписке Режиса Лаланда“?
„Я не библиотечная крыса, не синий чулок…“ Мадлена почувствовала, как закипает в ней желчь, слишком уж ее донимали со всех сторон: только-только она наладила свои отношения с жизнью, как снова что-то случалось. Целый день она не выходила из дома, не прикасалась к пишущей машинке и пообедала в кухне, хотя есть ей не хотелось, и ела она без удовольствия.
Никогда Мадлена не знала, который час… Есть люди, которые носят в себе хронометр, они как бы изнутри знают, что если яйцо должно свариться всмятку, то его нужно вынуть из кипящей воды именно тогда-то. У Мадлены отсутствовало это ощущение часа, – возможно, времени, но не часа. А откуда оно у тех, кто им обладает, уж не в глубине ли их души родится это чувство, подобно безошибочному знанию того, сколько места занимает в пространстве наше тело, наша „телесная схема“?
Я лично чувствую время с точностью до четверти часа. Машинально вношу поправки сообразно характеру времени, сижу ли я в приемной у зубного врача, читаю ли увлекательный детективный роман. Я ориентируюсь во времени, как в знакомом городе. А многие живут без хронометра, без компаса… Есть и такие, что не желают жить по часам, к чему знать, где мы?
С одной стороны, это успокаивает: раз время и пространство позволяют себя измерять, нам начинает казаться, будто мы их приручили. Бедные мы! Они позволяют нам облобызать лишь кончики их пальцев, для этих чудовищ наши человеческие мерки – укусы. Наше жалкое, крошечное человеческое время! Когда я об этом думаю, у меня слезы к глазам подступают. Совсем так, как говорят: „Если вдуматься, какой ужас война!“
Эти мерки служат лишь для того, чтобы облегчить общение между людьми. Как алфавит, как языки… Но существуют разные алфавиты и разные языки, и существует лишь один способ определять время, даже если в Нью-Йорке и в Париже оно не совпадает. Из всех переводов самый легкий это перевод часов; причина различий продиктована солнцем, этими часами-эталоном, и она насквозь ясна: вычли, сложили, и дело в шляпе. Природа, животные обходятся без часов, и если вам захочется поймать крота, смело идите к нему на свидание, он обязательно будет на месте – точно в положенный час! Что или кто подсказывает ему это ощущение часа – то, что стрелка стоит, скажем, на шести? Солнце? Внутреннее чутье? Пожалуй… Но все-таки прибыть без всяких часов минута в минуту, как поезд, точно в назначенный срок… Нет, крот куда хитрее меня, низко ему кланяюсь.
И все-таки… Измерить время! Измерить понятие… Мы его разграничиваем, ограничиваем, столбуем, ставим вехи. Иначе мы жили бы в уныло-однообразной пустыне, бродили бы по ней и никак не могли бы встретиться друг с другом, когда того пожелаем. Но мы хитрые, мы условились повсюду ставить вехи, указывать, отмечать, и поэтому мы являемся к антиподам на свидание с другого конца света в точно назначенный час и в точно указанное место. Если бы человек жил среди природы, совсем один, он не нуждался бы ни в мерах, ни в вехах… разве чтобы сварить яйцо… или высчитать, сколько требуется времени, чтобы сгнить на корню и перестать существовать. Это очень важно знать, когда в жизни что-то делаешь. Матисс при мне говорил как-то, что ему, здраво рассуждая, осталось жить столько-то лет, что у него еще есть впереди время написать то-то и то-то… „Научиться писать“, – добавил он. Ну, а если нам нечего в жизни делать? Что тогда измерять? Мера времени хороша лишь для упорядочения нашей деятельности; чтобы измерить время, которое превращает нас в труп. Если мы в щедрости душевной откладываем смерть до своего восьмидесятилетия, можно, в таком случае, вести счет наоборот, на манер радистов перед микрофоном, считающих от пятерки к нулю. Восемьдесят при рождении, потом остается… семьдесят девять, семьдесят восемь… И так далее. А в нулевой год мы становимся трупами. Или еще можно так: минус один год, минус два, минус три…
Только само время неуязвимо… Бывают различные трансформации в пространстве, но что, по-вашему, может происходить внутри этого полого бурдюка, именуемого временем? Оно не субстанция, с ним не может случиться ничего такого, что случается с тленной материей. Повторяю: пространство загромождено твердыми и текучими элементами, оно эволюционирует, но что, по-вашему, может случиться с пустотой?.. Время – оно лишь оболочка, емкость. Время и пространство… Странный союз материального и отвлеченного… Время… это слово употребляют чаще, чем имя божье, и даже не знают, что за ним скрывается. Говорят: „Время проходит…“, приклеивают к слову „время“ какой-нибудь глагол, заставляют его двигаться, тогда как оно лишь сосуд, да, да, огромный бурдюк, куда мы складываем вещи, независимо от их оболочки. Проходит наша жизнь, а вовсе не время. Время не изменяется, не эволюционирует, изменяемся мы, мы эволюционируем и еще обвиняем в этом неповинное время… Время – это лишь пространство в действии.
Я бьюсь, как муха, прикрытая стаканом. Я все вижу через стекло, я не могу выбраться и попасть по другую его сторону. Самое простое было бы смириться, устроиться в стакане, установить его размеры и жить сообразно им. Но я-то вижу через стекло! Пусть не так уж далеко вижу, не спорю, однако я знаю, что существует нечто по ту сторону стакана. И я начинаю суетиться, разбиваю себе крылья и голову о прозрачную перегородку. Я живу в стакане, как говорят: „жить во времени“. Живут во времени, внутри него; люди менее красноречивы, чем язык слов, человек существует только „от сих до сих“, а то, что выражает наш язык, является опытом множества поколений. Результат: мы живем во времени. Когда употребляют выражение „со временем“, это значит совсем другое. А роман? Он не протекает во времени, он не ставит нас рядом со временем – он впереди. Должен быть впереди. Только роман, поэзия могут прийти нам на помощь, когда мы до боли отбиваем себе крылья. Стоит нам подметить их игру по ту сторону стакана, радужную их игру, и вот мы уже не отрываем глаз от прозрачности: что-то непременно должно появиться!
Пока меня незаметно унесло течением в сторону романа, у Мадлены, не обладающей чувством времени, зазвонил телефон.
Мадлена в постели, с ощущением горечи во рту. Должно быть, действительно пора вставать, раз ей звонят… Да… Звонила мадам Верт. Мадам Верт считала, что отсутствие Мадлены слишком затянулось… Дела ждут. Послушайте, Мади, всему же есть пределы… Связь с внешним миром восстановилась, слово „время“ вновь приобретало смысл. „Я сегодня заеду“… – пообещала Мадлена.
Она аккуратно сложила бумаги, которые решила взять с собой, рассчитывая посвятить все свои вечера и ночи перепечатке рукописей Режиса. Не забыть бы „Любовную переписку“. Все прочее она как попало швырнула в чемодан. Надела платье, бросив брюки прямо на пол. Меховое манто. Красоту она наведет в Париже, ей все равно обязательно нужно сначала заехать к себе, чтобы запереть рукописи в сейф, поставленный специально для этой цели. Вдруг Мадлена громко произнесла: „Надоело…“ И остановилась на середине лестницы с чемоданом в руке. Ей любой ценой необходимо найти молодого энтузиаста, на чьи плечи можно было бы переложить весь этот груз. Но Никола Рибер умер, и она не знает, где его искать, этого молодого энтузиаста. Ладно, подумаем на досуге.
Откровения такого рода, осенявшие Мадлену, приходили к ней удивительно не вовремя, некстати, посредине лестницы. Но теперь самое главное – не заставлять ждать мадам Верт. Мадлена бегом спустилась с лестницы, прыгнула в машину.
У ворот стоял бродяга и даже приплясывал от радости, что Мадлена уезжает. Она высунула голову из окна машины: „Хорошенько заприте! И осторожнее с огнем!“ Бродяга по-военному козырнул в ответ. Рука его была похожа на черную черепаху.
IV. Мертвое время
В жизни Мадлены наступил период мертвого времени. Ага! Вот я вас и поймала с поличным! Раз время всегда „проходит“, и даже необратимо проходит, как же оно может быть „мертвым“? То, что мертво, больше не движется. Или, по; крайней мере, не движется в определенном комплексе, к примеру, в человеческом комплексе. Мертвый человек не движется, даже если его гниющее тело кишит червями. Не будем играть словами: мертвое время есть такое время, когда ничего не происходит, а раз ничего не происходит, время останавливается. Почему это всегда событие, действие, любые перемены тем или иным манером подменяют словом „время“? Это неправильно. Разве одно и то же время управляет жизнью человека, мотылька-однодневки, каменной глыбы? Если уж нам требуется употреблять понятие „время“, не будет ли правильнее измерять его степенью изменения материи? Правда, мы говорим, что собаке десять лет, хотя органические изменения у собак происходят в семь раз быстрее, чем у человека, и собака в десять лет по нашему человеческому счету уже достигла семидесятилетия. Арагон где-то приводит этот пример. Семьдесят лет необратимости. Но, в конце концов, это то же самое, что валюта различных стран: доллар равняется стольким-то франкам. На бумаге. Потом оказывается, что это вовсе не так, ибо покупательная способность, заработная плата, потребности в этих двух странах не одинаковы. Мерка времени – тоже фикция, час – это долго, когда ждешь любимого, час – это коротко, когда вам осталось прожить всего этот час. Все мерки, которые изобрел человек, подвержены биржевым колебаниям существования. Возьмите роман: столько-то страниц, столько-то часов на его чтение, и вы уже проглотили digest[9] о Столетней войне, или об убийстве, или о путешествии. Искусство романиста заключается в том, чтобы дать читателю таблетку, вызывающую определенные реакции: скажем, от аспирина вы вспотеете, а морфий утолит вашу боль. Это язык красноречивых глухонемых. Романисты заселяют вселенную безмолвными бабочками-словами, которые несутся тучей нам на радость или на горе…
Иногда мне хочется изобрести такой концентрат, который в минимальном объеме выражал бы максимум вещей. По сути, это и есть дело поэтов, и самым великим среди них дано вложить вою любовь, все отчаяние, даже самую бесконечность в несколько строк, в одну строку… Мы, романисты, мы многословны, чтобы не сказать болтливы. Мы не торопимся. Нам нужно сказать все и ничего и об этом и о том, лишь бы добраться до того, что нам особенно важно сказать. Мы пишем длинные письма незнакомым. Прежде, когда телефонные разговоры между странами только начинали входить в практику, чей-то голос говорил вам: „Ваш разговор будет передаваться по эфиру, мы не гарантируем тайны“. Наши романы безмолвствуют, но я от души желаю нам несохранения тайны. Быть услышанным! Вот оно огромное, подлинное счастье писателя – быть услышанным. Но так как все мы говорим одновременно и нас много, то этого очень трудно достичь.
Опять меня относит к роману – в этом виновато время. Сейчас понятие времени, нами же самими изобретенное, потрясено до основ. Как-то я разговаривала с одним ученым, математиком и лингвистом одновременно. Возможно, он был также и поэтом, потому что, когда я наседала на него с вопросами об относительности, о том, как соотнести время с пространством, он сказал мне, чуть показав куда-то вбок: „Ну да, похоже, что время несколько покоробилось“. А другой, которому я жаловалась, что чувствую себя в ладони времени, в его кулаке, что время меня душит, а вовсе не уносит с собой в своем движении по прямой, ответил: „Но раз вы так чувствуете, значит, оно так и есть“. От меня что-то скрывают. Если в глазах этих ученых я была только дамой, задающей нелепые детские вопросы, им, людям взрослым, ничего бы не стоило послать меня подальше… Но нет, они долго со мной сидели, искренне желали мне помочь. Боюсь, что для них время – не что иное, как время астрономическое, математическая формула, которую вычисляют как можно точнее во всех обсерваториях мира и которая необходима для их прочих выкладок.
Любопытно, что по-французски слово „время“ обозначает не только сумму лет, часов, секунд, но также состояние атмосферы… В других языках погода определяется особым словом „weather“ – по-английски, „Wetter“ – по-немецки, „погода“ – по-русски… но по-французски во всех случаях говорят „время“. Надо думать, что не я одна ощущаю время как некую среду, как что-то постоянно присутствующее вокруг нас, окружающее нас наподобие воздуха или воды, когда мы садимся в ванну. Это „что-то“ и есть время. То обстоятельство, что другие выражения могут отсутствовать в том или другом языке, не объясняет отсутствия точного выражения именно в данном случае. По-немецки говорят „Mensch“, по-русски – „человек“; оба эти слова включают в себя и мужчину, и женщину; по-французски же нет такого слова, зато есть понятие „человеческое существо“, что при переводе часто усложняет дело. Совсем иначе все обстоит с выражением „хорошая погода“ („хорошее время“). Тем более, что животные и растения обманываются, смешивают время и погоду, и когда стоит „хорошая погода“ – „хорошее время“, требуется меньше времени, чтобы из яйца вылупился муравей или из почки выполз листок. То же самое относится к процессу гниения: в „холодную погоду“ – „холодное время“ требуется больше времени для того, чтобы труп окончательно сгнил. В видоизменениях мира время – мера длительности и время-погода находятся в тесной связи.
Однако в жизни Мадлены случались периоды мертвого времени, как я уже говорила в начале этой главы. Так зовется время без вех, жизнь без неожиданностей. Кипы рукописей не таяли, обои не меняли рисунка, взрывы оасовских террористов замирали вдали, бунт и негодование Мадлены отсырели, как порох, мужчины все одинаково назойливо ухаживали за ней, были все на одно лицо, говорили одинаковым языком, у всех были одинаковые машины, все одинаково на нее обижались… Верховая езда, упражнения на трапеции давали ей одинаковую радость… Нет, Мадлена не скучала, она боялась лишь одного: чтобы не кончилась эта новая жизнь; так жители поселка, расположенного у кратера вулкана, боятся извержения, ничего о нем, по сути дела, не зная. Огонь и лава – она не думала о них, ее единственной заботой было поскорее износить свою жизнь, нося ее ежедневно.
Когда Мадлене сказали, что решено прибить мемориальную доску к тому дому, где жил Режис Лаланд, она подумала: „Что ж, очень хорошо!“ Но мысль воздвигнуть ему памятник в деревне, где родился Режис, показалась ей нелепой.