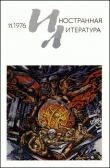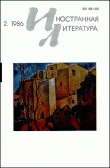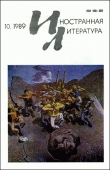Текст книги "Великое никогда"
Автор книги: Эльза Триоле
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
– Вообрази себе этот памятник, – говорила она крестной, – будет ли он похож на памятники Неизвестному солдату, какие есть во всех городках Франции, или просто поставят наводящую уныние глыбу – один черт. Нет ничего более неизвестного, чем памятники. Словно их нарочно делают так, чтобы никто не узнал, что за человек там изображен и кто его вылепил. Памятник ставят лишь затем, чтобы вы лучше ощутили всю глубину забвения.
Крестная сильно состарилась за последнее время, состарилась как-то вдруг, ее густые волосы поседели, и лицо, словно тончайшей вуалеткой, покрылось морщинами.
– Да брось ты возражать, – ворчливо сказала она: крестная становилась ворчливой, – вечно ты возражаешь, что бы другие ни делали…
Мадлена потерлась своей свежей щечкой о дряблую щеку крестной:
– Славная ты моя, ведь это я только тебе говорю, я не возражаю. Режис уже давно стал официальной фигурой, он награжден орденами, узаконен, стал собственностью государства, превратился в бронзу. А я еду к маме, хочу пожить спокойно. Я давно собираюсь, но на этот раз наверняка уеду! Перед отъездом повидаюсь со скульптором, меня просили показать ему все материалы о Режисе, находящиеся в моем распоряжении… Пусть лучше приедет ко мне за город, там есть портрет Режиса, сделанный Катрин, когда ей было десять лет, и кое-какие фотографии, я их еще никому не показывала. Не сердись, крестная, лучше поцелуй меня.
Крестная поцеловала. Режис ускользнул от Мадлены, а Мадлена ускользает от крестной. Хотя никто ее, Мадлену, у нее не отбирает. Крестная огорчилась – так огорчается мать, видя, что ее дочка осталась старой девой. Мадлена сидела, закинув по обыкновению за голову обе руки, вытянув ноги, длинная, прямая, и глядела в потолок.
– Мадлена, сядь как следует…
– Я все думаю, будет ли мама рада моему приезду… Не будь этой истории с памятником, я бы сегодня же уехала. Мне очень хочется посмотреть сестру и ее ребятишек… Иной раз мне кажется, что я просто старая дева, которой сам бог велит любить чужих детей. Никак не могу привыкнуть, что у меня нет детей. Я столько наслушалась рассказов о родах, что мне казалось, будто ничего не стоит родить десять раз подряд… До чего же он мне надоел, этот Режис… Клянусь тебе, отныне пусть говорят, что он каждый день делал упражнения по системе йогов, что он был женат на дочери японского императора, что он был эсэсовцем… что половина Сен-Тропеза принадлежала ему… что я уничтожила все его рукописи, что он любил только свою жену Женевьеву… что он насиловал своих учениц, что это было, так сказать, его призванием, – пусть, я опровергать не буду. В конце концов это и есть историческая правда, как ее проповедовал Режис, и Мадлена – пророк его.
– Бедная моя девочка…
V. Жили-были…
– Это не имеет никакого значения.
У скульптора было громкое имя. Он был из тех мужчин, что щеголяют в пиджаках из шершавой материи, в ярких шерстяных свитерах из кашемира, сбитый на сторону галстук небрежно повязан вокруг не-застегнутого воротничка, брюки – неглаженые. Кажется, так они и родились, настолько все это срослось с ними, как кожа, – не знакомо с утюгом и неподражаемо изысканно. Это как бы форменная одежда художников, архитекторов и прочих деятелей искусства, кому по средствам приобрести себе замок, „ролс-ройс“ и шить на заказ у портного, а также тех, кому нечего есть. Надо обладать наметанным глазом, чтобы определить качество шерсти, заметить, что брюки гармошкой вышли из рук дорогого портного. Писатели, литераторы – те ходя^ в готовых костюмах, потрепанных, залоснившихся или шикарных, но все-таки в костюмах. В середине нашего века трудно представить себе Пикассо или Брака, одетых, как Кокто, Ашар или Дрюон…
Короче, скульптор с громким именем, предмет восхищения одних и глумления других – в одном кармане истина и уверенность в себе, а в другом сомнение и тревога – курил трубку, сидя в кресле в загородном доме Мадлены, а Мадлена собирала все имевшиеся у нее изображения Режиса в различные годы, в различных местах и в различных позах. Скульптор был высокий, широкий, как зеркальный шкаф, чтобы не прибегать к иному, более редкому, сравнению, пожалуй, шатен, но черноусый; он посасывал трубку и говорил, что не придает никакого значения сходству с моделью. Равно как и исторической правде. В обыденной жизни он предпочитал, более того, требовал правды, и в устах его слово „ложь“ звучало почти как преступление… Но сходство с тем, что было… Важно, чтобы существовала история – как монумент, воздвигнутый для увековечивания памяти человека, а сходство – это неважно. Важно чувство, побудившее воздвигнуть памятник, а не физиономия изображаемого господина или дамы. То же самое относится и к нашей Истории: важно понять ее значение, ее задачи. А потом, когда нам сотворят прошлое, в общем, все более или менее встанет на место. В общем. Пусть мы ошибемся в причинах той или иной войны, причины эти вполне приложимы к другой… Будут говорить про такого-то короля, что он любил свою королеву, а про другого, что у него были фавориты мужского пола, и, если все происходило наоборот, – беда невелика. Сделано ли открытие тем-то или тем-то… лишь бы оно было сделано. Историки творят лжеперсонажей, факты, приводимые ими, неверны, комментарии сомнительны и подсказаны доктринами или особыми соображениями, но все равно в результате нам дают общую панораму прошлого, зыбкую, как поверхность воды, но все-таки панораму, даже если все роли, все лица, все костюмы, государственные соображения, битвы, дворцовые интриги в ней перепутаны. В конечном счете, все налицо, спектакль получается полноценный.
– Боже мой, – сказала Мадлена, – но раз все так перемешано, значит, играют не какую-то одну пьесу от начала и до конца! Кусочек из „Гамлета“, другой из „Картошки“, третий из „Лысой певицы“[10] – получится четвертая пьеса.
– Не следует углублять сравнений, мадам. Сравнение освещает истину лишь на миг. Никакой четвертой пьесы не будет. Я имею в виду, что при всех ошибках и фальсификациях нам показывают панораму, спектакль, который и есть наше прошлое. Есть добрые короли и короли злые, а как распределить между ними достоинства и пороки, это уже не имеет никакого значения.
– История должна служить нам уроком, мосье, иначе плевать мне на нее, как на прошлогодний снег.
– Уж не верите ли вы в науку, мадам? Конечно; если вы намереваетесь строить какую-нибудь философскую или социальную доктрину на базе Истории, мое представление о ней явно непригодно. А вы сами занимаетесь наукой?
– Ну ладно, давайте лучше выпьем по рюмке кальвадосу.
Мадлена поднялась, чтобы залить рюмки, а скульптор залюбовался ее нежной хрупкостью. Брюки на штрипках, туго обтягивавшие ноги, очень ей шли, на ней были мужские ботинки, а ножки – детские. Волосы разбросаны по плечам.
– Трудно представить себе нечто более красивое, чем ваше тело, – хмуро буркнул он в усы. – Это вам не История, тут все без обмана…
Комплимент доставил Мадлене большое удовольствие, очень большое.
Памятник предполагалось воздвигнуть на холме, у будущего перекрестка, напротив школы. Режис родился в деревушке, которая тогда еще не была одета в асфальт, камень и пластические материалы. Деревня исчезла, и памятник будет центром небольшой площади, вокруг него пройдет уличное движение. Между шоссе и школой еще стояло среди взрытой земли несколько старых домов, обреченных на слом, а на их месте вырастут высокие здания, и площадь превратится в перекресток, в нее вольются новые улицы. Школьный двор с вековыми платанами, единственными свидетелями детских дней Режиса, не тронули. Режис, которому так хотелось узнать тот край, где жила ребенком Мадлена, отнюдь не жаждал посещать погост собственных воспоминаний. И он ни за что не повел бы туда Мадлену: „Видишь, вот здесь у моего отца-лавочника был огород… А это лес… там была пропасть фиалок…“ Здание школы было совсем новое, с огромными окнами – солнце беспрепятственно заливало квадратные голые классные комнаты. Сельскую школу, где учился Режис, уже давно снесли, равно как и дом его родителей, мэрию перевели в другое помещение, но Режис Лаланд родился именно здесь, в этом теперешнем предместье Парижа, коль скоро в мэрии хранилась его метрика. Сейчас казалось, что было это много веков назад.
Мадлена со скульптором только что вернулись: Мадлена привезла его к себе, чтобы показать фотографии Режиса. Пока они осматривали парижский пригород, бывший когда-то родной деревней Режиса, кружили по будущей площади, осененной школьными платанами, и позже, когда они возвращались па машине домой, Мадлена все время представляла себе Режиса – совсем одного на пьедестале среди гула ребячьих голосов, доносящихся со двора школы… Мимо него будут проходить люди, торопясь к утреннему автобусу или к своим машинам, которые будут стоять у выросших вокруг домов, а слева от него потянутся по горбатой улице в молочную или в мясную хозяйки. Никто не бросит на него даже беглого взгляда… Да знают ли эти люди, кто такой Режис Лаланд, кто этот сын исчезнувшей деревушки? Просто подумают: „Смотри-ка, они поставили нам этого Режиса Лаланда…“ Люди всегда говорят „они“. „Похоже, они собираются строить автостраду…“, „Они велели срубить деревья…“, „Они построили теплоцентраль…“ Таинственные „они“! Что бы ни делалось в стране, всегда в ответе эти самые „они“. Впрочем, чем заменить это слово? „Правительство приняло решение“. Или „Министерство путей сообщения…“ Это целая кухня, сложный, неведомый нам механизм, это „они“ хозяйничают и пускают в ход этот механизм. „Они“ поставят нам памятник Режису Лаланду, и на сей раз Мадлена находилась в непосредственной близости к „ним“, даже в известной мере сама была „они“, раз собиралась помочь „им“ воздвигнуть памятник на „нашей“ площади.
Был понедельник, на дорогах мало машин. У скульптора был старенький „мерседес“ – сиденья из красной, почерневшей от времени кожи, покрытые ржавчиной никелированные части, – но эта неотказная труженица никогда не говорила „нет“, хотя мотор и даже сам кузов подозрительно потрескивали. Скульптор не прислушивался, станет он прислушиваться – он знал, что старушка не подведет, и вел ее машинально. Должно быть, он водил машину с малых лет, руки его созданы для баранки, сильные, ладные. Они катили молча, каждый думал о своем. Путь был неближний, нет на свете ничего более удаленного друг от друга, чем восточное и западное предместья Парижа. Скульптор отлично ориентировался, он, очевидно, знал окрестности Парижа назубок, иначе лучше было бы ехать прямо через Париж. Режис машины не водил. Мадлена была его шофером, он не любил автомобилей, предпочитал городской транспорт или ходил пешком.
Ворота им открыл бродяга. Вид у него был степенный, как у человека, преисполненного сознания важности своих обязанностей. Машина вползла по крутой дорожке, и их встретил потаенный рай Мадлены, волшебная, принадлежащая только ей, весна. Воздух был яростно свежий, необъятный. Мадлена потянулась, вздохнула полной грудью, закинув голову к небу… Как славно здесь после тесной клетки машины! Они направились к крепостной стене, и Париж открылся им в невообразимой дали – редкостное, как комета, явление; требовалась исключительная погода, исключительно прозрачный воздух, чтобы увидеть мираж Парижа, так как обычно города видно не было, присутствие его только угадывалось где-то там, вдалеке… Голубизна небес успешно подражала лазури, а в суровости сосен, скал, колючего кустарника, всего этого северного пейзажа чувствовалась на склоне дня какая-то странная теплота.
– Такое впечатление, будто вы сами произвели все это на свет божий, – сказал скульптор, обводя широким жестом небо, Париж, скалы.
В доме было прохладнее, чем на улице. Дениза приготовила дрова, Мадлена чиркнула спичкой… Им было хорошо, очень хорошо. Потом она принесла фотографии, и они долго их рассматривали, разбирали на большом столе, стоявшем посреди комнаты… Прошлое проходило перед Мадленой, царапало, играло на струнах ее нервов. В конце концов Мадлена – просто женщина, несчастная женщина, потерявшая мужа, вдова… Однако она не плачет. Она собрала свое прошлое, разбросанное по столу, она принесла вина. Потом немного рассказала о Режисе… Так они перешли к Истории.
Как видите, я непреднамеренно позволила себе этот невольный flash-back. Я не знаю, стоит ли наводить в романе порядок, так чтобы события следовали друг за другом во времени… Время… Всякий раз, когда слово это срывается с кончика моего пера, я чувствую легкий электрический разряд.
– К прошлому у нас есть ключ – настоящее, – говорил скульптор (скульптор буквально подвернулся мне под перо, хотя я сама этого не ожидала, только из-за памятника, который я задумала воздвигнуть Режису Лаланду). – „Анатомия человека является ключом к анатомии обезьяны“, – добавил еще скульптор, цитируя великих авторов. – Почему бы не применить эту систему к Истории? Она дала бы нам возможность объяснять явления в обратном порядке.
– Что-то тут не так. Обезьяна продолжает существовать одновременно с человеком, а прошлое и настоящее одновременно не существуют. Настоящее с космическими ракетами не дает ключа к прошлому, не знавшему электричества.
– Напротив, мадам. Идти от наиболее развитого к наиболее простому – значит получить ответ даже прежде, чем будет поставлен вопрос. Будь мы обезьянами, нам потребовался бы гений, чтобы угадать будущее, в данном случае – человека. Теперь, обладая умом человека, мы объясняем, как мы к этому пришли. Мы – обезьяны будущего.
– Что-то в вашем рассуждении хромает, но я слишком устала и не в силах поймать вас с поличным…
– Постойте-ка… Для того чтобы представить себе прошлое, надо вычесть то, что мы знаем сегодня. Для того чтобы представить себе будущее, надо поставить знак +. Настоящее + Х = будущему.
– И все-таки это не поможет вам выбрать единственно правильный образ Екатерины II среди различных ее образов.
– Да… Но образ не имеет никакого значения. История – это поиски причин и следствий. Де Голль, к примеру, и причина и следствие. Он– одно из следствий войны, а причиной тому война. Он – одна из причин теперешнего положения вещей во Франции.
– Выпьете еще кальвадоса?
– Выпью, спасибо… Я хочу также сказать вот что… Я прочел где-то следующее общее определение проблемы: „Знание того, чего еще не знаешь точно“. Точно знать, чего ты не знаешь, это и значит поставить проблему. Поставить проблему – это уже быть на пути к ответу. Хватит, я и так вам надоел. Уже поздно.
И в самом деле, было очень поздно… Они пошли на кухню, поели что-то на уголке стола…
– Я не предлагаю вам остаться ночевать… Боюсь потерять уважение бродяги.
Они вышли в прохладную тьму. Дошли до крепостной стены… Мираж Парижа исчез, только там прямо над этой туманной далью бледнело ночное небо, скупо усеянное звездами.
– Режис, – начала Мадлена, – искал Х вашей формулы будущего, тот самый который Х нужно приплюсовать к настоящему. Но искал он, если так можно выразиться, как сугубо „частное лицо“, вне религий, мистики, философии. И, как все люди, нашел лишь смерть.
– Мне хотелось бы сделать для вас что-нибудь замечательное…
– Режиса из камня… из живого камня…
Мадлена с трудом удерживала слезы. Он взял ее руки в свои чуть шершавые ладони.
– Мне, пожалуй, пора ехать… Пора, а?
Она проводила его до машины и побежала наверх в спальню, чтобы плакать, чтобы выплакать все свои слезы.
VI. You can't have the cake and eat it[11]
Всех, о ком я вам рассказываю, я прекрасно себе представляю. Знаю Мадлену до кончика ее ногтей, и скульптора, и крестную, и Женевьеву, и всех остальных своих героев. Но я плохо знаю Режиса, а это значит, что роман мой, если только это роман, на верном пути и что я рассказываю обо всем достаточно правильно, раз Режис без всяких усилий с моей стороны остается фигурой расплывчатой; то, что говорят о нем одни и другие, мешает мне отчетливо его себе представить, и я не слишком уверена, что мое первоначальное представление о нем было правильно. Случайно я узнала, что у него были голубые глаза, но это, пожалуй, единственное, в чем я уверена. Я представляю себе его то таким, каким он был для Мадлены, то таким, каким видел его старина Жан, потом о нем что-нибудь скажут крестная или Лиза, его сестра… Всему этому недостает единства: одно не только не дополняет другое, но даже противоречит. Впрочем, никто не отрицает, что он очень любил женщин, а потом не смотрел ни на одну, кроме Мадлены. Вот это, по-видимому, бесспорно. А все прочее зависит от того, с какими людьми говоришь, зависит от того периода времени, когда они встречались с ним, Режис Лаланд – то шутник, то человек загадочный, рассеянный, ни с кем близко не сходившийся. Одни говорили, что он любил веселиться, смеяться… что он был сентиментален… другие – что он знал иные, более глубокие чувства, нежели сироп сентиментальщины… Говорили, что это была открытая прямая душа, что он ненавидел ложь; откуда же тогда эти мистификации с историческими трудами, детективные романы… Я не представляю себе ни физический, ни моральный облик Режиса: у него были голубые глаза, ладно, но был ли он высокого или низкого роста, блондин, шатен или брюнет? Мнения на сей счет расходятся. Рост человека – это вопрос личной оценки, и даже картины и снимки не дают представления о росте. Помню, как я удивилась, увидев мать английской королевы, – по портретам я представляла ее себе очень высокой, а она оказалась совсем низенькой. Возможно, вы скажете, что я ошибаюсь и что она вовсе не низенькая, но мне она показалась низенькой. То же самое происходит с актерами: на сцене они другого роста, чем в жизни… Только исключительное – гигант, карлик – воспринимается всеми одинаково… Если все согласны насчет голубых глаз Режиса, значит, глаза у него были голубые. Тот, кто видел их черными, никогда их не видел – он просто лжет.
Но в одном я уверена… Его отношения со вселенной были невыносимы. Наш ограниченный мир был для него тюрьмою, и он старался разобрать ее стены, подпилить решетки, пытался вырыть подземный ход. Однако непостижимое зорко несло караул, и алмаз научной логики лишь скользил по скользкой и гладкой стене узилища. И все же он был весел, сидя в тюремной камере, и хотя каждую минуту выкуривал свою последнюю сигарету смертника, это не мешало ему вести себя, как будто он живой. Не постигая смерти, он не казал пред нею труса. Если верить Мадлене, Режис Лаланд был великим романистом, по обостренное сознание своего незнания, возможно, превращало его еще и в человека.
В мертвого человека, каков он в данный момент. И нет в человеческом языке ни единого точного слова, чтобы выразить этот страх, это смятение, бунт, покорность, рабское состояние, в котором мы вынуждены жить, эти унижения и оплеухи, на которые не скупится природа, грубую ее силу, всю совокупность человеческих чувств перед лицом смерти. Наше бессилье. И все-таки есть что-то совсем рядом, у нас под рукой, что-то, чего мы не в состоянии схватить. Режис предлагал лишить неизбежное жала его. Собственная смерть стала для него облегчением, пугающим облегчением.
Живые повсюду и всегда относятся к смерти почтительно. Если только речь не идет о сведении счетов, о вендетте. Не скажете же вы, глядя на покойника: „Слава богу, приятно все-таки, одной гадиной меньше“… Достаточно человеку умереть, и тут же, каков бы ни был покойник, на сцену выступает почтение к самой смерти, и прохожие, завидя на улице похоронную процессию, снимают шляпу не из сочувствия к горю живых, а из уважения к небытию, которое везут в деревянном ящике. Здесь играют роль также и рыцарские чувства: тот, кто перестал жить, не может более защитить себя в своем теперешнем состоянии, и, если человеку присуще чувство чести, он не будет бить лежачего, а тем более труп, – это не принято. Мертвец – всегда еще одна жертва нашего общего заклятого, подлинного врага: смерти. Человек всячески изощряется, чтобы отнять у смерти жертву ее, продлить жизнь мертвеца, храня о нем память; теперь, ради вящей иллюзии, мы располагаем для этой цели кинофильмами, пластинками, а там, глядишь, изобретут еще что-нибудь… Если, к примеру, науке удастся с помощью энцефалограммы уловить процесс мышления в человеческом мозгу, тогда можно будет построить машину, которая точно воспроизведет этот процесс, перенеся на ленту то, что происходило в мозгу ушедшего. Мы будем спрашивать себя: как поступил бы наш обожаемый покойник в таких-то и таких-то обстоятельствах? В машину заложат наш вопрос, нанесенный на перфорированную карточку, и мы получим ответ.
И только тут мы поймем, до чего же наш дражайший покойник был недалек… А при наличии последних научных открытий и перемен, происшедших в нравах, станет особенно ясно, до чего он, милый, был глуповат. Фотография мысли и даже дагерротип ее – вот что даст нам любопытнейшее представление о прогрессе или регрессе человеческой мысли. Но уже сейчас, хотя мы еще не научились улавливать движение мысли под черепной коробкой, мне легче от сознания, что союз философии и математики существует: раз ход мысли может быть выражен математической формулой (я думаю то, и я думаю се, я произвожу сложение и получаю сумму – последующую мысль), значит, создание машины, воспроизводящей весь процесс мышления, – дело недалекого будущего. Вообразите великого ученого, зафиксируйте ход его последних мыслей, сложите их, вы, возможно, получите потрясающий научный итог. Все это фантазии, за исключением реально существующей мысли, философской и научной мысли, закидывающей свою удочку в неизвестное.
Что касается памятника Режису, то тут действовала старая, как мир, похоронная традиция. Пирамиды и мумии, стелы, часовни, бальзамирование, фрески, живопись и скульптура, проза и стихи… все… – лишь бы удержать память о человеке. Смерть, что ты на это скажешь? Молчишь, не удостаиваешь ответом… Все это рухнет в свалку небытия, не беспокойся.
Видимо, скульптор всерьез занялся проектом памятника Режису: он не давал о себе знать, и у Мадлены была уйма времени вспоминать, фантазировать, воображать… Она так и не уехала на ферму повидаться с матерью.
„Отчего вы так похорошели, Мади?“ – допытывалась мадам Верт, сидя в своем кабинетике, примыкавшем к магазину и заваленном сотнями образцов обоев… Вблизи было видно, что мадам Верт сильно постарела, держаться ей становилось все труднее, и было что-то трагическое в ее усилиях сохранять за собой командные высоты.
Теперь она выказывала в отношении Мадлены нежность уже не лесбийскую, а настоящую материнскую нежность, однако перекладывала на нее все больше дел, отнимала у нее все больше времени, передавала ей кое-каких клиентов, которыми занималась раньше сама, не только клиентов, но и всю декоративную часть. Круг знакомств Мадлены чудовищно расширился, и множество дел валилось ей на голову. К несчастью, обои влекли за собой связи с людьми, а главная трудность для Мадлены заключалась теперь в том, что естественный интерес, с каким она относилась к модным увлечениям – лыжам, клубу „Режин“ и любовной истории принцессы Маргарет, – к тому, чего она сама была частью… – так вот, этот интерес иссяк. Она побывала в этом мире и возвратилась оттуда, созревшая для иных странствий.
– Должно быть, от занятий гимнастикой, Эдит, – Мадлена уже давно звала мадам Верт просто Эдит. – Я делаю определенные успехи на трапеции… Вообще-то я не раз думала, что, избрав обои, я ошиблась в призвании, мое истинное призвание – трапеция.
– Какая трапеция? – озадаченно воскликнула мадам Верт. – В цирке?
– Да, в цирке… Я люблю цирк.
– Вы неподражаемы, Мади! Цирк? С рыжим и слонами?
– Ну да… И наездницами.
– Наездницами! Мне ужасно хочется посмотреть, как вы тренируетесь, возьмите меня как-нибудь с собой, хорошо?
– Конечно, возьму, если вам интересно… А что нам делать с розовыми обоями для спальни мадам Давыдовой? Трех рулонов не хватило, в новой партии есть обои почти в тон, но мадам Давыдова и слушать ничего не желает…
– Может, вы к ней заглянете? Если у нее есть большой шкаф, можно наклеить новые обои позади шкафа.
Идти к мадам Давыдовой и смотреть, есть ли у нее большой шкаф. Ну и жизнь! „Ладно, ладно, – поспешно говорила мадам Верт, – я сама схожу“. А ведь Мадлена даже не возражала.
– Спасибо, Эдит. Бывают дни, когда проблемы мадам Давыдовой меня как-то не волнуют.
Мадам Верт взяла книжечку с образцами обоев, одним движением большого пальца перелистала их, и они пропорхнули перед ней…
– У вас проблемы, Мади? Значит, из-за них вы так похорошели?
Мадлена отрицательно покачала головой… Ее проблемы все те же, они известны мадам Верт, это по-прежнему творчество Режиса, вся эта шумиха, поднятая вокруг него, а теперь еще памятник, который вздумали поставить в Л. Мадам Верт слышала о памятнике, да, как раз сегодня в „Фигаро“ помещен снимок… Как, снимок? „Ну да, если не ошибаюсь, скульптора Дестэна? Непревзойденный художник! Я сразу подумала, не мог бы он что-нибудь сделать для нас, для обоев…“ – „Вы говорите, в сегодняшнем „Фигаро“?“ – „Кажется, да… или во вчерашнем… Я увидела и сразу подумала, как приятно будет Мади…“
Мадлена завтракала с молодой американской четой в ресторане на бульваре Сен-Жермен. Она купила „Фигаро“, но ничего не оказалось… Очевидно, мадам Верт просто померещилось. Но ее удивило, что, услышав от Эдит имя „Дестэн“, она почувствовала, как у нее ёкнуло сердце. Неужели испугалась, что ее оттеснят от того, что делается вокруг Режиса, будь то Дестэн или не Дестэн? Он отнял у нее целый день, просматривая документы, говорил о Режисе, а потом исчез… исчез! Инициатива возведения памятника исходила от кружка по изучению… Этот кружок, а может быть, и Бернар лично, посоветовал Дестэну повидаться с ней, она даже на минуту поверила, что они стали к ней лучше относиться… Как будто это возможно! Дестэн выудил из нее все, что могло ему пригодиться, во всяком случае так ему казалось. А ее, Мадлену, по-прежнему считают пятой спицей в колеснице, когда дело касается Режиса, подумать только – Режиса, да, Режиса, ее Режиса… Американка прогнусавила что-то насчет того, что мадам Лаланд, должно быть, не понимает по-американски и что француженки вообще ничего не едят.
Мадлена не слушала, что говорилось вокруг. „Фотография?.. Нет, невозможно! Я виделась с Дестэном в конце марта – в начале апреля… Сейчас июль. Уже что-то есть, что можно сфотографировать? Макет? Не показав мне? Он обошелся со мной, как и все прочие… Должно быть, в кружке обо мне бог знает чего ему наговорили. Они хозяева. А ведь я ему помогла. Сейчас пойду и скажу мадам Верт, что немедленно ухожу в отпуск. Поеду к маме, вот уже целый год я твержу, что еду к маме, но на сей раз действительно поеду. Немедленно…“
Мадлена так страдала, словно вся была покрыта синяками и ранами. Почему всегда получается так, что она насилует мужчин? Режиса, Бернара… А после не может от них отвязаться. Столько вертелось вокруг нее мужчин, и все преследовали ее своею любовью, но стоило лишь мужчине понравиться ей, как для нее наступала пора крестных мук.
Она вернулась домой, уложила чемодан. Написала несколько писем Дестэну. Разорвала их. Послала матери телеграмму: „Выезжаю“.
Позвонила в гараж и велела приготовить машину. Стойко выдержала сцену, которую ей устроила мадам Верт. Поручила квартиру Мари и нафталину. Не сомкнула глаз всю ночь. А на заре уже была в пути.
Она глядела на бегущую перед ней дорогу, и ей чудилось, будто Режис сидит с ней рядом. Понравился бы Дестэн Режису Лаланду? Не думать о Дестэне. Или уж, забыв стыд, броситься ему на шею. Она включила радио. Музыка накинулась на нее. Мадлену подхватили, затопили, убаюкали даже еще не волны музыки, а какая-то восторженная радость, которая постепенно изживала себя. Так что вскоре она опять погрузилась в свои мысли.
„Сходство? Какое это имеет значение!“ Музыке повезло: ее не упрекнешь в несходстве… ее нельзя по недосмотру перевернуть вверх ногами. Она может походить только на себя самое, на такую, какой она была раньше. И этого достаточно: если она не похожа на себя самое, ее упрекают, что это, мол, не музыка. Ухо тоже хочет понимать. А ведь несовершенство нашего слухового аппарата равно несовершенству умственному или нравственному, не позволяющему нам понять картину или книгу, если они не похожи на уже виденное и знакомое.
На что похоже прошлое? На что будет походить будущее? Понимает ли лучше взрослый современного ребенка, чем ребенка прошлых лет, ребенка, каким был он сам? Режис дивился романистам, которые любой ценой старались быть современными. „Раз они такие честолюбивые, – говорил Режис, – почему бы им не попытаться обогнать свое время?“ Но сам Режис, чтобы не чувствовать на себе груза времени, которое так беспокоит романистов, предпочел бы писать вне времени… „Жили-были…“ Разве романы Режиса датированы? Он всегда притворялся, этот фокусник, будто его дело сторона, будто он говорит о романе чисто теоретически… „Будь я романистом, – говорил он, – я писал бы реалистические романы. Чтобы досадить всем этим господам. И потому, что слишком легко писать так, чтобы произвести впечатление. Будь я романистом, я писал бы в наитруднейшей для романиста манере: абсолютно разборчивым почерком. А в случае надобности вырезал бы из газеты буквы и наклеивал их на чистый лист бумаги. Как анонимное письмо. Без подписи“. Что он и делал… Ах, эти романы, прозрачные и кипучие, как вода, в которой водятся форели! И где они преспокойно дохнут… При парижском водопроводе имеется форель-пробник, ее держат в аквариуме, сквозь который пропускают водопроводную воду: если форель сдохнет, значит, вода не пригодна для питья. Все герои Режиса умирают– таков закон детективных романов… Вода с виду прозрачная, но Остин умирает. Романы Режиса идут от Гоголя, Кафки, Беккета… Невыносимые романы. Другими словами, Беккет пишет о человечестве, уже прошедшем через определенные стадии: о том, что от него осталось, как отравленная толпа в романах Режиса… Бедная форель, бедный Остин… „Жили-были“. На полях рукописи „Остин“ имелась пометка: „А что, если бросить к черту эту живую воду? Заняться самым неотложным? Когда у человека кровотечение, делаешь самое неотложное… Следует ли заняться неотложным?“ Однако он кончил „Остина“.
„Если я все время буду думать о романе, кончится тем, что я сама попробую написать роман… Хороший или плохой, неважно – все они недолговечны. Режис умер, и его романы хранятся в сейфе, но прочтут ли их миллионы мужчин и женщин, надолго ли эти романы переживут своего автора? Они стареют, как автомобили, самолеты, как черно-белые, немые, дергающиеся фильмы… Они – лишь свидетели своего времени, бесполезные, ни на что не пригодные. Только они одни – истинная История, со всеми ее этапами. Если бы я стала писать, я не вынесла бы мысли, что я лишь этап. Ага, но ведь „Песня песней“ не этап! Я напишу „Боль болей“! Заглавие уже есть! Остается написать к заглавию роман. Дура несчастная!“