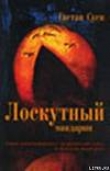Текст книги "Китайский секрет"
Автор книги: Елена Данько
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
Барон Черкасов

Виноградов получил приказ ехать в Москву и явиться к барону Черкасову, управляющему кабинетом ее величества.
В доме Черкасова на Тверской было темновато и душно.
Сени были заставлены огромными сундуками.
По углам шептались какие-то старухи в старинных шушунах.
Барон Черкасов, чернобровый толстяк, вышел к Виноградову в засаленном шелковом халате, с лицом, еще опухшим от вчерашнего кутежа. Он хмуро взглянул на молодого ученого и приказал подать себе квасу. Он и не подумал пригласить Виноградова сесть.
– Ее императорскому величеству угодно порцелиновую фабрику в Петербурге учредить, – хмуро сказал Черкасов, отхлебнув квасу. – Для той фабрики выписали мы из Стокгольма немецкого мастера, в порцелиновом деле зело искусного. Чтобы порцелиновый секрет в русских руках был и сей мастер не вздумал бы оного таить или с ним уехать, а нас на бобах оставить, порешили мы тебя к этому делу приспособить. Смотри, учись, примечай, как мастер посуду делает, и, – тут Черкасов стукнул кулаком по столу, – чтобы к Пасхе ее величеству фарфоровый презент был готов! Ступай!
Виноградов молча повернулся к двери.
– Нет, постой! Возьми в канцелярии бумаги и там узнаешь, что тебе надлежит делать. – И барон Черкасов, довольный тем, что одно дело свалилось с плеч, отправился подсчитывать свои карточные долги и готовиться к званому обеду.
Виноградов пошел в его канцелярию, где запуганный писец с гусиным пером за ухом сказал ему, чтобы он ехал в Гжель.
Гжель

Испокон веков гжельские гончары возили в Москву горшки, миски, кувшины своего изделия. Они наполняли московские базары веселыми шутками и звоном блестящей, красно-коричневой посуды.
В гжельских оврагах под Москвой залегали разные годные для гончарного дела глины. Здесь брал глину для своей фаянсовой посуды и купец Афанасий Гребенщиков. Он встретил Виноградова, приехавшего на телеге из Москвы, у избы, отведенной для приезжих.
– Ну здравствуйте! – сказал он. – За глинкой приехали? Так, так, фарфоровую фабрику строить будете. Ну, ну, поглядим. Мы люди темные да неученые, а вы на немецкий манер выучены. Вам и книги в руки.
Гребенщиков поглаживал свою седую бороденку, и глаза его недоброжелательно и хитро поблескивали из-под косматых бровей. Виноградов вспомнил, что Гребенщиков сам хотел делать фарфор, да у него не вышло. Теперь он был недоволен, что это поручено другим.
– А что, немецкий мастер приехал? – спросил Виноградов.
– Как же, как же. Сидит спеся, ножки снеся, тебя ждет, – уже совсем недружелюбно ответил Гребенщиков и пошел в избу. Виноградов последовал за ним.
– Ах, мейн герр! – бросился к нему навстречу худой человек с вязаным шарфом на шее. – Ах, мейн repp! Как я рад, что вы наконец приехали. Никто здесь по-немецки не понимает; старик этот, между нами говоря, просто плутует со мной, – тараторил по-немецки незнакомец. – Мое имя – Гунгер, Конрад Гунгер, – сказал он, пожимая протянутую руку Виноградова. – Я – арканист, изобретатель саксонского фарфора. Будем друзьями.
– Как? – спросил Виноградов. – Ведь изобретателем фарфоровой массы, я слышал, называли Иоганна Бётгера?
– Мы с ним вместе, вместе работали, – заторопился Гунгер. – Ах, какой, это был друг! Бывало обнимет меня и скажет: «Если бы не ты, Конрад, я бы никогда не сделал фарфора». Увы, его уже нет в живых! – Гунгер вытер глаза грязноватым платком.
– Что же, будете ямы смотреть? – грубовато спросил Гребенщиков. – Неровен час, снегопад начнется, тогда несподручно будет глину доставать.
Они втроем вышли из избы и отправились к ямам, откуда добывалась глина.
«Мылянка» и «песчанка»

В большом сарае они поставили кадки и чаны для промывания глины. Виноградов объездил и обошел все окрестные ямы, где только добывалась глина. Куски сухой глины были сложены под навесом.
Они искали такую глину, из которой можно было бы делать фарфор. Белая глина из деревни Жировки, которую звали «мылянка», показалась Гунгеру подходящей.
– Это для фарфора, – сказал Гунгер.
Виноградов удивился. При промывании от этой глины очень трудно было отделить песок; от другой глины, «песчанки», песок отделялся легко.
– Вы ничего не понимаете, молодой человек, – сухо сказал Гунгер. – Позвольте мне лучше знать, я устраивал фарфоровые фабрики и в Вене, и в Венеции, и в Стокгольме. Ваша «песчанка» годится только для кирпичей. – И он передал Гребенщикову через Виноградова, чтобы тот приготовил и отправил в Петербург две тысячи пудов «мылянки» и шесть тысяч пудов «песчанки».
Гребенщиков замахал руками.
– Да в уме ли он, твой немец? Да у нас такой уймы глины никогда не копали. Да где же ее копать-то зимой?
Гунгер требовал, Гребенщиков не соглашался. На помощь пришел Виноградов. У гончаров, гжельских крестьян, была с лета накопана глина. Сколько нашли, столько и купили и отправили в Петербург.
Дорога

Гунгер и Виноградов, кончив промывание глин, тоже выехали в Петербург – в крепкие рождественские морозы по санному пути. Они ехали девять дней.
Гунгер зябко кутался в шубу и не уставал бранить Россию и русских. Ему казалось, что с ним все плохо обращаются.
– Не забудьте, что я арканист саксонского короля, – говорил он, – я привык, чтобы меня уважали. Любой король в Европе будет благодарен, если я предложу ему свой секрет.
Потом Гунгер начинал клевать носом и, неожиданно проснувшись от толчка на ухабе, говорил:
– Я подал просьбу царице Елизавете, чтобы она пожаловала мне золотую медаль за изобретение. Как вы думаете, получу я эту милость?
– Но ведь мы еще не сделали фарфора из русских глин, – отвечал Виноградов.
Кругом простирались снежные равнины. В снегу серели редкие убогие деревушки. Днем путникам попадались по пути крестьяне на худых лошаденках, уныло тащивших в город какую-то поклажу.
Конвойные солдаты вели каторжников. Цепи гремели на их посиневших от мороза руках. У иных из них лица были заклеймены железом, а ноздри – вырваны.
Встретив партию каторжников на одном почтовом дворе, Виноградов спросил старика-арестанта, за что его заклеймили.
– Не только заклеймили, батюшка, батогами со спины кожу трижды спустили. Я на барина руку поднял, – ответил каторжник.
– С чего же ты так?
– А он моего сынишку велел собаками затравить. Собаки презлющие, на медведя ходили. Сынишка в дворовых служил у барина, да не угодил чем-то, так за то.
По ночам над снежными равнинами вставали звезды. Вдалеке завывали волки. Сидя в санях рядом с дремавшим Гунгером, Виноградов думал об огромной, несчастной русской стране.
Иногда, глядя на небо, он вспоминал стихи Ломоносова и потихоньку твердил их про себя:
Лицо свое скрывает день;
Поля покрыла мрачна ночь;
Взошла на горы черна тень;
Лучи от нас склонились прочь;
Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне – дна.
Тогда жить становилось легче.
На кирпичных заводах

– Но это невозможно! Это ужасно! – сердился Гунгер, бегая по небольшой светлице в бревенчатой избе. – Я не затем сюда приехал, чтобы меня отправляли куда-то на край света, в темную дыру, в болото! И это, вы говорите, место для фабрики? Фарфоровая фабрика должна быть при дворе! Там я мог бы блеснуть моим искусством! Я привык к хорошему обществу, я живал во дворцах, а меня засадили в какую-то яму! Я не стерплю этого, я сейчас же напишу жалобу императрице!
И, схватив лист бумаги, Гунгер писал, ожесточенно разбрызгивая чернила гусиным пером.
Его и Виноградова отправили на кирпичные заводы, устроенные еще при царе Петре на левом берегу Невы, среди болотистого перелеска. Здесь они должны были строить фарфоровую фабрику.
Виноградову тоже было грустно. Десять верст дороги, совсем непроходимой в осенние дожди, отделяли его от города, от книг, от других молодых ученых и от друга – Ломоносова. Но главное было – поскорее бы начать работу, поскорее бы сделать фарфор, тогда, может быть, фарфоровую фабрику переведут в город, если Елизавета будет милостива.
Они с Гунгером поселились в одной половине бревенчатой избы, а в другой Гунгер хотел устроить точильное отделение. По указанию Гунгера строился амбар для обжигательной печи. Гунгер распоряжался, Виноградов переводил его требования на русский язык и смотрел за исполнением работ.
Черкасов скупился на деньги для фабрики.
– Нечего деньги бросать! – говорил он, когда Гунгер просил сделать на амбаре для печи черепичную крышу. – Нечего деньги бросать! – повторял он и отказывал Гунгеру в просьбе устроить каменный пол в избе, где будут промывать глину. Он не понимал, что черепичная крыша не загорится от вылетающих из печной трубы искр, что каменный пол предохранит глину от пыли.
– Работайте поскорее! – говорил он и прислал Гунгеру масленку из саксонского фарфора для образца.
А на новой фабрике дело не двигалось. В избах протекали крыши, рабочие не получали жалованья.
Что бы ни приказал Гунгер, все приходилось переделывать. Управляющий кирпичным заводом, итальянец Трезин, ссорился с Гунгером.
«Разговоры от Гунгера очень довольно приличны, а что будет впредь какой от него плод, мы не знаем, – писал Трезин Черкасову. – Слыхали мы, что был он в Гишпании и в Венеции, в Вене и потом в Швеции, но нигде будто плода от него не принесено, а правда или нет, впредь подлинно окажется».
Так прошел год.
Ссора

Виноградов тосковал. Гунгер, запершись в своей комнате, что-то проделывал с глинами. Он не пускал Виноградова взглянуть хоть одним глазком на составление массы. Он не позволял Виноградову самому брать глину и делать с ней опыты. Он не хотел делиться ни с кем секретом фарфора. Виноградову ничего не оставалось делать, как переводить на русский язык распоряжения Гунгера или писать под его диктовку длинные жалобы Черкасову. Для того ли учился он химии?
Гунгер приказал рабочим толочь алебастр для массы в чугунных ступках.
– Мейн герр, – сказал ему Виноградов, – не лучше ли толочь алебастр в каменных ступках? От чугуна могут отскочить частички, они попадут в массу вместе с алебастром и испортят посуду при обжиге. Ведь металл при нагревании расширяется иначе, чем глина.
– Нет! – закричал Гунгер. – Кто из нас директор фабрики – я или вы? Вы во все суете ваш нос. Я не позволю вам больше ходить в мастерские!
В длинные осенние вечера Виноградов читал при свече в своей избе и переводил на русский язык латинские стихи. Он сделал полочку для книг над своей кроватью и, когда у него бывали деньги, ездил в город и покупал книги и журналы.
Однажды, вернувшись домой, он заметил, что кто-то рылся без него в его тетрадках со стихами и читал книги.
Это Гунгер подсматривал, что пишет Виноградов, не открыл ли он секрет массы? Тогда Виноградову опостылело писание, и он стал уходить из дому.
В белые летние ночи невские берега были пустынны. Круглая луна вставала над лесистым мысом. По реке тихо скользили плоты. Костры на плотах бросали на воду красные отсветы. Из-за реки доносилось пенье.
Виноградову вспоминались студенческие песни в Марбурге.
Он садился в челнок и сильно греб, пересекая реку наискосок. За рекой, в поселке Веселом, молодежь водила хороводы, и бойкая финка торговала вином. Туда уезжал Виноградов от гложущей тоски на фабрике, где ему не давали работать.
Однажды, вернувшись вечером домой, Виноградов запнулся в сенях за что-то мягкое и кубарем полетел на пол. Потирая ушибленное колено, он зажег свечу. На полу, поперек двери, храпел один из фабричных сторожей.
– Что ты тут делаешь? – спросил Виноградов, растолкав спящего. Сторож зевнул и, почесав в затылке, ответил:
– Да, вишь, Дмитрий Иванович, немец мне наказал…
– Что немец наказал? Под дверью валяться?
– Точно так, Дмитрий Иванович, тебя сторожить наказал. Как придет домой Виноградов, так, говорит, беги ко мне и скажи. Я, говорит, министру Черкасову отпишу, как он по ночам шляется.
Виноградов вспыхнул. Гунгер за ним шпионил!
– Прикажете к немцу пойти? – спросил сторож, подбирая одежонку с пола.
– Нет, я сам пойду!
Виноградов распахнул дверь в комнату Гунгера. Гунгер высунул нос из под одеяла и опять спрятался.
– Вы не смеете шпионить за мной! – крикнул Виноградов. – Вы не даете мне работать, не пускаете меня в мастерские, а теперь еще хотите доносить на меня!
– Не кричите на меня, молодой человек! – вдруг заорал Гунгер, и кисточка на его ночном колпаке подпрыгнула вверх. – Я – ваше начальство!
– А! – Виноградов ударил деревянной табуреткой об пол и выбежал из комнаты.
На следующий день Черкасов получил жалобу, написанную рукой Гунгера.
Гунгер плакался, что «вчера в 11 часов ночи паче чаяния» к нему ворвался Виноградов с палкой и кортиком в руках и угрожал его жизни. «Таким образом я здесь в России отпотчеван нахожусь! Я на фабрику до тех мест не пойду, пока сей безбожный человек при оной быть имеет».
«Безбожного» человека не отпустили с фабрики, но его вовсе отстранили от дела. Гунгер боялся, что ученый химик скорее, чем он сам, сделает фарфор.
Так прошел еще год.
Арканист-неудачник

Виноградов был прав: от глины «мылянки» плохо отделялся песок, из нее нельзя было делать посуду. После неудачных опытов с «мылянкой» Гунгер принялся делать фарфор из «песчанки». Из первого обжига посуда вышла непрозрачная, без глянца и желтого цвета. Она была непохожа на фарфоровую.
– Это оттого, что печь топилась сосновыми дровами, – сказал Гунгер.
Ему привезли березовых дров. Из этого обжига посуда вышла еще хуже. Гунгер сказал, что плохо сложили печь. Печь переделали. Посуда вышла еще желтее. Печь опять переделали. Вместо посуды из обжига вышли какие-то желтые лепешки.
– Кто-то заколдовал печь! Это нечистая сила наворожила! – говорил Гунгер, сам желтый от злости, как его посуда. Он опять заперся в своей комнате и что-то делал с глинами. Он клялся Черкасову, что он «все порцелинное искусство и науку совершенно знает» и, если его оставят в покое, он через год покажет «существительную порцелиновую пробу, которая саксонскому порцелину ни в чем не уступит».
Год не принес ничего нового. Гунгер не знал секрета фарфора. Тогда он предложил устроить царице уже не фарфоровую, а фаянсовую фабрику. Черкасов в ответ послал ему «апшит» – приказ о том, что он уволен, и паспорт для выезда из России. Так кончилась работа в Петербурге таинственного «арканиста», какие тогда странствовали по всей Европе, хвалясь знанием «китайского секрета» и соблазняя то одного, то другого тщеславного царька устройством фарфоровой фабрики.
Пирушки с Бётгером не научили Гунгера химии.
Черкасов поручил Виноградову сделать фарфор.
Победа химика

«Дело порцелина химию за основание и за главнейшего своего предводителя имеет», писал Виноградов в своем журнале, куда тщательно записывал все свои опыты с глинами.
Он работал дни и ночи, радуясь, что ему можно работать, как когда-то работал Бётгер в павильоне над Эльбой.
Из гжельских глин он выбрал глину «черноземку», сероватого цвета. Он стал подбавлять к ней кремень или кварц и алебастр.
Глину распускали в воде, много раз процеживали через сита, потом сушили в печах. Кремень или кварц прокаливали в горнах, потом толкли в ступках, теперь уже не в чугунных, а в каменных. Потом мололи на мельницах так, чтобы кремень и кварц превратились в мелкий порошок.
Потом Виноградов смешивал глину, кремень или кварц и алебастр и пробы обжигал в печи. Он без конца делал опыты, прибавляя то больше кремня, то больше алебастра, потому что от того, сколько войдет в массу того или другого, зависели белизна и крепость посуды.
Посуду обжигали сначала в небольших угольных горнах – «откаливали», потом расписывали ее синей краской – кобальтом – и покрывали глазурью. Глазурь состояла тоже из кремня и алебастра, к которым подбавляли мелу.
Потом посуду ставили в дровяную печь. Посуда должна была выйти из огня белой, звонкой и блестящей.
Виноградов с тетрадью в руках не отходил от печи. Он прислушивался к треску дров, присматривался к цвету пламени и, прильнув к слюдяному окошечку печи, ждал минуты, когда поставленная в огонь проба накалится так, что начнет светиться.
Он записывал в свою тетрадь:
«Закрытого огня было два часа, открытого – пять с половиной. Дрова были олонецкие, сухие, огонь – белой, чистой. Проба в огне явилась хороша, прозрачна…»
Потом кончали топить. Печь медленно выстывала. Кирпичи неохотно отдавали жар. Виноградову не терпелось взглянуть поскорее на готовую посуду. Наконец печь открывали. Виноградов, волнуясь, снимал крышки с капселей и вынимал еще теплые чашки, чайники, тарелки.
С потемневшим лицом он отставлял их в сторону. Они были кривые, покоробленные, а иные – растрескались в огне.
Скрепя сердце, химик продолжал начатую запись:
«… а в печи посуда испортилась. Не много здоровых вещей вышло. Кофейник новый хорош бы, да погнулся…»
И он снова принимался за опыты, составлял новые массы, прибавлял в них то больше кварца, то больше алебастра, но посуда из новых масс тоже коробилась в дровяной печи. Неужели ученому химику не будет удачи, как не было ее у шарлатана Гунгера?
Черкасов прослышал, что в Берлине напечатана книга «Открытая тайна китайского и саксонского порцелина, сочиненная от знающего сию тайну».
Нарочный курьер привез эту «Открытую тайну» Черкасову. Барон вызвал Виноградова и швырнул перед ним на стол тоненькую книжонку в четвертку листа, напечатанную на грубой, серой бумаге.
– Прочти, возьми в толк, уразумей, как порцелин делать надлежит! – сурово сказал Черкасов и, отвернувшись, прибавил: – Дождались мы того, что сей секрет всему свету известен стал, только мы с тобой как были, так дураками и остались!
Виноградов прилежно прочел книжонку и перевел ее Черкасову на русский язык. Увы! Автор, хвалившийся, что откроет тайну порцелина всему свету, сам ее не знал. В книге были вздорные слухи и россказни о том, как делается фарфор, а ничего толкового в ней не было. Только одна страничка заинтересовала Виноградова – страничка о фарфоровых фабриках Кин-те-чена, которые описал отец д’Антреколль. Здесь приводились слова китайцев про англичан, вздумавших делать фарфор из пе-тун-тсе без као-лина.
«Вот удивительные люди! Они хотят делать тело без костей, которое без оных ни ходить, ни стоять не может!»
«Однако сие надлежит понимать наизворот, – глубокомысленно прибавлял от себя автор „Открытой тайны“, – ибо глину не за кости, а за тело разуметь должно, а петунтзу, или шпат, за подкрепление того тела, или за кости».
Виноградов задумался. Он своими глазами не раз видел, что мягкая глина становится в огне твердой и жесткой, «как камень, из которого можно рубить огонь», а шпат и кварц плавятся и растекаются в большом жару. Значит, слова китайцев нужно понимать вовсе не наизворот, а прямо. Глина придает крепость фарфору, как кости придают крепость телу. А вот у него посуда кривится и коробится, – значит, нужно прибавить в массу какую-то другую глину, которая укрепила бы фарфор. Как найти эту глину?
Виноградов кликнул ямщика и велел отвезти себя на Васильевский остров. В полутемной книжной лавке «Де сiянсъ Академiи» химик доставал с полок и перелистывал толстые томы в кожаных переплетах – французские книги и журналы. В лавке пахло плесенью и мышами. На страницах книг были ржавые пятна от сырости. К концу дня Виноградов нашел то, чего искал. Это были «Любопытные и поучительные письма отца д’Антреколля о Китае».
Крепко прижав к себе книгу, Виноградов вышел из лавки. Как хорошо, что когда-то в Марбурге он выучился французскому языку!
В ту ночь в его комнате долго горела свеча. Караульный солдат, бродя по двору, не раз заглядывал в его окошко и бормотал:
– Читает Дмитрий Иванович, все читает… Уж с лица осунулся, краше в гроб кладут, а все читает. Тешат его лукавые ночь напролет…
На рассвете солдат увидел, что Виноградов закрыл книгу, задул свечу и положил усталую голову на стол.
Из писем отца д’Антреколля он не узнал ничего нового о фарфоровых глинах.
Виноградов просил Черкасова, чтобы ему присылали образцы белых глин из разных мест – из-под Смоленска, из Старой Руссы и даже из Сибири. Он хотел их испробовать.
Черкасов сердился на Виноградова и писал ему язвительные письма:
«Господину бергмейстеру знать надлежит, что на ваши пробы уже довольно казны потрачено, а плода никакого до сих пор не видно. Надлежит тебе за работными людьми лучшее смотрение иметь, да и самому к тому делу со всяким рачением руки приложить».
Черкасов послал на завод подполковника Хвостова и приказал ему следить, чтобы Виноградов «работал прилежнее».
Хвостов слонялся по мастерским, покрикивал на рабочих, надоедал Виноградову с утра до ночи.
– Будет ковыряться-то! – говорил он химику, заглядывая в дверь лаборатории. – Пожалуй в мастерские, ваше благородие! Сказано тебе: «работай не покладая рук!»
Виноградов и так работал «не покладая рук». Хвостов ему опротивел. Однажды химик не вытерпел и вытолкал подполковника за дверь. Тогда Хвостов созвал караульных, отобрал у Виноградова шпагу и запер его в лаборатории на замок.
Арестованный химик принялся на досуге перечитывать свои записи об опытах и скоро забыл про Хвостова. Ему было ясно, что он еще не нашел нужного состава массы. В массу надо было еще прибавить какую то составную часть, чтобы посуда в обжиге не кривилась. Он записал в дневнике:
«Порцелинная фабрика есть не что иное, как горная мануфактура, и между всеми прочими великолепнейшая. Но кольми совершеннее она была бы, если бы все к тому делу употребляемые материалы ведать можно было!
В обширном Российском государстве разных минералов, камней и глин множество находится, но большая часть их еще в недрах земли сокрыта…»
Ему вспомнились стихи Ломоносова:
В земное недро ты, хими́я,
Проникни взора остротой
И, что содержит в нем Россия,
Драги сокровища открой!
Химия еще не проникла в российское земное недро. Нужно разыскивать фарфоровые глины, нужно исследовать и изучать их много лет. А Черкасов требует, чтобы фарфор был сделан завтра, нет – сегодня, сейчас, сию минуту. Ему не терпится поднести царице «фарфоровый презент».
Виноградов вспомнил, что собирался подбавить в новую массу еще два фунта кварца, и ринулся было в дверь. Нужно было сказать точильщикам, чтобы они пока из новой массы ничего не точили.
Дверь была заперта. Химик, верно, забыл, что он арестован! Он заходил большими шагами по лаборатории.
В уме у него всё еще звучали стихи Ломоносова:
В земное недро ты, хими́я,
Проникни…
Проникнет она, матушка, проникнет, – держи карман, – когда химик под замком сидит…
…Проникни взора остротой…
Тут и «острота взора» не поможет, если подполковник Хвостов над заводом команду взял… Мерзкая рожа!
Скамейка, задетая ногой Виноградова, грохнулась на пол.
И, что содержит в нем Россия,
Драги сокровища открой…
А для кого их открывать? Для царицы? Для Черкасова? Для Хвостова? Ладно, они и без этих сокровищ обойдутся.
Вся огромная работа последних лет показалась химику ненужной и бесцельной. Он захлопнул журнал и улегся спать на голой скамье, положив под голову кафтан.
Прошло несколько дней. Химик сидел под арестом.
Забрызганный грязью курьер привез на завод запечатанный ящик от барона Черкасова. В ящике были образцы белых оренбургских глин, присланные по просьбе Виноградова с Урала. Черкасов приказывал «незамедлительно учинить тем глинам пробу».
Виноградов нехотя принялся за работу. Он сделал пробу из оренбургской глины и обжег ее в маленьком горне. Проба вышла белая, с глянцем, но очень хрупкая, она так и ломалась в руках. Делать посуду из одной этой глины было нельзя. Но когда Виноградов смешал эту глину с гжельской «черноземной», проба вышла хорошей. Виноградов сделал из новой составной массы кубок побольше и обжег его в дровяной печи.
Кубок обжегся прекрасно. Его прямые, гладкие стенки не погнулись, не покривились. Масса была крутая, плотная, полновесная – настоящая фарфоровая.
Виноградов взвешивал кубок рукой и, ощущая пальцами его гладкую глазурь, чувствовал, что держит в руке свою судьбу. Он написал Черкасову:
«Из той оренбургской глины самый настоящий чистый и белый порцелин делать возможно… Посуду поныне в обжиге вело и коробило, но оные недостатки той глиной отвращены быть могут и отвращены будут».
И Виноградов просил Черкасова вернуть ему шпагу. Пока заводский солдат снаряжался в город, чтобы отвезти Черкасову кубок и письмо, химик все еще сидел за столом и, сам того не замечая, чертил на обороте своего письма:
«Это должно
Это должно наконец
Это должно наконец случиться!»
Это, наконец, случилось. Он нашел состав фарфоровой массы.