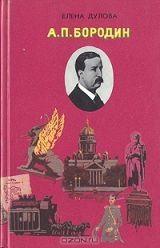
Текст книги "А. П. Бородин"
Автор книги: Елена Дулова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
23 июля 1873 года, понедельник. В 8 часов и 6 минут утра – скончалась…
ОТ АВТОРА
«Санкт-Петербургские ведомости». Корреспонденция из Казани, 22 августа 1873 года.
«В понедельник, 20 августа, произошло открытие предварительного собрания Четвертого съезда русских естествоиспытателей и врачей. Зала университета была убрана растениями, первые ряды кресел отведены для г. г. членов съезда… Из списка видно, что число членов съезда простиралось 20 августа до 150 человек, в том числе 39 приезжих; из последних назовем профессора Медико-хирургической академии А. П. Бородина и профессоров Петербургского университета К. Ф. Кесслера и А. М. Бутлерова».
Работа химической секции на съезде проходит чрезвычайно интересно. Одно сообщение следует за другим, дискуссии бурные, направлены исключительно к достижению истины в научном споре. Сообщения Бородина вызывают уважение и удивление не только по количеству их (целых семь!), но и по значительности содержания. Лаборатория Медико-хирургической академии приобретает все больший вес. Бородин, конечно, горд такими результатами. В Казани, что его искренне удивляет, Бородина прекрасно знают не только как ученого, но так же как музыканта. Специально интересуются им как композитором, приглашают на вечера.
К ЕКАТЕРИНЕ СЕРГЕЕВНЕ БОРОДИНОЙ
Казань, август 1873 года.
«…Я извлек здесь много самых полезных сведений, установил полезные и приятные отношения, завязал множество интересных для меня знакомств и пр. Вообще для меня – съезд удался как нельзя более…
Было публичное заседание, речи и т. д. Затем мы осматривали различные университетские учреждения. В 6 часов публичный обед членам съезда в Дворянском собрании… После обеда, когда остались одни члены и кое-кто из публики неофициальной, стало очень весело и пошло чертобесие. Пели «Гаудеамус», «Вниз по матушке по Волге»; профессора пустились в пляс; оркестр валял Камаринскую, а ученые мужи задали выпляску на славу – кадриль, мазурку… Публика растрогалась – начали качать председателя съезда; учредителя съезда; любимого старшину клуба; Бутлерова (как популярнейшего ученого всей Казани и бывшего ректора университета). После этого неожиданно подлетели ко мне, грешному: «Бородина! Бородина качать! Он не только хороший, честный ученый, но и хороший, честный человек!» Десятки дюжих рук подняли на воздух мое тучное тело и понесли по зале. Покачав на «воздусях», меня поставили на стул, и я сказал спич – в качестве представителя Женских курсов… Я сказал горячую речь, провозгласив тост за процветание специального образования женщин. Поднялся гвалт, и мне сделали шумную овацию…»
БОРОДИН
Петербург встретил меня превосходно. Тихо. Тепло. Сухо. В доме все обычным порядком, то есть в полном беспорядке. Сердечная тоска от вида опустелой «тетушкиной» комнаты. Экономка бестолкова до ужаса. Везде пыль, блохи, столы пусты, углы завалены… Лучше всех поживает в этом бедламе Катеринкин любимец Васенька. Толстый, пушистый, гладкий. Спит себе в решете на шкапу и в ус не дует. Теперь же облюбовал мой стол. Спит посреди книг, и не дай бог потревожить. Кажется, Вася видит во мне родственника. Считает за такого же большого толстого кота. Решил скрашивать мои ученые занятия своим сочувствием. Устраивается воротником вокруг шеи. Но это еще не самая большая его милость. Когда в прямом смысле садится мне на шею и причесывает мою роскошную плешь мокрым языком, вот это уж, по его мнению, почести для какого-нибудь императора Вильгельма или шаха персидского. Вообще же Василий существо весьма самостоятельное и характер имеет независимый. Чуть что не по нем – хвост трубой и деру. Одной Лизутке позволяет над собой тиранствовать. Лизу, хоть и с превеликими трудами, наконец-то пристроил к учению. Конечно, не обошлось без слез. Ну да ничего, немножко пообвыкла. Приживается в институте. Сама довольна, и ею довольны. Наши с ней уроки тоже даром не пропали. Поехал недавно навестить. Выбегает ко мне, а на рожице какое-то такое выражение особенное. Гляжу, у плеча красный бантик завязан. Это она, оказывается, на занятиях отличилась. Смотрит на меня, глазенки сияют… Тут взыграли во мне родительские чувства: глаза защипало, нос покраснел. «Ах, – говорю, – что такое? Насморк подхватил». И быстро так платочком закрылся, и отвернулся, словно сморкаюсь. Вот… девчонка наша славная!..
Скоро два дня праздников. Заберу ее домой. Да пора и сводить куда-нибудь. В цирк, в театр. А может, и в музей естественный. Что-нибудь придумаем. Лизун радуется, а мне развлечение.
ОТ АВТОРА
Между тем о свободных днях для композиции не приходится профессору мечтать даже и в кратковременном сне. Со всем пылом натуры он «въелся» в деятельность на Курсах. Лекции, практические занятия, устройство специальной лаборатории для слушательниц. Выясняет, что неимущих девушек огромное большинство. Значит, надо образовать общество вспомоществования и, уж конечно, придется самому стать казначеем. Можно найти еще одну статью дохода – организовать на курсах хор, давать благотворительные концерты. Он уже заметил между своими ученицами несколько отличных контральто и сопрано. Дела, дела да заботы.
БОРОДИН
Скверная петербургская погода разыгралась. Я сижу у Кюи. Вдруг прибегают с известием, что вода сильно поднялась. Тут же услышали пальбу петропавловской пушки. Собираюсь скорее домой, пока Литейный мост на месте. Кюи отговаривает, время идет, я нервничаю. Все-таки отправился. Бегом по улице. Ветер валит с ног, в лицо метет всякий мусор, вода в Неве прибывает. Не знаю, как я проскочил по мосту. Казалось, его сейчас разнесет вдребезги. Нева ревет, волны и выстрелы грохочут, барки разбиваются в щепы. Картина ужасная. Дома страшный переполох. Подвал залит, в коридоре свалены какие-то узлы, самовары, дети, кошки, перины. Бабы и служители галдят. Я кинулся спасать лабораторию. Перетащил все в безопасное место, на том в заботах о своем «движимом» и успокоился. Утро. Вода спала. На улицах множество душераздирающих картин разрушения.
Лежу с больной ногой. Возле меня мурлыкают Вася и Лизутка. Вася избрал теперь вместо подушки мое кругленькое брюшко. Лиза страшно довольна, что взяли домой. Сидит рядышком и одолевает меня чтением вслух. Впрочем, я слушаю с большим удовольствием. Переношусь мысленно во времена своего детского чтения. Простите-извините, бездельничаю. Тело мое на кушетке, а дух витает в доме у Стасова. Бах сегодня собирает «заседание музикусов». Полагаю, Модеста они опять не дождутся. Он теперь заседает все больше в трактире на Морской. Боюсь, как бы он окончательно себя не потерял. Уже у него бывают «чертики». Но ни с какими уговорами подступиться невозможно. Когда плох, решительно не желает обсуждать свое состояние. Мрачен, желчен, раздражителен. Когда проясняется – мил, весел, остроумен. Язык не поворачивается о его трактирных похождениях беседовать. И все это творится тогда, когда «Борис» уже вот-вот целиком пойдет на сцене. Беда! Отчего это наш русский человек, если награжден буйным талантом, так почти непременно «прилежаше пития хмельного»? Ужасно, ужасно жаль его.
К ЕКАТЕРИНЕ СЕРГЕЕВНЕ БОРОДИНОЙ
Санкт-Петербург, 31 октября 1873 года.
«Сегодня мне – 40 лет! Пока было 39 и 364 дня, все считал себя моложе, а теперь 40! На Руси привыкли считать сороками, как в других местах сотнями, гроссами и т. д. Сорок сороков церквей на Москве, говорит народ; сорок тысячей – в сказках русских и былинах равносильно тьме, тысячам тысяч, несметному количеству и пр. В такой, знаменательный в моей жизни, день – как могу провести время лучше, как не в беседе с тобою?..»
ОТ АВТОРА
Вообразите теперь, любезный читатель, что минуло полтора года. На дворе – январь 1875-го. Как-то вечером наш герой просматривает «Санкт-Петербургские ведомости», раздел «Курьезы отовсюду». Насчет курьезов он не возражает. Встречаются преуморительные. Как-то:
«В Нью-Йорке на днях арестовали собаку за совершенное ею уголовное преступление. Такой же участи подвергнулась и хозяйка этой собаки, некая госпожа Боббит, которая обвинялась в сообщничестве. Г-жа Боббит ходила по лавкам в сопровождении собаки, которая, благодаря трудам и терпению своей хозяйки, до того была хорошо дрессирована, что умела стащить незаметным образом все, что попадалось ей в зубы, а потом, по выходе на улицу, вручала похищенные вещи хозяйке. Но полиция как-то поймала их на месте преступления и арестовала обеих».
Так ведь не от хорошей жизни устраивала госпожа Боббит такой цирк. Тут не знаешь, что и воскликнуть: то ли «Да здравствует полиция!», то ли «Слава собачьему уму!». А вот этот курьез подан весьма странно. Тут, господа, все вывернуто наизнанку!
«Английские газеты сообщают довольно курьезные объяснения причин последних студенческих беспорядков в Петербурге. Мы приводим несколько выдержек из «Пэлл-Мэлл-Газет». «Уже несколько лет, – говорит она, – конференция Медико-хирургической академии разделилась на две враждебные партии – «европейскую», ратующую за прогресс, и партию «семинаристов», или «ретроградную», к которой принадлежит большинство студентов. Военный министр назначил семь новых профессоров, которым поручил сделать значительные изменения к программе преподаваемых им предметов и в порядке экзаменов. Студенты, подстрекаемые «ретроградной» партией, по поводу этих изменений и произвели беспорядки на лекции г. Циона, одного из семи вновь назначенных профессоров…»
БОРОДИН
Академия наша бурлит. Крайне скверное положение. И у нас, как везде, есть свои «темные силы». Так вот, прошли выборы на кафедре зоологии. И эти негодяи провалили Мечникова! Ученого, который сделал бы честь любому европейскому университету. Студенты взбунтовались. Сеченов немедленно подал в отставку. Покинул кафедру физиологии. Тут же на его месте оказался пройдоха Цион. Он позволяет себе чудовищные грубости и жестокости. Студенты устроили ему демонстрацию. Тогда Цион учинил на опытах форменное зверство. И молодежь выгнала подлеца из аудитории. Занятия прекращены. Ищут виновных. Как будто не сам этот господин более всех виноват! Стыдно. На моей кафедре подозревают рассадник либерализма и только что не устраивают обыска в лабораторных столах. Все это мерзко и тяжело. Одна отрада – дела Женских курсов. Хоть и отнимают много времени, зато радость дают. Чувствуешь себя «проповедником», «светочем» и вообще прекрасным человеком. Простите-извините, совсем зарапортовался. Спешу себя оправдать. Разве гадкого человека возьмут в кумовья передовые родители? А я имел честь быть приглашенным. Шутки шутками, но растроган чрезвычайно. И до чего теперь смелая молодежь, какая решительная самостоятельность! Он – еще студент в Академии, она – на Курсах. Наукой оба увлечены донельзя, но жить-то почти не на что. Ну вот, позвали в кумовья. Устроили настоящую вечеринку, типично студенческую. Взволок я свое тучное тело под самую крышу, на четвертый этаж. Две каморки, битком набиты молодежью. Все как-то вместе и торжественно, и весело, и молодо… так молодо! Сколько благородных порывов, сколько мечтаний о собственной пользе! Слушаешь и сам молодеешь.
…Если бы я был дворянином, то устыдился бы своего герба. Отчего? А оттого, что девиз на нем непременно должен гласить: «Никогда не делай сегодня то, что можешь отложить до завтра». Но я не дворянин, а всего только «воскресный композитор». Потому со спокойной совестью откладываю и откладываю оркестровку новой симфонии. Между тем опять зашевелился в воображении «Игорь». Откуда смелость явилась? Опять стали донимать некоторые отрывки, появились и новые кирпичики для постройки. Взялся пересматривать, дополнять сценариум. Теперь стряпаю либретто сам. Однако Стасов по-прежнему принимает во всем горячее участие. Все так же озабочен судьбой «Игоря» и трясет меня, грешного, аки смоковницу бесплодную. Толку немного. Чтобы настроиться музыкально, необходимо спокойствие. Спокойствия нет. Голова другим занята… А между тем сочинять хочется. Набросал еще струнный квартет. И опять с ужасом думаю: когда же удастся все это завершить? Смешно! Одна надежда на лето. А где и в каких заботах мы его проведем, то никому неведомо.
ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА
Часть лета прошла в деревне, часть – в Москве. Здоровье Екатерины Сергеевны не внушало опасений. Бородин работал спокойно и радостно, то и дело проигрывал своей «Сергевне» какой-нибудь удачный отрывок…
К ЕКАТЕРИНЕ СЕРГЕЕВНЕ БОРОДИНОЙ
Осень 1875 года.
«…Вести о моей музыкальной деятельности в Москве распространились с быстротою молнии… Я получил целый ряд излияний Стасова Владимира. Признаюсь, я даже не ожидал, что мои московские продукты произведут такой фурор – Корсинька в восторге, Модест тоже… Особенно меня удивляет сочувствие к первому хору, который мы пробовали в голосах и – без хвастовства скажу – нашли ужасно эффектным, бойким и ловко сделанным в сценическом отношении. Кончак, разумеется, тоже произвел то впечатление, какого мне хотелось… Особенно он нравится Корсиньке. Ему же, равно и Модесту, ужасно нравится тот дикий восточный балет, который я сочинил после всего в Москве, помнишь? Вообще в этом году никто не бранит меня за бездеятельность по музыкальной части…
…Я теперь действую уже вполне, кроме лаборатории: лекции идут и у мужчин и у женщин; вчера было защищание диссертации, где я был оппонентом. Вечером был в заседании Химического общества, где сделал сообщение о моей работе, что напечатал летом в берлинских «берихтах».
Третьего дня у меня был Корсинька и принес мне стопочку нотной бумаги, на первом листе которой начертал: «Князь Игорь», опера в 4-х действиях А. П. Бородина.
ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
Нынешней зимой у нас еще шумнее, еще беспокойнее. Молодежи полон дом. Толчея, базар, приходят, уходят, едят, пьют. Александрушка Дианин теперь совсем уж с нами живет. Лизутка стала большая девица, так и пышет здоровьем. Старик Васенька пожалован в экс-короли. По столам разгуливают два молодых кошачьих принца. Вероятно, по примеру Сашиных учеников молодые коты наши ужасно увлеклись химией. Только что не ночуют в лаборатории. А на опытах присутствуют обязательно.
Теперь у нас нет бальной залы в фармакологической аудитории. Однако наше курьезное «Общество приятных телодвижений» все еще держится. Хоть и редко, а собираются поплясать у кого-нибудь на дому. Теперь, правда, какой-то мор напал на бальный элемент. Кого дети малые не пускают, кто в отъезде, кто в болезни. Александр для плясов и вовсе сейчас не годится. У него какое-то воспаление сосудов на ноге. Сидит дома, форменно, как на привязи. Так вот ведь, даже и заболел-то «кстати». Приехали из деревни, узнаем – новая симфония назначена в концерт Музыкального общества. Саша хватился искать партитуру. Нет ни первой части, ни финала. Весь дом перерыли, всех друзей допросили – нет. Счастье, что он, когда сочиняет за роялем, сразу весь оркестр слышит. Иначе оркестровать наново – чистое безумие. Только теперь времени осталось совсем мало. Переписчики торопят. Так что все равно горячку порем. Сашура лежит, строчит карандашом партитуру. Чтобы карандаш не стирался, придумал покрывать каждый лист желатином. Покрою и вешаю это «заливное» для просушки. У нас через все комнаты веревочки протянуты и на них половина симфонии развешана. Какой соблазн для котов! Только и смотри, чтобы не поживились.
Между тем оказывается, что и Первая симфония пойдет скоро. Корсаков дирижирует в Бесплатной школе. Александр страшно веселится по этому поводу. «Я, – говорит, – нахожусь в положении, в котором еще не был ни один профессор Медико-хирургической академии. Две мои симфонии подряд сыграют на публике, а?»
ОТ АВТОРА
Дела музыкальные в январе развивались бурно. Вышло в свет четырехручное переложение Второй симфонии. Сочинение это Бородин посвятил Екатерине Сергеевне. Но всем близким друзьям он непременно делает на клавире дарственные надписи. Жене профессора Доб-рославина, Марии Васильевне, к клавиру приложено большое стихотворение. Легкая грусть, ирония в свой собственный адрес, некоторые «вольности», все тут есть. Все, присущее шутливым «поэтическим опусам» Бородина:
Куме от кума дар;
От пасынка гармонии
Второй его симфонии
Печатный экземпляр.
Понравится – прекрасно! Поиграйте…
А нет… так по листочку отрывайте,
Когда в бумаге надобность случится… <
Бумаги много тут… Вам пригодится.
Пусть все тогда, все до последней нотки,
Пойдет моей куме на… папильотки.
Скромный композитор
И нескромный поэт
18 января 1877 года.
ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
26 февраля. День концерта. Мы с Машей Добро-славиной и Александрушкой Дианиным сидим на хорах. Саша стоит один в самом конце залы, у колонны. То ли опирается на нее, то ли спрятаться готов… Зал Дворянского собрания такой огромный, что я не вижу Сашиного лица. Как мне хочется оказаться там, рядом с ним. Взять за руку, успокоить, может быть, закрыть от любопытствующих… Но все уж было дома играно-переиграно, обсуждено-переговорено. А этот час должен пережить он сам, один, как того хочет. Даже никто из музыкальной братии к нему не подступился, не подошел…
БОРОДИН
Что ж волнуюсь я, глядя ка этот блестящий зал? Эполеты, декольте, роскошные туалеты, драгоценности, прически… Моя публика не здесь. Моя публика на хорах. Корсинькины консерваторцы, Бесплатная школа, курсистки, студиозы. Если примет молодежь, выйдет отлично. А собственно, так ли манит меня публичность? И алчу ли славы, аз грешный? Смешное, ей-богу, положение. Я, решительный противник всяческого дуализма, всю жизнь живу надвое. Я люблю свое дело, свою науку, Академию, Курсы, своих «детей». Меня волнует вовсе не одна только практическая наука. Для меня необходимо все силы употребить, чтобы образовать в человеке человека. Это мне дорого. От этого я никогда не отрекусь. Это требует времени. Множество времени и сил. Но ведь и другая сторона моей натуры вопиет. Я увлекаюсь, желаю довести замысел музыкальный до конца и… сам себя обрываю. Боюсь слишком увлечься и навредить занятию основному. Как старая полковая лошадь: та услышит трубу – кидается в сражение. Так и я кидаюсь в омут академической жизни. А потом опять воспаряю в «небожители». Никогда бы я не смог выбрать между двумя равно любимыми детьми. Также и по сей день не могу отречься ни от науки, ни от музыки.
Ну, мысли долой! Направник уже идет к оркестру. Последний вздох… Теперь – как в прорубь!
ОТ АВТОРА
По свидетельству очевидцев, дирижер не сумел придать исполнению надлежащего размаха и блеска. Симфония отзвучала. Автора не вызывали. В публике царило холодное молчание. Восторги молодежи ничего не значили для «настоящих ценителей».
Совсем иначе прозвучит Вторая симфония через год, в концерте Бесплатной школы, под управлением Рим-ского-Корсакова. В начале 1886 года обе симфонии Бородина, его романсы, отрывки из оперы «Князь Игорь» и симфоническая картина «В Средней Азии» с огромным успехом будут исполняться на фестивале русской музыки в Льеже и Брюсселе. Успех придет, но не в этот вечер, 26 февраля 1877 года. И статья Кюи в газете «Музыкальное обозрение» тоже появится гораздо, гораздо позже.
«…Во Второй симфонии Бородина преобладает сила, сила жесткая, одно слово, несокрушимая, стихийная. Симфония проникнута народностью, но народностью отдаленных времен; в симфонии чувствуется Русь, но Русь первобытная, языческая… Эта несокрушимая, стихийная сила проявляется более всего в первом Аллегро и в финале… В первой части преобладает грандиозное настроение, в последней преобладает юмор. Первая часть точно бытовая картина какого-нибудь торжественного обряда; последняя – яркий, пестрый, разнообразный, искрящийся весельем праздник. Характер второй части (Скерцо) и третьей (Анданте) значительно меняется. В этих частях музыкальные мысли полны увлекательной страстности, полны симпатичной простоты, полны очаровательной поэзии…»
Меньше чем через месяц после события музыкального (исполнения Второй симфонии) состоялось чрезвычайное событие в области «химикальной». 19 марта 1877 года ординарный профессор Бородин избран академиком Императорской Медико-хирургической академии. Но академическое звание нисколько не изменило Бородина, вовсе не прибавив его натуре ни важности, ни солидности. Этот человек всегда остается самим собой: «милейшим и доброты неизреченной». По-прежнему массу сил и энергии поглощают Курсы. С 1876 года по высочайшему соизволению прибавлен пятый год обучения и тем самым Женские врачебные курсы приравнены к преподаванию на медицинских факультетах университетов и академий. Теперь, в виде самостоятельного учреждения, Курсы перенесены в Николаевский госпиталь. Там сделаны все необходимые аудитории, кабинеты, лаборатории. Александр Порфирьевич Бородин желает во что бы то ни стало устроить свою химическую лабораторию образцово. Попутно хлопочет и обо всем остальном.
В апреле 1877 года началась турецкая война. Слушательницы, еще прежде окончания курса, устремились на театр военных действий.
Из доклада полевого военно-медицинского инспектора начальнику штаба действующей армии.
«…Слушательницы Женских врачебных курсов, при непомерном рвении, сознательном понимании дела, выказали себя с самой лучшей стороны и доставленною ими хирургическою и терапевтическою помощью в госпиталях, вполне оправдали в этом первом опыте ожидание высшего медицинского начальства… Самоотверженная работа среди опасностей и лишений, среди тифозной болезни, жертвой которой была не одна из них, обратили на себя общее внимание… Решаюсь убедительно просить Ваше высокопревосходительство ходатайствовать перед Его Императорским Высочеством Главнокомандующим о награждении участвующих в войне слушательниц Женских врачебных курсов, не в пример другим, орденом Станислава 3-й степени с мечами или другим знаком отличия…»
ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА
Как некогда Николай Николаевич Зинин с особенной любовью и вниманием воспитывал и образовывал в Бородине своего преемника, так теперь сам Бородин опекает в Академии любимых «птенцов». На Дианина возлагает особые надежды. В нем профессора привлекает не только одаренность, но еще и прекрасные качества души. «Александрушка», «Павлыч» неизменно ласково называют Дианина в доме Бородиных.
ДИАНИН
В конце июня месяца мы как-то вдруг (именно «вдруг», несмотря на долгие сборы!) оказались в немецких землях. Александр Порфирьевич привез Мишу Гольштейна и меня, своих «деток», в Йену для усовершенствования в науках. Оба мы уже ассистировали на его кафедре. Теперь предстоит написание и защита докторских диссертаций в Йенском университете. Ну и диковинная жизнь в этой «неметчине»! Все у них по смыслу и по порядку. Вылезаешь, скажем, из поезда в Берлине, весь еще покрытый российской дорожной грязью. Шесть утра. На душе и в животе тоскливо. И вдруг тут же, прямо в вокзале, обнаруживается прекрасно оборудованное помещение. Вы основательно моетесь, переодеваетесь и, все еще не выходя в город, отправляетесь закусить и напиться кофе. А уж потом можно полдня шататься по Унтер ден Линден, глазеть на книжные и прочие витрины, млеть от восторга в диковинном «Берлинском аквариуме». И с полным комфортом – дальше, в Йену. Ах, что ни говори, все-таки порядок есть вещь хорошая! Но жить в Берлине, да еще один, я бы не хотел. Очень уж народ чинный, будто каждый состоит под надзором полиции. Не ровен час, сам станешь чинным, скучным, точно пришибленным. Так ведь и подмывает где-нибудь на улице или в Аквариуме замахать руками, завопить от восторга. Но немец поглядит и подумает небось: «Вот она, серость расейская, неотесанность поповская!» Нет уж. Если надо, можем и мы «по-европейски» пожить. Тем более что Йена – это вам не Берлин. Какие красоты кругом, что за горы, сады, что за могучие дубы и липы, целое море роз!
Ходи да наслаждайся. Только не знаешь, куда ногу поставить. Сплошь святые камки. Справа жил Гете, слева – Шиллер, тут один философ, там – другой; подальше пойдешь – опять разные великие жили. Ну, приободришься, попривыкнешь… ничего – и ты живешь! В Петербурге мы с Мишкой проживали как и положено вполне уже самостоятельным мужчинам. А тут повисли на «папеньке-профессоре». Смех, да и только. Вот что чужая сторона делает. Ну а уж Александр Порфирьевич печется об нас и впрямь как о маленьких. Хлопочет не только о наших диссертациях. Хлопочет о самом насущном. Нашел квартиру. Потом ходили вместе по лавкам, накупили всякой всячины: керосиновую кухню, чайник, чашки, сахару, лампу и еще кучу мелочей. Раздобыл нам где-то хорошего чаю, чтобы за пивом не забывали российского обычая. Будет у нас и пианино напрокат, чтобы отрешаться иногда от земных забот. За всеми хлопотами наш профессор насилу вырвался в Веймар. Да сдается мне, что он еще и тянул – робел немного. Ведь не на прогулку, на свидание к самому Францу Листу собирался. А чего робеть? Ну, конечно, Лист – патриарх, великий «мейстер» и так далее. Только и наш Бородин не лыком шит.
ФРАНЦ ЛИСТ
Поразительное совпадение! За два дня до нашего знакомства я играл его Первую симфонию на вечере у великого герцога. Все были в восторге. И едва мне подали карточку – «профессор Бородин», – как я уже летел с громким криком в прихожую. Ах, эта моя неистребимая экспансивность! Вместо добропорядочного приветствия выкрикнуть незнакомому человеку:
– Вы сочинили прекрасную симфонию!
О, Бородин совершенно понял мое состояние. Очаровательная, мягкая улыбка в ответ:
– Это была моя первая большая вещь, там масса недостатков…
Наконец-то, наконец-то я вижу этого русского волшебника! Мы смеемся и продолжаем рассуждать о тонкостях его симфонии. Но тут я спохватился:
– Добро пожаловать. Лучше беседовать в гостиной, и притом сидя на удобном диване, не так ли?
И мы болтаем без умолку, мешая французскую речь с немецкой. Мне многое хочется услышать от него и о Балакиреве, и о Корсакове, обо всех этих «новых русских». Мы здесь только еще начинаем их узнавать. Они еще околдуют, изумят, победят Европу. Я знаю, что говорю. Я достаточно стар. Я слышал слишком много музыки на своем веку.
Бородин… Какая великолепная скромность при огромном таланте. Спрашиваю:
– Судя по Вашей визитной карточке, Вы – ученый; химия – прежде всего. Так где же Вы так изумительно постигли законы музыкальные? Ведь не в Германии же?
– Нет, маэстро, я не учился ни в Германии, ни в консерватории нашей. Но тем не менее учился всюду и везде. Я жил музыкой. Впрочем, вот Вам мое обычное извинение и оправдание: я всего лишь дилетант, «воскресный композитор».
– А! Превосходная шутка. Я бы сказал – афоризм. Ведь воскресенье – это всегда праздник, всегда торжество. Торжествуйте, торжествуйте, мой дорогой Бородин! У Вас на то все права.
За несколько наших свиданий он очаровал всех вокруг. Моих друзей, учениц, музыкантов и самого великого герцога. Все мы без конца играли. Упивались его новыми сочинениями. Теперь я сто, тысячу раз повторю: Бородин – композитор-великан. И в его мощи бездна обаяния и самобытности. Говорят, что нет ничего нового под луной. А то, что я нахожу повсюду в его музыке, – ново, совершенно ново! Он хочет каких-то моих замечаний, наставлений. Но я отвечаю ему решительно: – Боже Вас сохрани слушать чужих советов! Поверьте – Вы на настоящей дороге. У Вас слишком много художественного чутья, не бойтесь быть оригинальным. Поверьте, если бы великие мастера прислушивались к чужим советам, не было бы у нас ни Бетховенов, ни Моцартов.
ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА
При расставании Лист высказал горячее желание как можно скорее получить партитуры симфоний Бородина. На память о веймарских встречах подарил свой нотный автограф и портрет с надписью: «Господину Александру Бородину в знак сердечного уважения и искренней преданности. Ф. Лист, июль 1877».
БОРОДИН
Ну вот, наконец-то я отправился восвояси. Дела у «птенцов» совсем устроились. И Александрушка, и Миша изо всех сил пишут свои диссертации. О защите со всеми переговорено.
Поезд уносит меня теперь по Рейнской дороге все дальше и дальше… Жаль расставаться с моим «веймарским волшебником». А что я им совершенно околдован, в том и сомневаться нечего. До сих пор не могу в себя прийти. Подумать только – беседовать с самим Листом, слышать самого Листа, да еще у него дома. Иметь нахальство играть с самим Листом! Я сопротивлялся, не хотел, не смел, отказывался изо всех сил, но ведь сам усадил рядом да еще комплиментов наговорил. Гений. Великан. А со своей молодежью носится, точно любящий папаша или добрый дедушка. И вечно они его тормошат, в доме музыка, гомон, смех, споры. Ученики чуть ли не со всего света. Для него все одинаковы. Всем готов помочь. И нравственно, и материально. Любуется ими, говорит: «Какой это отличный народ, посмотрите, сколько здесь жизни!»
А сам в такую минуту необыкновенно хорош. Так и рвешься ответить: «Если это жизнь, то это Вы, Вы, дорогой маэстро, ее творец».
Да, при эдаком огромном уме и едком юморе сколько теплоты, нежности, добродушия… Сердце мое переполнено, а между тем трепещет и замирает в предвкушении новых волнений. Я еду в Гейдельберг. В мою обетованную землю, в мой земной рай.
Вот замелькали за окном те же горки, те же дорожки. Будто нет этого груза, этих семнадцати лет за спиной. Вот и садик, тот самый. А там? Кажется, любимая Катина скамейка?! Что это со мной? Слезы? Нет, нет, это так, уголек, соринка… слишком далеко высунулся в окошко.
Гейдельберг! Снова Гейдельберг! Куда меня отвезти? Да, конечно, туда же, прямо в «Бадишер хоф».
Тот же стул, «мой» стул в обеденной зале. Господи, я словно в чаду. На каждой улочке, за каждым поворотом – воспоминания, самые светлые и сладостные. Катя… Катя… Никогда еще мы не были так далеко друг от друга. Никогда еще не были так близки.
Я, словно мальчишка, бегаю по всем нашим «святым местам», иду в горы. Вольфсбрунн. Фонтан с волчьими мордочками на том же месте. Все так же падают струи, непрерывно падают семнадцать лет… Сижу неподвижно. Смотрю. Какая смесь счастья и горечи! Куда же утекло наше время? Сколько пережито и прожито… А Вольфсбрунн все тот же, как в день нашего решительного объяснения, в день полного счастья. Все, все повторяется, точно вернулась молодость. Какой-то сон наяву. Ущипнуть себя, протереть глаза, дотронуться до этих камней, стен, деревьев…
Если бы Катеринка была сейчас рядом. Увы! Впрочем, может, так лучше? Есть тут одно большое огорчение: в нашем любимом садике цветы поэзии и любви уступили место огурцам и капусте, насаженным рачительной рукой новой хозяйки.
К АЛЕКСАНДРУ ДИАНИНУ
13 августа 1877 года.
«Ехал я, ехал, пока не добрался до Давыдова; долго ехал… Приехал в плетушке с «володимерским» мужичком за полтора целковых, вместо «аусштейген!» услыхал родное и достолюбезное: «На чаек надо бы?» Давыдовым я доволен донельзя. Как здесь хорошо! Какие рощи, леса, бор, поймы! Что за воздух! С первого же дня меня охватило деревней так, что вышибло вовсе «заграницу». Не будь у меня вещественных доказательств пребывания за границею, мне казалось бы, что я все видел во сне…»








