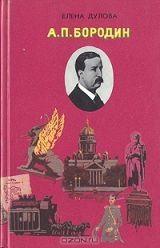
Текст книги "А. П. Бородин"
Автор книги: Елена Дулова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
«Санкт-Петербургские ведомости», 22 октября 1863 года.
«…В здании проложена система труб для провода и стока воды; паровая машина, помещенная в подвальном этаже, под главной лестницей, поднимает воду из Невы под крышу здания, в два водоема, из которых вода идет в различные помещения, смотря по надобностям, к кранам в стенах, к рабочим столам, к паровым и перегонным снарядам; из раковин, устроенных под кранами у стен и в рабочих столах, вода стекает по свинцовым трубам в общую водосточную трубу. Удобство, доставляемое устроенным водопроводом, имеет немаловажное значение, при большом числе занимающихся… Проведен во все этажи нового здания светильный газ. Железные газопроводные трубы спускаются с потолков и оканчиваются или люстрами, или горелками… Газ находится везде, где только может случиться в нем надобность…»
И долго еще безвестный репортер «Санкт-Петербургских ведомостей» восхищается сложным устройством химических печей, тяг, вентиляционных каналов, рассуждает о трудностях подведения воды и газа. Столетие с небольшим отделяет нас от времени, когда все это называлось «роскошным оборудованием». А каково было «господину химическому профессору» работать прежде, еще без всякой «роскоши»? Ну, недаром хлопотал, теперь все устроено отменно.
К МИЛИЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ БАЛАКИРЕВУ
Петербург, в период между 1864–1867 годами.
«…К моему прискорбию, я быть у Вас не могу: мне самому крепко нездоровится; к тому же я страшно устал, ибо, несмотря на нездоровье, с восьми часов утра работал в лаборатории, В силу этого решительно не в состоянии таскать ноги…
Музыка спит; жертвенник Аполлону погас; зола на нем остыла; музы плачут, около них урны наполнились слезами, слезы текут через край, сливаются в ручей, ручей журчит и с грустию повествует об охлаждении моем к искусству на сегодня. Прощайте, милейший друг, выздоравливайте.
Ваш А. Бородин».
БАЛАКИРЕВ
Вот и бейся с ними. Создатели новой русской музыки заняты чем угодно, только не своим прямым делом. Да ведь эту самую химию надобно послать ко всем чертям! Ну хорошо, я ему толковал, что с его дарованием необходимо взяться за большое сочинение. Убедил. Да как горячо дело пошло! Симфония зрела по часам, не по дням. При том каждую ноту обсуждали вместе, каждый такт проходил через мою критику. Ну, думал, скоро грянем! Так нет же. Треклятая химия, лаборатория, обвешан студентами, дома проходной двор. Все что угодно отнимает время, только не симфония. Ужасно! Хоть бы от кого-нибудь дождаться толку. Модинька тоже хорош. Ищет какой-то необыкновенной, «своей» правды в музыке. Бред. Останется дилетантом. Кюи… Да, Кюи?
Знает много. Сочиняет аккуратно и пишет тоже аккуратно. Корсинька? Вот! Это моя надежда. Вернуться из плаванья с готовой симфонией. Дело! И похвастаться не стыдно. Я им горжусь. Умилен. Горжусь, как старая тетка племянником-корнетом.
ОТ АВТОРА
19 декабря 1865 года Милий Алексеевич Балакирев продирижировал новой симфонией: «Опус первый» в ряду сочинений Римского-Корсакова. Через несколько дней появилась статья Цезаря Кюи. «Санкт-Петербургские ведомости», 24 декабря 1865 года.
Первый концерт в пользу Бесплатной школы.
«…С тех пор, как мне случается по временам говорить о явлениях музыкальной жизни Петербурга, я в первый раз берусь за перо с таким удовольствием, как сегодня. Сегодня мне выпала действительно завидная доля писать о молодом, начинающем русском композиторе, явившемся впервые перед публикой со своим крайне талантливым произведением… Публика слушала симфонию с возрастающим интересом, и после анданте и финала к громким рукоплесканиям прибавились обычные вызовы автора. И когда на эстраде появился автор, офицер морской службы, юноша лет двадцати двух, все, сочувствующие молодости, таланту, искусству, все, верующие в его великую у нас будущность, все те, наконец, кто не нуждается в авторитетном имени, для того чтобы восхищаться прекрасным произведением, – все встали как один человек, и громкое единодушное приветствие начинающему композитору наполнило зал…»
В других газетах молодого автора скромно одобрили. И среди публики, и среди артистов нашлось немало тех, кто с недоверием встретил «чиновника», «мундир» – словом, человека, имеющего другую профессию, «дилетанта». Это задевало особенно. Да, трое из «балаки-ревцев» носят мундиры, и все трое в достаточной степени от них зависимы. Серьезный критик Цезарь Кюи, защитник и проповедник русской музыки, печатает в «Санкт-Петербургских новостях» музыкальные фельетоны и рецензии. Однако если кто-то там, наверху, бывает задет его критикой, Цезарь Антонович выслушивает замечания военного начальства. Тогда ему напоминают, что он носит мундир профессора фортификации. В свое время Николай Андреевич Римский-Корсаков испросит у начальства разрешения дирижировать в концерте и получит категорический отказ: морской офицер надевает форму не для того, чтобы махать руками перед публикой…
Выписка из протокола заседания Конференции Императорской Медико-хирургической академии.
«В заседании… Академии в день 3 апреля кандидатом на вакантную кафедру химки предложен адъюнкт-профессор Бородин… Других кандидатов для занятия вакантной кафедры химии никем не предложено.
В заседании 11 апреля приступлено было к баллотированию закрытыми шарами, причем Бородин получил семнадцать избирательных и один неизбирательный шар-Конференция Академии определила: доктора Бородина назначить ординарным профессором химии с содержанием, этой должности присвоенным».
БОРОДИН
Да, тяжела ты, шапка Мономаха, то бишь генеральские эполеты. Ну вот, нынче жара стоит, белые ночи и всякое цветенье. Явился вчера на экзамен эдак запросто, в светлом костюме. И, как на грех, пожаловал президент Академии. Сделал мне «легонькое замечание», что нынче, мол, времена строгие, так лучше бы приходить в форме. А уж к остальным как цеплялся, как распекал студентов – ни в сказке сказать, ни в письме описать. Тот не так сидит, этот не вовремя ходит, другой не там стоит или руки непочтительно держит. Ну погоди ж, в пику господину президенту надену вот завтра не погоны, а эполеты. Но, по правде говоря, смешной я в «енараль-ской»-то форме. Сразу делаюсь «старичок», даром что покуда молод. Зато как я возложил на себя всю амуницию, сияние пошло во все стороны. Могу позировать для какой-нибудь картины вроде Рафаэлева «Преображения». Ведь все сияет: воротник, обшлага; шестнадцать пуговиц – как звезды; эполеты убийственны, как два солнца. Но это еще не все! Сияет темляк, сияет околыш кепи – одним словом, «ваше сиятельство», да и только.
ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
«Ваше сиятельство, ординарный профессор господин Бородин, как же мне плохо живется без вас. Сашенька, миленький, страшно, тоскливо». Как бы уж я ему пожаловалась сейчас! Не могу быть покойна, покуда приходится жить врозь. Я теперь, без него, начинаю бояться всего пуще прежнего. Когда он рядом, посмеется, успокоит да еще какие-нибудь стишки сочинит про мои глупости. Как начнет вспоминать мои страхи, сама смеюсь. А теперь боюсь. Точно, как он пишет: «…будешь скучать одна и бояться кривых потолков, воров, собак, лошадей, кур, коров, мух, тараканов, пьяных мужиков, трезвых мужиков, баб, ребятишек, цыплят, воробьев, грозы, холеры, тифа, простуды, разбойников, темных ночей…» Все живут как люди, а я вечно мыкаюсь. Все по ночам спят, а я думаю бог знает о чем и задыхаюсь. За что, за что такое наказание? Отчего я не могу быть всегда при нем? Гнилой Петербург – едва зиму протянешь, и уже надо бежать вон. И думаю, думаю… как он с утра до ночи работает, забывает обедать, хлопочет сразу за десятерых просителей. А о нем кто хлопочет? У «тетушки» своих огорчений полным-полно, одряхлела, к нам и добираться тяжело.
Сашура даже и симфонию, наверное, опять совсем забросил. «Все народы» в дом теперь не ходят, я у него над душой не стою, новых строчек не прошу, не играю. А поначалу как все хорошо устроилось. Что ж, что денег было мало – я хозяйство умно вела. Приятные это были хлопоты. И на рынок бегала, и на рыбный садок, во все сама вникала, обдумывала кушанья, соображалась с расходами. Гуляли каждый день в госпитальном саду, музицировали. И все Сашины «музикусы» к нам стали ходить. Конечно, стол у меня всегда скромный: закуски, домашний пирог. Зато чай самый лучший. И так я их всех полюбила! И кумир их, Балакирев, мне вовсе не страшен оказался. Да он сразу меня оценил, как только мы вместе за фортепьяно сели. Умница, совершенно сошелся со мной в восторгах по поводу Листа. А «Мефисто-вальс» играл… сам точно Мефистофель!.. Вот так-то без сна намучаюсь ночью и готова с утра сей же час посылать за билетом на Петербург. А куда я такая гожусь? Вот и Саша пишет, что Боткин Сергей Петрович велел меня в Москве держать до самых морозов. Пока у них там Нева станет и сырости поубавится…
БОРОДИН
Наконец-то она дома, бедная моя, сиротствующая, болящая. Милый Остаточек, Точечка, Зозо вот здесь, в кабинетике у меня. Лежит на диване, свернулась под своей шалью калачиком. Будто дремлет. Знаю, знаю, Остаточек, не обманете – ушки у вас на макушке. Ведь ваш драгоценный Сяся носится как угорелый от рояля к конторке, туда-сюда, туда-сюда… Экое счастье выпало – воспаление горла! Положительно везет: схватил модную теперь болезнь. Получилась целая неделя не «химикальная», а «музыкальная». Да еще рождественские каникулы не за горами. Если эдак пойдет, пожалуй, разрешусь наконец от бремени. Удивительное дело, когда Катеринка тут, рядом, во мне словно усиливается мой «музыкальный магнетизм».
ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
Балакирев, если рассердится, кричит, что эдакая канитель никому не снилась. Это он про симфонию Сашину. Ведь четвертый год сочиняет, все урывками. Но такой музыкальной лихорадки у нас уже давно не было. Саша теперь целые дни занят симфонией. Не напомнишь, так ни есть, ни пить, ни спать не станет. Поздно вечером затащишь его к обеденному столу, а он как сомнамбула: жует, что положат, чашку пододвинут – пьет чай. Взгляд растерянный, далекий такой… смотрит и не видит, отвечает все невпопад. Иной день играет по десяти часов кряду. И все мучается, все ищет самых верных созвучий. Сердится, что я тогда на него гляжу. Очнется от звуков и обиженно так скажет:
– Не смотри ты. Что за охота глядеть? Лицо у меня теперь глупое…
Я и возразить не успею, как он уж опять забыл все на свете. Улетел от земли. А лицо у него в эти минуты… если бы он мог сам на себя посмотреть, – глаза туманные, загадочные, лицо тихое, светлое; или весь восторгом пылает, тогда глаза – огонь. Нынче ночью сочинял, стоя за конторкою, – весь горел. И напевал, и сердился, и бормотал что-то быстрое, и черкал, черкал, черкал. Вдруг рассмеялся, побежал к роялю. Я глянула на листки, а там поверх нот во весь размах буквы: «Так! Так писать!!»
К МИЛИЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ БАЛАКИРЕВУ
«КОНЧИЛ.
А. Бородин.
P. S. Если хотите быть крестным отцом, сиречь восприемником новорожденного детища, то напишите когда. Я все дни свободен. Лучше, если приедете к обеду. Мы обедаем около пяти часов. Жена шлет поклон».
ОТ АВТОРА
Слава Балакирева-дирижера крепнет. 4 февраля 1867 года он дирижирует в Праге оперой Глинки «Руслан и Людмила». Успех громадный. Надо сказать, что Милий Алексеевич приложил поистине титанические усилия, чтобы оперу боготворимого им Глинки услыхали за рубежом.
Весной того же года на этнографическую выставку в Россию съехались гости, посланцы всех славянских народов. Балакирев задумал весьма оригинальное торжество в их честь. 12 мая состоялся под его управлением Славянский концерт, в котором каждая из пьес относилась к той или другой славянской национальности. Торжественное настроение царит в зале Думы, великолепно убранной и сияющей бесчисленными огнями. Звучит музыка Глинки, Даргомыжского, Балакирева, Римского-Корсакова, Листа, Монюшко. На следующий же день Владимир Васильевич Стасов откликается на небывалое событие большой статьей. Он пишет в обычном для себя тоне, темпераментно и категорично.
«Санкт-Петербургские ведомости», 13 мая 1867 года.
«…Весело было пробежать взором по рядам славянских гостей: все лица оживлены, не встретишь ни одного рассеянного, скучающего или равнодушного лица. Сразу видишь, что тут сидят люди, которым музыка – дорогое национальное искусство, которым язык – свой, родной… После пьес, особенно их поразивших, сербы кричали свое «Живио, жизио!» («Браво!»), чехи – свое «Слава, слава'». Наверное, можно сказать, что сегодняшний концерт будет иметь особенное значение для всех их: где же могли они слышать в один вечер столько превосходных, столько увлекательных созданий славянского музыкального творчества? Где могли они присутствовать при таком вы-сэкохудожественном управлении оркестром славянского дирижера, как сегодня?.. Кончим наши заметки желанием: дай бог, чтоб наши славянские гости никогда не забыли сегодняшнего концерта, дай бог, чтоб они навсегда сохранили воспоминание о том, сколько поэзии, чувства, таланта и уменья есть у маленькой, но уже могучей кучки русских музыкантов».
РИМСКИЙ-КОРСАКОВ
В душе я страшно сердит на Стасова. Какая неловкость и бестактность! Назвать наш кружок «могучей кучкой». Ведь это только на руку противоположной партии. И так о нас судили пристрастно. Теперь станут ругать вдвойне. Станут, конечно, всячески подковыривать: что, мол, это за «кучка» такая могучая? Это кто же там «могучий»? Я, мальчишка, написавший «нечто»? Модинька? Конечно, он бросил все – карьеру, службу, связи– ради одной только музыки. Правда, что он прекрасный пианист и отличный певец. Но разве возможно помыслить, что из него выйдет великан-композитор? Кюи по части вокальной и оперной большой мастер, но размаха в нем мало. Бородин? Тут разговор особенный… Вот вам и вся «кучка». А «могучий», выходит, один Балакирев? Летит впереди всех орлом. Да! Я и поныне его боготворю.
ОТ АВТОРА
Отношения «балакиревцев» с Консерваторией и Русским музыкальным обществом складываются не просто. Какая-то «кучка» дилетантов, любителей претендует на целое направление в отечественной музыке?! Что ж, время всех рассудит и все расставит по своим местам. И окажется, что каждый из «конкурентов» сыграл по-своему важную роль в музыкальной жизни России. Ну а слова Стасова и вовсе пророческие: пятеро композиторов так и останутся в истории под общим именем «Могучая кучка». Однако, несмотря на все дипломатические хитросплетения в отношениях, Балакирева несомненно ценят как дирижера. Русское музыкальное общество приглашает его руководить симфоническими концертами. Милий Алексеевич горячо принимается за дело и сразу берет категорический тон в своих требованиях. Его не смущает, что приходится тем самым вызывать недовольство высокой покровительницы Общества, великой княгини Елены Павловны. Прежде всего – дело, прежде всего – интересы нового направления в музыке. Из-за границы именно по настоянию Балакирева приглашен друг Глинки, Гектор Берлиоз. Он дирижирует шестью концертами. Сам Балакирев – четырьмя. Звучит музыка Глинки, Римского-Корсакова и новых западных композиторов. К тому же Балакирев ставит условие – он непременно станет исполнять еще и музыку молодых соотечественников. И тогда дирекция Русского музыкального общества предлагает ему провести большую «оркестровую пробу» в Михайловском дворце.
БАЛАКИРЕВ
«Отцовская жилка» моя ликует. Теперь мы сумеем как следует побороться. Долой всю эту неметчину, всю эту итальянскую патоку! Действовать! Вот милейший Бородин одарил, обрадовал. Ну хорошо, симфония родилась. Надо теперь крестному папаше ее к делу пристраивать. Отлично! Тут, кстати, и случай вышел. Сначала для пробы решил включить «детище» в грандиозное прослушивание. И что же? Безобразие! Дирекция собрала всех своих доморощенных гениев. И все эти «композиторы» осмеливаются сочинять для оркестра. Дирижирую со скрежетом зубовным. Оркестранты ругаются немилосердно. Хорошенькая компания для нашего «химика»! Чушь! Терпение. Другим способом нам оркестра не получить.
Ах, досада, досада! На пробе не хватило времени, чтобы добиться сносного звучания. Ужасно! А Бородин доволен: «Спасибо и на этом. Могли бы ведь и вовсе не играть. Тогда ничего бы не услышал»… Прелесть! Святая душа!
Я категорически настаиваю на публичном исполнении симфонии. Дирекция в ужасе.
ОТ АВТОРА
Между тем композитора Бородина требовала к ответу наука. 28 декабря 1867 года в Петербурге открывается Первый съезд русских естествоиспытателей и врачей. Как член химической секции Бородин принимает самое активное участие в работе съезда. Вместе со своими коллегами он ставит вопрос об учреждении Русского химического общества. И ровно через год такое общество будет создано. В декабре 1868 года в аудитории Петербургского университета произойдет первое заседание Химического общества, президентом которого выбран академик Николай Николаевич Зинин. К его великой радости любимый ученик, профессор Бородин, регулярно делает интереснейшие сообщения о своих исследованиях.
РИМСКИЙ-КОРСАКОВ
Как товарищ более всех мне по сердцу Бородин, хотя он и старше меня на десять лет. Ни с кем не говорится так задушевно. Ни с кем другим и дела музыкальные не обсудишь так свободно. Я в восхищении от его симфонии. То есть я уж давно в восхищении. Даже когда он только еще наигрывал мне наброски. Теперь, целое, и вовсе прекрасно.
В высшей степени замечательный он человек. Что за редкостное, обаятельное сочетание: дар божий и в науках, и в искусстве, горячее сердце и ум аналитический, серьезность и самая легкая шутливость. А это бесподобное умение делать все одновременно да еще держать в голове сто дел? Ведь это прелесть что такое, когда он в своей лаборатории. Колдует над трубками и колбами, а я ему под руку:
– Вы, Александр Порфирьевич, ничего путного не делаете, все перегоняете из пустого в порожнее.
Тут он вскакивает, тащит меня за полу сюртука к роялю (благо квартира здесь же). Прыгает через коридор и какими-то дикими интервалами припевает:
– Та-ти… ти-та… да-да… Да, Корсинька, из пустого в порожнее, занятие пустопорожнее!
Садимся за рояль, играем, спорим. Только войдем во вкус – вскакивает, опять оглашает коридор дикими интервалами, бежит смотреть, как бы его химическое варево ке перегорело и не перекипятилось.
Однажды в обычной нашей шутливой манере восхищался его ученостью. И вдруг Александр Порфирь-евич серьезно так, даже с некоторой печалью говорит:
– Нет, Корея, ученость тут ни при чем. Ум истинный состоит в том, чтобы отдавать себе отчет в правильном соотношении вещей.
Замечу, что сам он один из тех удивительных людей, которые способны видеть любой предмет со всех сторон и тем не менее увлекаться самым горячим образом.
Собираемся все так же часто у Балакирева. Опять-таки разбираем по косточкам все сочиненное. Могучий Стасов гремит, излагает очень цветисто и вдохновенно сюжеты для наших будущих опер. Он же устраивает литературные прения. Бывают сшибки! Никто по углам не отсиживается, молчком не отделывается. Разный народ приходит. Ближе других к нашему кружку стал весьма оригинальный человек, некто Лодыженский, недурной композитор-любитель.
Братья Лодыженские на все лето пригласили Бородиных к себе в имение. В июле зазвали и меня. Так я провел около недели вместе с ними в Тверской губернии. Глядели на хороводы, катались верхом, слушали песни. И во мне мгновенно возбудился прилив какой-то любви к народной жизни, к ее истории. Много говорили о том с Александром Порфирьевичем. Много обменивались музыкальными мыслями за роялем.
БОРОДИН
Славно встретил меня Питер. Со слезами радости, то бишь проливным дождем. Куда деваться с вокзала? Домой, на Выборгскую? В пустые хоромы ехать? Положительно противно. Поеду к «тетушке». Там детство, уют, покой, дом.
Полжизни прошло, господин профессор, кругом страсти и бури, а здесь все то же. И ширмы полинялые те же, и мебель кряхтит от старости, и те же тряпочки, веревочки, лоскуточки по углам. И те же мои детские книжки на полках… Вот уж и совсем зачитанная: «Ручная энциклопедия знаменитого Вениамина Франклина». Мудрый мой советчик был. Многое, над чем в детстве посмеешься, обернется истиной. Открыть, что ли, наугад? Ну где еще такое вычитаешь: «Дети и дураки воображают, что 20 рублей и 20 лет бесконечны… а когда высохнет колодец, тогда узнаешь цену воды». Да, мой семейственный археологический музей. Как, однако, благотворно действует все это на мою взбаламученную душу!
АВДОТЬЯ КОНСТАНТИНОВНА
Переночевал да улетел. А что хорошего одному мыкаться? Поеду-ка и я, пожалуй, на Выборгскую. Пригляжу, а то и заночую. Охо-хо, дети, дети! Вот уж точно – вместе скучно, порознь тошно. Да знаю я, что и ему, и Кате теперь ох как тошно!.. И кто бы мог подумать, что от доброты его неизреченной беда выйдет? Вот ведь как у них скверно лето кончилось. Катя опять в Москве осталась, совсем разболелась. Нервничает, по ночам не спит, чай пьет да курит. Такие фокусы, да с ее-то астмами! Саша там около нее хлопотал, тоже не спал, представлялся веселым. А у него на сердце скверно. Взбаламутила его Анка своими несчастьями. Летом-то она у братьев своих в том имении жила. Ну и проняло моего мальчика драгоценного. Молоденькая такая, а муж грубиян бесчувственный, так и норовит расстроить. Младенца-первенца потеряла, только-только опамятовалась. А сама и умница, и красавица, и трем языкам обучена, и обращения тонкого. Понимаю я ее, бедняжку, как она к солнышку-то моему потянулась. Встретить такое сокровище да не полюбить его? А только куда теперь все это повернется?
МУСОРГСКИЙ
Балакирев сидит дома и носа не кажет. Подумать только, наш орел как будто охладел к интересам кружка.
А мы, охальники, совсем от рук отбились, одни, без него в дом к Их Благородию Даргомыжскому Александру Сергеевичу хаживаем. Там событие так событие! Дар-гунчик свершил великое дело: окончил «Каменного гостя», так и не изменив ни слова пушкинского! Эдакой оперы еще свет не видывал. Чистая «музыкальная речь», одни разговоры и никаких арий. Зависть берет. Ну я же добьюсь толку! Буду сам себя в клетке держать, пока не приручусь. Чтобы музыка передавала речь человеческую во всех изгибах. «Клетка» моя – гоголевская «Женитьба». Разговор в музыке, разговор без зазрения совести. Все чувства человеческие переданы будут у меня в музыке простым говором. Вот тогда и дело в шляпе!
Нынче замечательное у нас было представленьице, насмеялись до упаду. Спасибо Даргомыжскому и его музыкальным крестницам. Что бы мы делали без этих милых девиц? Наденька на фортепьянах за целый оркестр играет. Сашенька споет за кого хочешь. Аи, спасибо Даргунчику за сестричек Пургольд! Да и сам Александр-то Сергеевич эк хватил! – Кочкарева представлял. Великий ведь музыкант, а от смеха то и дело сбивался. Лестно это каналье-автору! Сам я отвел душу, припечатал Подколесина во всем блеске. Эх, Мусорянин-Светик-Савишна, стоит жить ради таких-то минут. Тогда только позабываешь, что ты «червяк», чиновник в лесном департаменте. И ежели тебя завтра отчислят из штата, пойдешь помирать под забором. Враки! Кто у меня отнимет искусство? То-то… Сердит на Балакирева и Кюи. Увидели в «Женитьбе» один лишь курьез. Зато «бурь морских, адмирал» да и «алхимик» – довольны. «Химический господин» говорил много хорошего про новизну и оригинальный юмор. А я Порфирьича люблю и, следовательно, особенно ему верю.
БОРОДИН
В Питере сдерживаться не для кого и не для чего. Тут-то проклятая тоска меня обуяла. Ударился в занятия, в музыку, в чтение, мотаюсь по академическим знакомым, ничего не помогает. Спать перестал, музыка нервирует, тоска донимает даже в лаборатории.
На-до-е-ло. Плюнуть и не обращать внимания. Само пройдет.
В одно прекрасное утро раздался у двери сильный звонок. Я отворил. Это была она. Какою непритворною радостью озарилось ее лицо! Первые ее слова – о Кате, здорова ли, скоро ли приедет? Сама крайне нервна, изменилась, похудела. Лихорадочно рассказывает про свое житье, мучения… Голова у меня горела, руки стали как лед. Собрался с силами и высказал ей весь запас своих аргументов. Она посмотрела на меня ясным взором и отвечала:
– Господи, да зачем Вы мне все это говорите? Я ничего не требую, ни на что не надеюсь. Пусть я для Вас сестра, дочь – кто угодно. Только бы знать, что есть Вы, что тут полная вера, что ни обмана, ни фальши, ничего такого быть не может.
И тоска, от которой я бегал по саду, по пустым хоромам, по чужим гостиным, вдруг совсем пропала. Тут-то и понял, что мое надежное, прочное, «семейное» чувство к Кате, к взрослой женщине, моей жене, никак не может пострадать. Что никакой вины моей перед ней нет. Но тут же вдруг и понял, что где бы ни была Анка, она уже не может стать мне чужой. Я понял, что хочу и буду делать для нее добро. Только куда как не просто все. Ужасна ее зависимость от мужа, ее беззащитность. Непременно, во что бы то ни стало надо избавить ее от деспотизма. Каким образом? Знаю, стоит мне сказать одно только слово – и она свободна, счастлива. Но как раз этого-то я ей сказать не могу. Милая девочка… Это ей только кажется, будто она ни на что не надеется, а сколько еще будет слез, сколько отчаянья, покуда удастся ее «повернуть в дочки». Да еще удастся ли?.. Если бы Анка не принадлежала ни мне, ни ему, ни кому-либо еще на свете, а только себе самой, я был бы покоен и счастлив. Она молода и совсем еще этого не понимает, а между тем величайшее добро, какое можно дать любимому человеку, – это дать ему свободу.
К ЕКАТЕРИНЕ СЕРГЕЕВНЕ БОРОДИНОЙ
Октябрь 1868 года.
«…Оставить же теперь А. было бы не только глупо, но и бесчеловечно. Глупо – потому что она очень молода и могла бы легко надурить на свою же голову. Бесчеловечно – потому что, кроме меня, в настоящее время у ней нет никого, к кому бы она могла относиться открыто и черпать нравственные силы, без которых она непременно пропадет… Не забудь, что я ни разу не поцеловал ее даже, хотя имел к тому полную возможность… Пойми же, Катеринка, что в чувстве моем к ней я ничего от тебя не отнимаю, а только даю то, чего не могу дать тебе: «чувство моей любви к детям», т. е. к элементу слабости, молодости, надежд и будущности. Слышишь же! не ревнуй, не тоскуй и пойми все это…»
ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
Зачем только я просила этих его исповедей! Не знать бы ничего. Да нет. Со стороны такого наврут, что совсем с ума сойдешь… Мое курение дошло до безобразных размеров. Не похвалил бы меня «мой Майчик». «Мой»? «Майчик»? Нет, уж теперь, видно, не мой, теперь она, она им завладеет непременно. Говорят, она за границей жить собирается. Чтобы нас будто бы не тревожить. Нет, нет, я знаю, она там будет моей смерти дожидаться. Знаю, я в ее глазах старуха тридцатипятилетняя. А почему же в ее только? Боже мой, конечно, я поняла, Александр теперь свою судьбу проклинает, от меня ему одни мучения… Нет, надо ехать. В Петербург надо. Остановиться где-нибудь в отеле, в номерах, тайно… Господи, о чем это я? Ехать? Но за что же так обижать Сашеньку? Отель, номера… Как глупо! Однако нам теперь тяжело видеться. Я его знаю – за всех станет мучаться.
К ЕКАТЕРИНЕ СЕРГЕЕВНЕ БОРОДИНОЙ
Октябрь 1868 года.
«Прости, моя родная… Право, я не стою твоей горячей любви. За что я тебя так мучаю? Я имею право на мое собственное, личное счастье, на мою жизнь, мою судьбу. Поэтому мне следовало – как я и предполагал делать и делал – одному переваривать, переживать и перестрадать все то, что было, хотя и невольно, создано, главным образом мною…
Об одном тебя прошу: ради Бога, не вини никого, ни меня, ни себя, никого…
Приезжай скорее, моя хорошая… Хотел тебе писать еще, да как-то не клеится… В голове гудит какая-то пустота, а в пустоте этой темно как-то и тяжело. Милая моя, приезжай скорее; поплачь у меня на груди; дай мне поплакать с тобой. Слышишь: я жду. Приезжай скорее…»
ОТ АВТОРА
Эта драматическая ситуация принесет еще немало горьких переживаний, тяжелых раздумий всем, кто в нее вовлечен. Но, сколь это ни трудно, три главных действующих лица останутся на высоте истинно человеческого понимания друг друга. А жизнь продолжает себе идти, и в ней совершаются положенные события.
БОРОДИН
«Близок уж час торжества моего…» Это какого же торжества, простите-извините? Закидают автора мочеными яблоками – вот и все торжество будет. Подлец переписчик, пьян он был, что ли? Так изуродовать партитуру! Вот тут альты должны играть, а он заехал в виолончели. А тут вовсе сплошное вранье. Никогда не думал, чтобы проверка партий была такой адской работой! Вот вам, батюшка, и Новый год! Порядочные люди станут веселиться, плясы устраивать, а ты изволь в собственной симфонии блох ловить. Чуть ли не каждому инструменту в партию ошибок понаписал! И что за рок тяготеет над моей бедной симфонией? Три года жду очереди. А может, оно и к лучшему. Ведь теперь дрожь так и пробирает. Первый раз на публичное торжище пожалуйте, Александр Порфирьич. Публике подавай сладкогласие, а сладкогласия-то у меня и нет…
Ну, с Богом! Афиша выпущена. Балакирев репетирует. Оркестр понемногу проникается симпатией к моей музыке. Однако есть и такие, что поругивают. Катеринка денно и нощно в страшном волнении. А вслух посмеивается: «Не помолиться ли, Сашенька?» И помолился бы, да только кому? То ли богу Аполлону, то ли Орфею, то ли святой Цецилии, то ли Николаю-угоднику. Боязно быть автором. Это вам не доклады читать и не опыты ставить. Тут разом всего себя отдай на съедение публике.
БАЛАКИРЕВ
С тревогой в душе я ожидал субботы. Дирекция упорно считала симфонию Бородина слишком оригинальной. Все эти предварительные разговоры плохо влияют на общее мнение. Но я крепко надеялся на замечательное свойство его музыки. Горячность. Горячность и вдохновение. Понятно, тут не все одинакового достоинства. Зато сухости не найдете никогда. Неужели не проймет публику?
Наконец памятный вечер настал. Я вышел к оркестру. Играем первую часть. Чувствую – в зале холод. Публика вяло похлопала, кое-где даже шикнули, потом умолкли. Не пугаться! Вперед! Скерцо пронеслось как дуновение, и – взрыв рукоплесканий! Хочу играть дальше – не дают, вызывают автора, требуют повторить. Отлично! Финал я уже провел в упоении. Овация. Бородина вызывают несколько раз. Победа!..
Однако радость наша сильно омрачена. Не стало Даргомыжского. Он тяжко болел. А все за нас волновался. Вестей ждал с концерта. Ночью мы его беспокоить не решились. Думали, порадуем утром. А утром-то…
ОТ АВТОРА
Уход Даргомыжского обрывал еще одну из немногих нитей, связующих со временами Пушкина и Глинки. Все «балакиревцы» скорбели о невосполнимой утрате искренне и глубоко. Оттого серьезный публичный дебют Бородина не отозвался в кружке с должной силой. И «присяжный критик» кружка Цезарь Кюи лишь спустя долгое время оценит первое крупное сочинение своего товарища – Первую симфонию.








