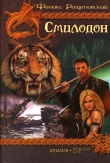Текст книги "Прекрасные авантюристки (новеллы)"
Автор книги: Елена Арсеньева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц)
И, даже не поглядев на царицу, словно той и не было здесь, схватила Дмитрия за руку и повела вон из горницы.
Того и вести не надо было! Мигом вырвал руку у Василисы, стремглав слетел по лестнице – и тотчас со двора зазвенел его веселый голос.
Марья Федоровна и не хотела, а улыбнулась: «Может, птицу какую ребята принесли? Ладно уж, пускай повеселится дитя». И почти в ту же минуту послышался крик няньки Арины. Отчаянный, пронзительный, душераздирающий!
Марья Федоровна помертвела и несколько мгновений не могла шевельнуть ни рукой, ни ногой.
– Царевич! – собственный крик вернул ей способность двигаться. Не помнила, как слетела с лестницы, как оказалась во дворе. И тут снова подкосились ноги при виде Арины, которая стояла на коленях и поддерживала голову лежавшего на земле Дмитрия.
Горло его было в крови. Рядом, на земле, лежал окровавленный нож, а чуть поодаль, озираясь затравленно, словно волки, стояли Битяговские с Качаловым да Оська Волохов, которого все силилась прикрыть собой Василиса…
Спустя немалое время прибыли из Москвы расследователи во главе с князем Василием Ивановичем Шуйским. Принялись расспрашивать народ.
Выходило, что дело было так: когда мамка Василиса вывела царевича во двор, к нему подошел Осип Волохов и сказал:
– Дивно хорошо у тебя ожерелье новое, царевич. Дай-ка погляжу.
Мальчик вскинул голову, красуясь. В это время Осип резко тряхнул рукой, и из рукава его высунулся нож, которым он и чиркнул по горлу царевича. Тот упал, как стоял, заливаясь кровью… Кормилица Арина Жданова бросилась к нему, прижала к себе и принялась кричать, взывая о помощи. Осип же и Битяговские рвались к нему с ножами и пытались оттащить Арину.
На крик из дому выскочила царица и ее родня. Суматоха поднялась страшная! Брат царицы Афанасий схватил царевича – никто не мог понять, жив мальчик еще или мертв, – бегал с ним туда-сюда. Марья же Федоровна словно обезумела. Вместо того чтобы оказать помощь сыну, она схватила валявшееся в стороне полено и принялась что было мочи охаживать Василису Волохову. Потом упала без чувств. Битяговские и Волоховы с Качаловым рванулись было бежать, однако в ворота ворвался народ.
Оказывается, тревогу поднял Огурец, пономарь церкви Спаса, который в эти минуты стоял на колокольне и видел оттуда все, что происходило на царском дворе. Он и ударил в набат.
Суматоха на царском дворе воцарилась необычайная! Когда люди несколько угомонились, им сообщили, что спешно унесенный в дом царевич умер от потери крови. Битяговских с Качаловым и Осипом Волоховым народ забил до смерти.
Ко времени приезда следователей – их возглавлял Василий Шуйский – царевича уже похоронили. Могилку его князь Шуйский видел, ну а трупа, конечно, видеть не мог. Все, что князю оставалось, это снять допросы со всех присутствовавших. Что он и сделал со всем тщанием. Опросил десятки горожан, селян, жильцов, слуг, холопов… Не снял допроса только с царицы Марьи Федоровны и брата ее Афанасия. Царица-де лежала в горячке, ну а Афанасий Нагой куда-то безвестно отлучался и воротился в Углич только в последний день работы следователей. К тому времени князь Шуйский уже сделал вывод из происшествия.
Выходило, что дети играли в тычку острыми ножами, царевич взял да сам себя и поранил. Ведь известно, что он страдал черной немочью, вот тут и случился, на беду, такой припадок. Битяговские, нарочно присланные следить за порядками в Угличском дворце, кинулись к мальчику на помощь, но глупая нянька Арина Жданова, по бабьему своему неразумению ни в чем толком не разобравшись, подняла крик и учинила переполох. Царица и ее родичи приняли Битяговских, Волоховых и Качалова за лиходеев и учинили с ними расправу – вместо того чтобы помощь подать раненому. Неудивительно, что он умер от потери крови. То есть виновных и искать не надобно – виновны во всем одни только Нагие. Они за царевичем недосмотрели, по их наущению погубили безвинных людей. Им за все и ответ держать!
Такой доклад был срочно отправлен в Москву, к царю Федору Ивановичу (читай – к его шурину Борису Федоровичу). Почти незамедлительно после этого прибыл государев гонец с распоряжениями покарать всех примерно.
Марью Федоровну постригли насильственно и в закрытом возке увезли в Выксунский монастырь. Нагих сначала пытали в темницах и застенках, добиваясь признания, что царевич убил себя сам (эти глупые люди почему-то никак не желали соглашаться с выводами следователей и самого князя Шуйского, все пытались обвинить Битяговских!), а потом разослали по дальним монастырям и селениям – под самый строгий надзор властей. Двести обывателей Углича погибли под пытками, множеству народа урезали языки, большинство населения было приговорено к ссылке в Пелым. Пока осужденные собирались, первым в Сибирь отправился колокол церкви Спаса, включенный в огульную опалу угличан. За то, что возвестил о нападении на царевича.
В Москве, впрочем, ходили слухи, что истинную правду о случившемся в Угличе знает только князь Шуйский.
На самом же деле знал ее совсем другой человек – Афанасий Нагой… Но не сказал он этой правды ни под пытками Шуйскому – из ненависти к Годунову, ни даже сестре своей Марье Федоровне – из жалости к ней. Так и пошла весть по земле Русской: умер-де в Угличе царевич Дмитрий.
Умер. Нету его больше. Царство ему небесное!
Аминь.
И та, что звалась его матерью, тоже все равно что умерла в заснеженной лесной глуши. Царство и ей небесное, бывшей государыне Марье Нагой!
Она провела здесь четырнадцать лет, а смирения – последнего прибежища отчаявшихся душ – так и не обрела. Мало того, что ее лишили последней радости в жизни, так еще и загнали в эту Тмутаракань, на край белого света, заперли в убогой келейке, приставили сторожей, от которых Марфа не видит ничего, кроме грубости и поношений. Какие-то звери в образе человеческом! Держат на хлебе и воде, ни шагу за порог сделать не дают, никого к опальной инокине не подпускают. Ну что ж, все понятно: страшится Борис, что хоть кому-то обмолвится она об истине – не той, которую представил ему верноподданный хитрый лис Василий Шуйский, а об истинной правде о том, что произошло в тот страшный день в Угличе, вот и содержат инокиню, будто самую страшную преступницу.
Разве удивительно, что не смягчалось ее сердце? Разве странно, что скорбь о сыне сменялась в ее душе приступами бешеной злобы против Годунова? Ненависть к нему сделалась смыслом ее существования. Некогда, во дворце Грозного, молоденькая Марья Нагая жила одной мечтой: родить государю сына, чтобы избегнуть страшной участи своих предшественниц, не оказаться заточенной в монастыре. Сына она родила, но монастыря так и не избегнула. И теперь молила господа, мечтала об одном: покарать злодея! Покарать Годунова!
Теперь уже царя…
Годы шли, шли, шли. Совсем покосилась убогонькая келейка Марфы, сгорбилась и сама инокиня, ее лицо, лицо еще не старой женщины – некогда красивое лицо – избороздили глубокие морщины, однако мысль о мщении Годунову не покидала ее.
И вот наконец она поняла, что мольбы ее дошли-таки до бога!
За все четырнадцать лет заточения только единожды покидала инокиня Марфа место своего заточения. Тогда ее срочно увезли в Москву – в Новодевичью обитель. Туда к ней прибыли высокие гости. Это были сам государь Борис Федорович и его жена Марья Григорьевна, дочь Малюты Скуратова.
Инокиня знала причину, по которой ее выдернули из лесной глуши. Незадолго до этого старый священник, служивший обедню в Выксунском монастыре, провозгласил анафему какому-то Гришке Отрепьеву, расстриге и вору, именующему себя царевичем Дмитрием, погребенным в Угличе. Марфа тогда чуть не упала прямо посреди церковки. Гришка Отрепьев? Кто такой Гришка Отрепьев? Откуда он взялся и почему? Как посмел назваться именем ее сына?!
Но за одно она была благодарна этому неведомому человеку: за то, что он заставил насмерть перепугаться царя Бориса… убийцу Бориску Годунова!
Понятно, почему он приехал с женой. Когда колеблется трон под Борисом, колеблется он и под супругой его. А потому и злобствовала Марья Григорьевна, стоя подбочась пред сухоликой, сухореброй, источенной жизнью и лишениями инокиней Марфой, потому и орала истошно:
– Говори, сука поганая, жив твой сын Дмитрий или помер? Говори!
Монахиня, почуяв силу свою и слабость государеву, вдруг гордо выпрямилась и ответила с долей неизжитого ехидства:
– Кому знать об этом, как не мужу твоему?
Намекнула, словно иглой кольнула в открытую рану!
Борис – тот сдержался, только губами пожевал, точно бы проглотил горькое, ну а жена, вдруг обезумев от ярости, схватила подсвечник и кинулась вперед, тыркая огнем в лицо инокини:
– Издеваться вздумала, тварь? Забыла, с кем говоришь? Царь пред тобой!
Марфа уклонилась, попятилась, прикрылась широким рукавом так проворно, что порывом задула свечку:
– Как забыть, кто предо мной? Сколько лет его милостями жива!
Снова кольнула! Снова пожевал царь губами, прежде чем набрался голосу окоротить жену:
– Царица, угомонись. Угомонись, прошу. А ты, инокиня, отвечай: жив ли сын твой?
– Не знаю, – ответила монашенка, морща иссохшие щеки в мстительной ухмылке. – Может, и жив. Сказывали мне, будто увезли его добрые люди в чужие края, да там и сокрыли. А куда увезли, выжил ли там, того не ведаю, ибо те люди давно померли – спросить некого!
И больше от нее не добились ни слова ни царь (не умолять же, не в ножки же ей кидаться!), ни царица, как ни супила брови, ни кривила рот, как ни бранилась.
А между тем ей было что рассказать…
Она могла бы, к примеру, вспомнить тот последний денек во дворце. Только что ушел от нее дьяк Власов, сообщивший о грядущей ссылке в Углич. Закрылась за ним дверь, и царица подозвала сына, прижала его к себе. Он рос маленьким, худеньким, слабеньким. Ах как тряслась она над ним, как боялась каждого кашля, каждой самой малой хворости! Дитя ее. Смысл ее жизни и сама жизнь. Даже страшно подумать, что только будет с нею, если с царевичем что-то случится. Всякое может быть, впереди долгая дорога, пусть и под охраной, а все же… Нападут в лесу разбойники – может статься, тем же Годуновым подосланные, – перебьют всех…
День до вечера тянулся небывало долго. В задних комнатах копошились девки, собирали вещи царицы и царевича, готовясь к дороге, а Марья Федоровна все так же сидела в углу светлицы с сыном на коленях, томимая страшным предчувствием, что проводит с ним последние мгновения.
«А ежели там, во дворце, государь переменит решение и прикажет отнять у меня Митеньку? Меня – в монастырь, его… Нет, лучше не думать, не думать о таком. Коли станут убивать – пускай уж вместе убивают!»
Внезапно двери отворились, и на пороге появился стрелец.
Что такое? Зачем? Во дворец пора идти? Но к вечерне еще не звонили! Зачем он пришел? Почему лицо прячет? Почему кафтан сидит на нем, словно снят с чужого плеча, а бердыш трясется в руках?
Одурманенная своими страхами, Марья Федоровна хотела закричать, но горло стиснулось.
– Тише, Марьюшка! – вдруг промолвил стрелец знакомым голосом, и царица не поверила ни глазам своим, ни ушам. Это был голос ее брата Афанасия. Это он сам стоял перед нею в одежде стрельца!
– Господи, Афоня! Да что же это?.. – слабо вымолвила Марья Федоровна. – А мне сказали, ты с отцом и Михаилом под стражею.
– Правду тебе сказали, – буркнул брат. – Ушел чудом, только чтоб с тобой поговорить. Несколько минут у меня, как бы не застали здесь. Не помилуют! Но не прийти я не мог. Дело-то о жизни и смерти идет!
– О чьей смерти? – затряслась она, крепче стискивая сына.
Брат не ответил, бросил на ребенка многозначительный взгляд.
Да что проку спрашивать? И так известен ответ заранее.
– Разбойники… в лесу… – слабо залепетала она, выговаривая свои придуманные страхи, которые вот-вот могли сделаться явью.
Афанасий мгновение смотрел непонимающе, потом покачал головой:
– Вон ты про что. Нет, я не думаю, чтобы так быстро все случилось. Даже Бориска, каков он ни есть наглец, не решится на убийство царевича тотчас после смерти его отца. Вот тут уж точно выйдет бунт немалый! Бориску народ не жалует, только дурак не поймет, чьих рук дело это нападение. Нет, думаю, до Углича мы доедем спокойно, да и там какое-то время поживем. А вот спустя год, два, много – три… Тут надо будет во всякий день ждать беды. Я, пока суд да дело, поговорил с одним умным человеком… – Афанасий бросил значительный взгляд на сестру. – Тот человек сказал, что Бориса нам очень сильно нужно опасаться. Он вбил себе в голову, что суждено ему царем на Москве быть. Мономаховой шапки по своей воле никогда, ни за что из рук не выпустит. И я с этим человеком во всем согласен, я ему верю, как самому себе. Не стану имени его называть – скажу только, что он-то и пригрел на груди эту змею, укуса которой мы теперь так боимся. И сам же от Бориски вместе с нами пострадал. Если бы Годунов сейчас с нами не расправился, а с Федором бы что-то случилось, человек сей за малолетством Дмитрия был бы настоящим правителем на Москве. Теперь смекаешь, о ком речь веду?
Марья Федоровна уставилась на брата возбужденными темными глазами.
Бельский! Это он на Бельского намекает! Именно Бельский пристроил во дворец своего родственника Годунова. Именно Бельский вместе с Нагими пострадал от его происков. Именно Бельского царь Иван Васильевич перед смертью назначил опекуном Дмитрия. Значит, Афанасий говорил о судьбе царевича с Бельским!
– Да, да… – выдохнула Марья Федоровна. – И что он сказал?
– Он сказал, что спасать царевича нужно. И не только он так считает. С ним задумали это и… – Афанасий шепнул еще одно имя.
Марья Федоровна только покачала головой.
Афанасий говорит необыкновенные вещи. Значит, Бельский в сговоре с Романовыми, родственниками покойной царицы Анастасии? Да, их не может не пугать внезапное возвышение безродного выскочки Годунова!
– Спасать царевича, – пробормотала она. – Но как?
Брат мгновение молча смотрел на молодую женщину, и в глазах его вдруг плеснулась такая жалость, что ей стало еще страшней, чем прежде.
– Как? – повторила дрожащим голосом.
Афанасий склонился к сестре и начал что-то быстро шептать ей на ухо. Марья Федоровна сначала слушала внимательно, потом отстранилась и слабо улыбнулась:
– С ума ты сошел?.. Да как же… да мыслимо ли такое?!
– Трудно сделать сие. Но возможно, – кивнул Афанасий. – Он уже все продумал. У него есть один родственник, а у того родственника…
– Да нет же, нет! Мыслимо ли вообще такое представить, допустить! – перебила Марья Федоровна чуть не в полный голос, но тут же зажала рот рукой. – Чтобы я… чтобы мой сын…
– А мыслимо ли представить, как ты над гробом своего сына забьешься? – сурово глядя на сестру, проговорил Афанасий. – Ты не забывай, Марьюшка: жизнь и смерть царевича – это и наша жизнь и смерть. Отдадим его Годунову на заклание – все равно что сами головы на плаху сложим. А подстелем соломки – глядишь, и переменится когда-нибудь наша участь к лучшему, к счастливому. Я сейчас уйду, а ты сиди, думай над тем, что сказано. Тут ведь и правда дело о смерти или жизни идет.
– Господи… – выдохнула Марья Федоровна, заламывая руки, и Афанасий глянул на нее с жалостью:
– Бедная ты моя! Как мы радовались, когда царь тебя в жены взял! А выпало слезами кровавыми умываться. Но ничего, попомни мои слова – будет и на нашей улице праздник! Нам бы только царевича от неминучей смерти спасти…
Афанасий быстро обнял сестру, на миг крепко, крепче некуда, прижал ее к себе – и выскользнул за дверь…
Все эти годы Марья Федоровна старалась не думать о том разговоре, не вспоминать о нем. Постепенно он стал казаться ей чем-то невероятным, а может быть, просто приснился? Ох как хотелось высказать все это Годуновым! Но не обмолвилась ни словом. Такую – молчаливую – и вернули ее в монастырь. А вскоре за ней прибыл князь Скопин-Шуйский и сообщил о смерти Годунова и его жены, а главное – о том, что на царский трон воссел теперь человек, который называет себя сыном Грозного, Дмитрием. Все верят ему, из уст в уста народ передает подробности его чудесного спасения в Угличе: господь бог-де навел в тот день слепоту на очи царицы Марьи Федоровны и всех окружающих, помутил ее разум, никто и не заметил, что хоронили-то чужого ребенка, как две капли воды похожего на царевича, а его спасли, спрятали верные люди…
«Может быть, так оно и было? Может быть, это правда?» – беспрестанно спрашивала себя инокиня Марфа в дороге, на ночлегах, за едой, на молитве.
Спрашивала, но не находила ответа…
Выехали из Троицы рано утром.
– Господи, будь что будет, на все твоя святая воля, господи, наставь, вразуми меня, бедную! В руки твои вверяюсь! – зашептала инокиня исступленно, то забиваясь в угол кареты, то вновь приникая к окну.
– Буди здрав государь-батюшка, многая лета царю Дмитрию Ивановичу! – зазвенели вдруг голоса.
Марфа задрожала так, что выронила из рук четки.
Он! Он уже здесь! Решил не ждать ее в Москве, выехал навстречу…
Карета остановилась. Князь Скопин-Шуйский распахнул дверцу, выдвинул подножку, склонился в поясном поклоне.
Не выдержав нетерпения, инокиня бросилась вон из кареты – и оказалась в объятиях невысокого юноши, чья одежда была буквально усыпана драгоценными каменьями.
– Матушка! – вскричал он, задыхаясь. – Родненькая моя матушка!
Марфа смотрела на него, но ничего не видела от нахлынувших слез. Вцепилась в его руки, уткнулась в жесткое от множества драгоценностей ожерелье, не чувствуя, как камни царапают лицо. Дала волю слезам, которые копились все эти четырнадцать мучительных лет.
Вдыхала незнакомый запах, казавшийся ей родным…
– Она его признала! Мать признала сына! Он, это истинно он! Будь здрав, богом хранимый государь! – неслись со всех сторон умиленные крики.
Марфа кое-как разлепила склеенные слезами ресницы, разомкнула стиснутые рыданием губы:
– Митенька, ох, душа моя, радость… Ты, это ты, дитя ненаглядное! О господи!..
И снова припала к его груди.
* * *
Конечно, по стране продолжали ходить слухи, что Дмитрий – вовсе не царевич законный, а монах-расстрига Гришка Отрепьев. Но народ, обрадованный освобождению от тихого удушья, которым давил страну Годунов, жаждал услышать подтверждение: это истинный, богом данный царь! И услышать это люди хотели не от Богдана Бельского, не от лживого Шуйского, который с равным пылом то клялся, что на троне сын Грозного, то уверял, что он самозванец. Уверить народ в истинности Дмитрия должна была его мать, инокиня Марфа, звавшаяся некогда царицей Марьей Федоровной Нагой.
А она не могла… Не могла сделать это, положа руку на сердце! Разве отыщешь в чертах двадцатичетырехлетнего мужчины черты двухлетнего ребенка, которого когда-то отняли у нее?
Однако… теперь она была окружена почетом, какой прежде и не снился – ни в Угличе, ни даже при дворе Грозного, супруга ее, ни, само собой, в выксунской дремучей глуши. Царь советовался с ней по всякому поводу, даже и по государственным делам, он привез ей на поклон свою невесту, Марину Мнишек, – правда, полячку, выбранную помимо материнской воли, но что поделать?..
Невеста прибыла с великой пышностью. Монахини, коим велено было стать двумя рядами вдоль ведущей к крыльцу дороги, глядели сурово, ибо ничего подобного в жизни не видели: ни благочестивая Ирина Федоровна, жена царя Федора Ивановича, ни звероватая Марья Григорьевна, супруга Бориса Годунова, не являлись сюда в сопровождении такой роскошной свиты, под гром музыки и восторженные крики. Одно слово – полячка безбожная прибыла!
Царица изо всех сил старалась держаться если не доброжелательно, то хотя бы приветливо. Но, когда вышла на крыльцо и увидела государеву невесту в этих ее непомерных юбках, с которыми та еле управлялась, напоминая корабельщика, который не может сладить в бурю с парусом, чуть в голос не зарыдала. И что в ней нашел Дмитрий?! Ну ладно, еще когда судьба его победы зависела от поляков, он мог держаться за слово, данное дочери сандомирского воеводы. Но теперь-то, когда первейшие русские красавицы почли бы за великое счастье сделаться государевыми избранницами… Нет, вызвал к себе эту полячку. Чем она его так приворожила? Ну разве что и впрямь приворотными зельями. Ведь посмотреть не на что, от горшка два вершка, в поясе тоньше, чем оса: ветер дунь – переломится. Даже до монастыря долетали слухи, будто Маринка – великая мастерица пляски плясать, для нее нарочно музыканты и в покоях, и в тронных залах играют, только пляшут не скоморохи, а сама невеста государева, да и он от нее не отстает. Он… царь!
Царь?..
Инокиня Марфа покрепче стиснула губы и даже головой едва заметно качнула, отгоняя ненужные мысли. Но были они слишком тягостны – разве отгонишь? Поэтому глаза ее, глядевшие на гостью, были не приветливыми и даже не суровыми, а просто-напросто растерянными.
«В самом ли деле эта востроглазая девочка верит, что перед ней истинный сын Ивана Грозного? Или готова на все ради трона, ради несметных богатств, почета и поклонения? А может быть, говорят правду о том, будто Дмитрий намерен привести в Россию латинскую веру? Нет, этого не может быть! Ведь он приказал невесте провести неделю в православном монастыре, венчаться будет заново, по нашему исконному обряду… Разве он сделал бы это, если бы и впрямь был подослан иезуитами? Теперь он царь, над всеми властен, кого хочет – казнит, кого хочет – милует. Мог бы делать все, что его душе угодно. А он ведет себя именно так, как должен вести себя истинный, законный государь!»
Она зажмурилась что было сил, пытаясь подавить слезы, но они все же привычно поползли по щекам. Ох господи, сколько же слез она пролила за эти долгие, бесконечные годы монастырского заточения! Но почему кажется, что именно в последний год – самый сытый, свободный, самый вроде бы счастливый в ее жизни! – она плакала куда чаще, чем прежде. Плакала украдкой…
Ужас в том, что она сама по-прежнему не может достоверно признать сына, которого в последний раз видела двухгодовалым ребенком!
А в общем-то ее признания больше вроде бы никого и не интересовали.
Сын венчался на царство вместе с невестой!
Уступая настояниям матушки, он велел Марине причаститься по православному обряду, приложиться к иконам и венчаться не в парижских юбках, которые не могли протиснуться в узенькие двери старомосковских дворцов, не в широченных воротниках, а в традиционном платье русских цариц.
По виду сын был вполне счастлив – отчего же теснило сердце инокини Марфы? Не приучено оно было радоваться, вот что. Отвыкло быть счастливым, постоянно ожидало от судьбы нового подвоха. И дождалось!
…Пред рассветом страшного майского дня ударили в набат, по всему Кремлю разбежались люди.
– Инокиню Марфу на площадь! На площадь! Пусть скажет, что расстригу своим сыном признала, пусть сознается! К ответу ее! – доносились крики.
Монахи забились в свои кельи, словно перепуганные куры. Но Марфа знала, что ей-то не отсидеться. Она уже слышала о случившемся. Бояре во главе с Шуйским ополчили против царя Дмитрия народ. Побили поляков, приехавших вместе с царем, убили и царя…
Кое-как собралась с силами – вышла на монастырское крыльцо. Дмитрий Шуйский, брат князя Василия, ждал ее там. Грубым, словно бы не своим, прежде всегда почтительным, голосом велел немедля идти из Кремля на Красную площадь.
Инокиня шла, поддерживаемая под руки двумя сестрами. Сегодня, когда долетела весть, что убивают воровского царя, у нее едва не отнялись ноги, но неметь они начали с тех пор, как ее три дня назад навестил брат Афанасий Федорович.
То, что сказал Марфе брат, оказалось чрезмерным для иссушенного тоской существа. Она слушала – и верила и не верила брату. Все время казалось, что он говорит о ком-то другом!
Значит, она не солгала народу, когда признала в этом ласковом, синеглазом юноше своего родного сына. Но как же так вышло, что вся жизнь их прошла врозь? И как же так вышло, что даже после того страшного дня в Угличе родные не открылись ей, не утешили измученного тоскою сердца? Они боялись подвергнуть опасности царевича, а пуще – боялись быть подслушанными кем-то из подсылов Годунова. Им не было дела до страданий матери, дважды утратившей сына. Первый раз это произошло, когда его скрыли Бельский и Афанасий, подменив по пути в Углич ребенком каких-то Нелидовых-Отрепьевых, Юрием. Мария Нагая в те дни была тяжело больна – захворала от потрясения, от страха за свою судьбу, – а когда пришла в себя, подмена была уже свершена, и ей не оставалось ничего другого, как принять чужого мальчика как сына. И не выдать себя в Угличе ни словом, ни взглядом: ведь их с братьями жизнь висела на волоске! Она ничего не знала о судьбе истинного Дмитрия: жив он или мертв, а если жив, то где живет? Так болело сердце в этой вынужденной разлуке, что Мария Федоровна постепенно приучилась вовсе не думать о свершившемся. Прошлого не существовало – только настоящее. Как ни чужд был ей тот грубый, жестокий мальчик, который рос рядом с ней под именем Дмитрия, она привыкла к нему и жалела его. Потом рука Годунова все же протянулась к нему. Народ в тот день в Угличе был так переполошен, что никто не заметил, как Афанасий Нагой скрылся с раненым ребенком. Мария Федоровна, избивая Василису, сделала все, чтобы отвлечь внимание от брата! Афанасий исчез, а брат Михаил никого не впускал в комнату, где якобы лежал умерший царевич. На самом деле там не было никого… Знала обо всем Арина Жданова, и она же помогала царице отводить народу глаза. Потом пришлось допустить священника и открыться ему, но он был верен Нагим и не признался, что кадилом махал над пустым гробом. Да, похоронили пустой гроб!
Даже когда приехали расследователи во главе с Шуйским, тайна была сохранена. Ведь те не желали докопаться до истины. Они прибыли с готовым ответом на вопрос…
Частенько потом тот, второй мальчик снился Марии Федоровне, и она порадовалась, когда Афанасий сказал, что его удалось спасти после ранения в шею, сначала пристроив к Романовым, а потом определив в Чудов монастырь. Иногда, уже живя в Вознесенском монастыре, она видела из-за ограды купола Чудова монастыря и размышляла, где сейчас тот ребенок, уже ставший взрослым мужчиной, что делает. Быть может, молится, поминая в своих молитвах женщину, которую недолго называл матерью?..
Сердце как бы раздвоилось между этими двумя Дмитриями, и когда на площади Марфа увидела страшное, нагое, неузнаваемое тело какого-то мужчины, она на миг растерялась.
Кто он? Истинный ли Митенька? Не может, не может она признать ни любимого ребенка, ни ласкового сына-царя в этом окровавленном трупе. Вдруг он снова спасся, как тогда, в детстве, вдруг спрятался, затаился? Скажет Марфа: он, это царь! – и толпа запомнит это, а потом, когда он воскреснет, как воскрес уже однажды, это признание матери закроет ему путь к трону.
Она не знала, что делать, не знала! С трудом держалась на ногах, почти теряла сознание от страха.
Толпа смотрела на нее враждебно. Надо было что-то говорить.
– Да какой он тебе сын! – крикнул вдруг какой-то мужик.
И Марфа обрадовалась подсказке.
– Надо было бы меня спрашивать, когда он был жив. Такой, какой он есть сейчас, он, конечно, уже не мой! – загадочно ответила инокиня.
– Царица отреклась, отреклась от расстриги! – во весь голос закричал Василий Шуйский, который услышал то, что хотел услышать.
Этот крик подхватила толпа…
Дальнейшего Марфа не видела: сомлела, повалилась на руки монахинь. Очнулась уже в своей келье. Не помнила, как ее перенесли в монастырь, зато помнила тоску, которая владела ею даже в беспамятстве. Вот теперь для нее уж точно все кончено на веки вечные. Пусть она спасла себе сегодня жизнь загадочными словами, однако жизнь сия будет безотрадна и уныла. Еще похуже небось, чем во дворце Грозного или в Угличе. Там она все-таки звалась царицей и могла надеяться хоть на какое-то будущее, пусть даже призрачное, словно сладкий сон. Теперь же время снов и надежд миновало. Марфа осознала: она значила что-то, лишь пока была матерью своего сына. Теперь она никто, потому что сама подтвердила людям: нет у нее сына! Она всенародно отреклась от Дмитрия, словно бросила горсть земли в его могилу. Теперь она в руках его погубителей – как если вновь воротились времена Годунова… И тогда, и теперь она может рассчитывать только на чужую милость.
В монастырь уже пришел приказ отныне молиться за нового государя: царя и великого князя Василия Ивановича… И вдруг снова явился к ней Дмитрий Шуйский. С чем же прислал царь к инокине Марфе своего брата? Какую кару приготовила ей новая власть? Неужели увезут из Москвы в дальние, вечно завьюженные дали? Вспомнилась сырая, студеная келейка Выксунского монастыря – столь низкая, что даже невеликая ростом инокиня Марфа не могла распрямиться в полный рост, оттого и согнулась, сгорбилась прежде времени. Вспомнилось ветхое рубище, кое носила, не снимая, из года в год, озноб непрекращающийся, стоптанные опорки на ногах, скудную, убогую еду и еле тлеющий огонек в печи…
Неужто ее вновь обрекут на эти мучения?!
Марфа пошатнулась, однако Дмитрий Шуйский не предложил ей сесть. Надменно глядя в огромные, испуганные черные глаза инокини, отчеканил:
– Прочти. Что молчишь, разве неграмотна? Читай же, ну! Вслух читай!
С трудом разбирая написанное, Марфа зашелестела откуда-то с середины послания:
– «…Он ведовством и чернокнижеством назвал себя сыном царя Ивана Васильевича, омрачением бесовским прельстил в Польше и Москве многих людей, а нас самих и родственников наших устрашил смертью. Я боярам, дворянам и всем людям объявила об том тайно, а теперь явно, что он не наш сын, царевич Дмитрий, а вор, богоотступник, еретик. А как он своим ведовством и чернокнижеством приехал из Путивля в Москву, то, ведая свое воровство, по нас не посылал долгое время, а прислал к нам своих советников и велел им беречь накрепко, чтобы к нам никто не приходил и с нами никто не разговаривал. А как велел нас к Москве привезти, и он на встрече был у нас один, а бояр и других людей никого с собою не пускал к нам и говорил нам с великим запретом, чтоб мне его не обличать, претя нам и всему нашему роду смертным убийством, чтоб нам тем на себя и на весь род свой злой смерти не навести, и посадил меня в монастырь, и приставил ко мне своих советников, и остерегать того велел накрепко, чтоб его воровство было не явно, а я, для угрозы, объявить в народе его воровство не смела…»
Дальше читать недостало сил. В горле пересохло, глаза начали слезиться. А тут еще память ужалила, как змея… Вспомнилось, как она оказалась в объятиях невысокого юноши, чья одежда была сплошь усыпана драгоценными каменьями, и как вскричал он, задыхаясь: