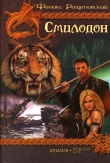Текст книги "Прекрасные авантюристки (новеллы)"
Автор книги: Елена Арсеньева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 20 страниц)
Разумеется, в словах Мартина Стадницкого не было злости на Марину – он мог негодовать лишь на злую судьбу, проклинать собственную несчастливую звезду, которая привела его в войско Тушинского вора. До сей минуты им руководила только жажда нажиться за счет нового царя и отомстить кацапам за то поругание, которое в ночь на 17 мая нанесли его чести, напугав до смерти и чуть не отправив к праотцам. И только сейчас его словно по лицу хлестнуло осознание: да ведь свою двоюродную сестру, в которую был когда-то юношески влюблен, он должен принести в жертву своей мстительности, своей озлобленности, предать ее, ничего не ведавшую, на заклание человеку, которого презирал и ненавидел?
Если Марина захочет играть в эту нечистую игру, она должна вступить в нее с открытыми глазами, рассудил Стадницкий. Но у него все же болезненно сжалось сердце, когда он увидел ее помертвевшее лицо и остановившийся взгляд. Исчезла веселая певчая птичка – теперь она больше напоминала раненого зайчонка…
Терзаемый жалостью, раскаиваясь в каждом своем слове, Стадницкий хлестнул коня и отъехал прочь от кареты.
Между тем Юрий Мнишек всю дорогу не переставая думал: как-то перенесет Марина встречу с «мужем»? Любовь к ней мешалась в сердце воеводы с ожесточением: подумаешь, какая разница, с кем спать дочери, если отцу обещано после победы над Шуйским выдать триста тысяч рублей серебряных и отдать во владение княжество Северское с тамошними четырнадцатью городами?!
Он молился, чтобы все сошло благополучно, однако Марина ехать в Тушино наотрез отказалась и потребовала, чтобы карета повернула в Царево Займище, к Сапеге.
Пан Юрий кликнул к себе шляхтичей на совет. Посовещавшись какое-то время, порешили послать в Тушино к царику с известиями о неприятностях. Пусть приезжает и сам улаживает дела с Мариной. Бог их весть, этих женщин, может статься, новый Дмитрий понравится Марине Юрьевне пуще прежнего. Глядишь, все и обойдется.
Не обошлось…
Не доезжая двух верст до Тушина, стали табором.
От лагеря отделились несколько всадников. Пан Юрий смотрел на них с волнением. Среди них был Рожинский, потом какие-то москали, потом…
– Марианна! – рявкнул он что было мочи. – Вот муж твой Дмитрий! Да взгляни ж ты на него!
Обессиленная от слез молодая женщина выглянула из кареты, и Самозванец увидал ту, кого так страстно желал заполучить.
«Тоща, ох тоща! – подумал уныло. – Только и есть, что глаза. Ладно, с лица воды не пить, с тела щец не варить. Как-нибудь притерплюсь».
Таковы были мысли Дмитрия.
Что подумала Марина, неизвестно, зато известно, что произнесла она при взгляде на своего «воскресшего супруга».
– Нет, лучше умереть! – простонала молодая женщина, отшатываясь в глубь кареты, сползая на пол и делая попытку вновь укрыться под юбками Барбары Казановской – точь-в-точь как тогда, в Кремле, когда мятежники крушили все кругом, чая добраться до Маринки-безбожницы.
Несколько мгновений Дмитрий с преглупой улыбкой оставался у кареты, затем отъехал прочь. Пан Мнишек продолжал что-то бубнить, но Марина его не слушала.
Казалось, все дело провалено. И тут вдруг перед Мариной появился какой-то изможденный человек в коричневой ветхой рясе, очень напоминающей те, какие носили августинские монахи. На голове его была выбрита тонзурка, изможденное лицо имело вид постно-смиренный, однако взгляд светился потаенным лукавством.
– Дочь моя, – вкрадчиво прошептал он по-латыни, – дочь моя, выслушай меня!
Марина подняла измученные глаза. После встречи с этим так называемым Дмитрием ей все окружающее казалось каким-то наваждением.
– Отец мой, – недоверчиво пробормотала Марина, – кто вы?! Откуда?
Это был Никола де Мелло собственной персоной, и лишь только Марина узнала это, как ее приветливая улыбка превратилась в судорогу: она вспомнила, что отец именно со слов этого де Мелло уверял ее в подлинности Дмитрия. Монах участвовал в обмане!
Годы воспитания в безусловном уважении и покорности римско-католической вере не могли пройти для Марины бесследно: она не бросила в лицо монаху упрек, а просто отвела от него глаза.
– Дочь моя, – сказал де Мелло серьезно, – вы можете прогнать меня вон, но я все равно не уйду, так что не тратьте зря слов и не оскорбляйте своим негодованием божьего слугу. Да, милое мое дитя, вы высоко вознеслись в своей гордыне и успели позабыть о том, что все мы – всего лишь слуги нашего господа и должны неукоснительно исполнять свой долг по отношению к нему и к святой римско-католической вере. Господь извлек вас из безвестности и гнусного заточения в Московии вовсе не для того, чтобы вы провели свой век в праздности и духовной лени. Отец наш небесный предоставляет вам возможность исправить прошлые ошибки ваши и вашего покойного супруга, который не исполнил ни единого своего обещания по окатоличиванию России. В этом новом Дмитрии наша церковь обрела воистину покорного сына и слугу. Но разум его темен, поступки беспорядочны. С вашей помощью это стихийное существо может послужить святому престолу так, как ему никогда не удалось бы сделать сего, останься он один перед лицом ожидающих его свершений!
Марина закрыла глаза, ощущая, что под веками копятся слезы и вот-вот поползут на щеки. Как давно не слышала она усыпляющих, но при этом неодолимо убедительных речений католических священников! И как мучительно-сладостно сделалось вдруг у нее на сердце!
Последние два дня она страдала не столько от наглого обмана, жертвой коего стала, но и от безысходности своего теперешнего положения. Неужто возвращаться в Польшу ни с чем?! И вот теперь велеречивый августинец открыл ей новый путь… Да, конечно, ее ждет путь мученицы, однако вполне возможно, что она обретет на сем пути не только венец терновый, но и великую славу.
Чем черт не шутит, а вдруг новому Дмитрию удастся его безумная эскапада, как удалась она его предшественнику? Вдруг московские колокола вновь зазвонят в честь государыни Марины Юрьевны?!
– Я согласна ехать в Тушино, – выдохнула она, повернувшись к де Мелло и намеренно обходя взглядом отца. – Что мне предстоит там делать?
– Ну, вы… вы должны будете встретиться с Дмитрием на глазах большой толпы народа, – начал перечислять монах, несколько ошарашенный таким стремительным успехом. Чтобы не сбиться, он для верности загибал пальцы. – Конечно, все ждут, что это будет встреча любящих супругов, вы понимаете?
Марина только кивнула, однако де Мелло понял, что все будет сыграно так, как надо. Он продолжил:
– Далее. Поскольку, дочь моя, вам предстоит жить бок о бок с этим мужчиной, я полагаю, что накануне вашей торжественной встречи мне следует тайно обвенчать вас. Надеюсь, вы находите это разумным?
– О да, – свысока кивнула Марина. – Вполне.
– Ну а затем, дочь моя, вы прибудете в Тушино и станете разделять многотрудную и величавую жизнь вашего супруга.
– Я согласна исполнить все, что вы предпишете, отец мой, только у меня есть одно условие.
– Да? – насторожился, почуяв недоброе, де Мелло.
– Это касается моей супружеской жизни, – холодно уточнила Марина. – Обвенчаны мы или нет, считает ли себя этот человек истинным Дмитрием или нет, мне безразлично. Главное, что я не стану вести с ним супружескую жизнь до тех пор, пока он не возьмет Москву.
– Да ты окончательно сошла с ума! – взвился Мнишек, и даже многотерпеливый де Мелло озадаченно покрутил головой:
– Да, это серьезное условие. Боюсь, будет нелегко убедить Дмитрия в необходимости его исполнения.
– А это уж ваши трудности, падре де Мелло, – передернула плечами Марина. – Моему так называемому супругу придется потерпеть – либо поспешить с завоеванием столицы. А вашего возмущения, батюшка, я совершенно не понимаю, – тоном благонравной девочки обратилась она к Мнишеку. – Ведь именно такое условие – прежде завоевать Москву, а потом получить меня – вы выдвигали моему первому супругу. Чем же нынешний Дмитрий лучше своего предшественника?
Мнишек отвернулся, беззвучно, но выразительно шевеля губами, но де Мелло проворно выскочил из кареты и схватил воеводу сандомирского под руку:
– Не станем терять времени, пан Юрий. Дмитрий ждет. Будем надеяться, он правильно поймет, какие побуждения движут Мариной Юрьевной.
Ожидания августинца, а вернее, тайного иезуита, сбылись не сразу. Сначала Дмитрий шевелил губами на манер Мнишека – только гораздо дольше и отнюдь не беззвучно. Наконец поуспокоился, но вдруг ударил кулаком в ладонь:
– Хотел бы я знать, кто брякнул ей, что не тот, не прежний? Кто настроил Марину Юрьевну против меня? Кабы не этот непрошеный советчик, мне было бы куда легче поладить с моей госпожой.
Де Мелло и Мнишек, имевшие на сей счет совершенно иное мнение, сочли за благо промолчать. Однако тотчас сыскались наушники, которые вспомнили, как помертвела пани Марина после разговора с Мартином Стадницким, связали концы с концами и быстренько донесли об сем тушинскому государю.
Царик в два шага одолел расстояние, отделявшее его от группы поляков, в числе которых находился пан Мартин, и резко рванул его за плечо, повернув к себе:
– Верно ли, что ты предуведомил Марину Юрьевну о том, кого она увидит в Тушине? Ты говорил ей, что здесь ждет ее не прежний Дмитрий?
Пан Мартин начал неловко оправдываться:
– Я не говорил ей, что вы не прежний, я только сказал, будто в лагере ходят слухи, будто вы не прежний!
Договорить он не успел: Дмитрий выхватил из-за пояса заряженный пистолет и выпалил Стадницкому прямо в разверстый в последнем оправдании рот.
На другой же день после разговора с Мариной Никола де Мелло тайно обвенчал ее с Дмитрием. А еще через день Сапега торжественно, с распущенными знаменами повез Марину в Тушино. Там, среди многочисленного войска, эта парочка бросилась в объятия друг друга. Супруги рыдали, восхваляли бога за то, что снова воссоединились… Многие умилялись, взирая на это трогательное зрелище, и восклицали:
– Ну как же после этого не верить, что он настоящий Дмитрий?!
Увы, у Марины не было на сей счет никаких сомнений. Беспрестанно, и в постели (пришлось уступить его домогательствам, ибо муж пригрозил иначе застрелить упрямую гордячку!), и вне ее – везде сравнивала этого Дмитрия с тем, прежним. И каждый раз убеждалась: неприятный внешне, с непривлекательным характером, неотесанный в обращении, грубого нрава, ее второй муж ни по телесным, ни по каким другим качествам не походил на первого. Марина умела быть справедливой – она не винила нового супруга, а больше винила себя. Коли продалась за дорогую цену, словно одна из тех шлюх, коих во множестве навезли в Тушино казаки и шляхтичи, то терпи. За твое терпение плачено…
Но в том-то и дело, что ей не было уплачено! Москва оставалась по-прежнему недосягаемой, и все, чем Марина могла тешить свое безумное честолюбие, это громким титулом царицы.
Так, в напрасных ожиданиях, настал 1610 год.
* * *
Однажды среди ночи в спальню Марины ворвались Барбара и атаман Заруцкий.
Марину пробрало легким ознобом, как всегда, когда она перехватывала взгляды этого человека: жадные, алчные, ненасытные и такие жаркие, что у нее начинали гореть щеки.
Она смущенно оглянулась и обнаружила, что мужа в постели рядом с ней нет.
– Ну, говорила я тебе, казак, а ты не слушал, – с нескрываемой насмешкой проворчала Барбара. – Наверняка он уже далеко!
Заруцкий тяжело вздохнул, отер лоб рукавом.
– Ладно, иди, – смилостивилась Барбара.
– Да что случилось? Кого вы искали? – удивилась Марина, но Заруцкий не обернулся – ушел.
– Нашему храброму атаману почудилось, что Дмитрий у вас, панна Марианна, – пояснила Барбара. – Уж я ему говорила, что быть этого не может, что я верю тем людям, которые рассказывают, будто он бежал, переодевшись крестьянином и зарывшись в навоз на дровнях, на которых он и пустился наутек! И не я одна убеждала Заруцкого, но он вбил себе в голову, что должен проверить вашу спальню. Конечно, надоело мужику томиться, разглядывая ваши пышные юбки, захотел поглядеть, что там под ними.
– Какие юбки? Какой навоз?! – растерянно спросила Марина, с опаской поглядывая на верную подругу: вдруг почудилось, что Барбара сошла с ума. – Ради Христа-спасителя! При чем тут Заруцкий? Какие дровни? Переодевшись крестьянином?! Ты говоришь, Дмитрий уехал из Тушина, переодевшись крестьянином? Да ты в своем уме, Барбара?
Та уперла руки в боки и возмущенно выпалила:
– Почему это я сошла с ума? Это, видимо, ваш супруг сошел с ума, коли ударился в бегство, не то что не взяв с собой жену, но даже не предупредив ее!
Да, воинская удача, особа капризная, отвернулась от Дмитрия. Он поссорился с польским войском и решил бежать в Калугу, чтобы начать там все сначала.
Марина пришла в ужас. Понимала: ей одной не справиться со взбунтовавшимися соотечественниками, которые откровенно презирали ее за то, что она поддерживала обман Дмитрия. В этом же можно было упрекнуть и их, но от нее поляки не желали принимать упреков.
Несколько дней от беглого государя не было в Тушине ни слуху ни духу. А в таборе царил страшнейший беспорядок. В это время один из посланников польского короля, который давно уже прибыл в Россию и вел переговоры то с Шуйским, то с Дмитрием, нашел время встретиться с Мариной. Он, как мог, уговаривал расстаться с честолюбивыми намерениями, если она хочет заслужить благосклонность польского короля.
Марина даже не стала тратить время на разговоры с этим человеком, а просто протянула ему загодя написанное письмо для передачи королю Сигизмунду. Это была не мольба о прощении, не признание ошибок своих – это была холодная отповедь государыни, данная человеку, который пытается покуситься на ее законные права:
«Ни с кем счастье не играло так, как со мною: из шляхетского рода возвысило оно меня на престол московский и с престола ввергнуло в жестокое заключение. После этого, как бы желая потешить меня некоторой свободою, привело меня в такое состояние, которое хуже самого рабства, и я теперь нахожусь в таком положении, в каком, по моему достоинству, не могу жить спокойно.
Если счастье лишило меня всего, то осталось при мне одно право мое на престол московский, утвержденное моею коронацией, признанием меня истинной и законной наследницей – признанием, скрепленным двойной присягой всех сословий и провинций Московского государства. Марина, царица московская».
Да, в этом звании черпала она силы: она царица не по мужу, кто бы он ни был, а по коронации!
Тушино между тем продолжало волноваться. Отнюдь не все хотели примкнуть к польскому королю, ибо в войске Сигизмунда нужно было подчиняться дисциплине, а в войске тушинском царила полная свобода: тут даже царика можно было порою послать по матушке – и ничего тебе за это не будет. Жаль им было своевольного, веселого житья в Тушине!
Барбара, всегда бывшая в курсе всех дел, передавала это Марине и рассказывала, что очень шумят донцы, которые никому не верят и даже выступают против своего атамана Заруцкого. Часть их хочет уйти под Смоленск, к Сигизмунду, часть думает, что не надо покидать Дмитрия.
Тут Самозванец сделал очень умный ход, обратившись к тушинцам с посланием.
Дмитрий жаловался на коварство польского короля, называл его виновником своих неудач, обвинял в измене своих московских людей и в предательстве служивших ему польских панов, особенно Рожинского, убеждал шляхту ехать к нему на службу в Калугу и привезти его супругу-царицу. Он предлагал тотчас по 30 злотых на каждого конного, подтверждал прежние свои обещания, которые должны исполниться после завоевания Москвы, припоминал, что он прежде ничего не делал без совета со старшими в рыцарстве, так будет и впредь. Дмитрий требовал казни Рожинского или хотя бы изгнания его, избрания нового гетмана. Виновных в измене московских бояр и дворян он требовал привезти к нему в Калугу на казнь.
После этого письма в таборе все совершенно стало с ног на голову. Марина поняла, что другого случая переломить ход событий в свою пользу у нее не будет. Она выскочила из дому полуодетая, не сдерживая слез, забыв всякую стыдливость, металась по ставкам, умоляла, заклинала рыцарство вернуться к Дмитрию, хватала за руки знакомых и незнакомых людей, обещала все, что в голову взбредет, лишь бы расположить к себе сердца. Марина поняла, что ее сила сейчас – не в привычной надменности и сдержанности. Ее сила сейчас – в слабости. И слабее этой маленькой, худенькой, растрепанной, заплаканной женщины трудно было отыскать на свете!
Заламывая руки, она молила соотечественников и казаков не покидать ее:
– Неужто все унижения и муки наши были напрасны? Неужто молились мы пустоте все эти годы? Неужто признаемся сами перед собой, что чаяния наши и надежды – не более чем пыль на ветру?! Дмитрий – наша последняя надежда!
Голос Марины срывался, глаза казались огромными от непролитых слез. Она стояла на февральском ветру в одной сорочке, на которую была спешно надета юбка. Худенькие плечи прикрывал платок, а ноги были кое-как всунуты в сапожки. Тяжелая коса ее, всегда обвивавшая голову, расплелась и металась по спине.
Казаки и шляхта нынче впервые увидели свою царицу без привычной надменной брони, и многие даже не верили своим глазам: да точно ли это Марина Юрьевна?!
– Слушайте ее больше! – закричал Рожинский, вдруг испугавшись этой маленькой женщины так, как не пугался никого и никогда. – Это какая-то девка, а не государыня! Она такая же самозванка, как ее муж!
Кое-кто насторожился. Кое-кто захохотал.
– Эй, царица! Где твоя корона? – глумливо выкрикнул какой-то московит.
– Небось под юбкой прячет! – взвизгнул другой. – А ну, задерем ей юбку, робята!
И тут же охальник подавился чьим-то кулаком, влетевшим ему прямо в разинутый рот и раздробившим зубы. В следующее мгновение последовал новый удар – в лоб. Мужик упал навзничь и испустил дух.
– Ну, кто еще хочет выйти со мной на кулачки? – спросил высокий человек, оборачиваясь к толпе. – Давай-ка по одному!
Он сбросил полушубок, распустил пояс рубахи и засучил рукава. Двое-трое каких-то разъяренных, а может, просто глупых шляхтичей ринулись было вперед, но замерли, словно налетели на невидимую стену. Попятились.
– Заруцкий! Это Заруцкий! – полетел шепот над толпой.
Стало тихо. Никто и никогда не видел казацкого атамана таким. Всегда слегка угрюмый, замкнутый и молчаливый, он не любил попусту махать кулаками и бросать кому-то вызов. В отличие от ярких, велеречивых, подвижных Рожинского и Сапеги, которые привлекали к себе внимание, словно пестрые птицы, во всей богатырской фигуре и шальных зеленых глазах Заруцкого и без того было нечто подавляющее, заставляющее смотреть на него со вниманием и прислушиваться к каждому оброненному им слову.
Его улыбка была дорогим подарком. А внезапная вспышка гнева пригибала людей к земле, подобно тому, как буря гнет деревья.
– Вам-то что здесь за дело, пан Заруцкий? – закричал Рожинский, который всегда ненавидел атамана, как только может поляк ненавидеть казака, человек с проблесками цивилизованности – ненавидеть дикую, неразумную силу, родовитый шляхтич – ненавидеть плебея, а один сильный мужчина – ненавидеть другого, ничуть не менее сильного.
Но атаман не обратил на него никакого внимания. Подхватил с земли полубесчувственную Марину, смело повернулся спиной к оставшимся и, метнув через плечо последний предостерегающий взгляд, пошел к дому, в котором она жила.
Увидев Марину на руках Заруцкого, Барбара на миг вовсе ополоумела и кинулась на казака с кулаками, пытаясь отбить свою госпожу. Но Иван Мартынович не выпустил бы из рук драгоценную добычу, даже если бы Барбара кликнула себе на помощь ватагу разъяренных медведей-шатунов. Он лишь повел локтем – и дородная гофмейстерина неуклюже отлетела в угол. Затем послышался грохот задвигаемого засова, и Барбара припала к двери, пытаясь различить, что происходит за ней. Но услышать ничего не могла.
А между тем в спальне долгое время ничего особенного не происходило, кроме того, что Заруцкий сидел на кровати, держа на коленях Марину, а та отчаянно рыдала, уткнувшись ему в плечо. Марина была так мала и худа, что атаману казалось, будто на коленях у него сидит маленькая девочка, почти ребенок. Да что в ней было такое, в этой маленькой птахе, что Заруцкий не мог избыть страсти к ней? Он безумно хотел Марину – и враз боялся ее, чуя некую страшную, разрушительную силу ее натуры. Она сгубила Дмитрия, великого, великолепного человека, – она и Заруцкого сгубит.
Он знал это – знал, но ничего не мог поделать с зовом своей судьбы!
…Они провели ночь, перемежая поцелуи разговорами, открывая друг другу то, что казалось тайным, навеки скрытым в глубинах их темных, яростных душ. Но если мужчина, обессиленный своей откровенностью, наконец уснул на полуслове, на полувздохе, то у женщины сна не было ни в одном глазу. Она боялась Заруцкого – этот человек мог сломать ее, сломить, подчинить себе безвозвратно. Но она не игрушка для мужчин, даже самых лучших во вселенной, – она сама по себе. Она царица, а не рабыня. Это мужчинам предназначено быть ее рабами!
Заруцкий умолял Марину остаться в Тушине, потому что ее отъезд якобы вызовет раскол в лагере. Но Марине только этого и нужно – вызвать раскол, не дать Рожинскому одурачить шляхтичей и поляков!
Она соскользнула с постели, бросилась к столу, схватила одно из очиненных перьев и торопливо, не подбирая слов – чудилось, все, что она сейчас пишет, продиктовано ей свыше! – написала на листе:
«Без родителей и кровных, без друзей и покровителей, в одиночестве с моим горем мне остается спасать себя от последнего искушения, что готовят мне те, которые должны бы оказывать мне защиту и попечение. Горько моему сердцу! Меня держат как пленницу; негодные ругаются над моей честью, в своих пьяных беседах приравнивают меня к распутницам и строят против меня измены и заговоры. За меня торгуются, замышляют отдать меня в руки того, кто не имеет никакого права ни на меня, ни на мое государство. Гонимая отовсюду, свидетельствую богом, что вечно буду стоять за свою честь и достоинство. Раз бывши государыней стольких народов, царицею московской, я не могу возвратиться в звание польской шляхтянки и никогда не захочу. Поручаю честь свою и охранение храброму рыцарству польскому. Надеюсь, что это благородное рыцарство будет помнить свою присягу и те дары, которые от меня не ожидает!»
Здесь досталось всем сестрам по серьгам, но больше всего камней было запущено в огород Рожинского, которого отныне Марина считала своим кровным врагом – почти столь же ненавидимым, как предатель-мечник Скопин-Шуйский, который покинул безоружного царя Дмитрия на растерзание толпы.
Она оставила письмо на столе, пошла к двери… и оглянулась на спящего Заруцкого. На миг зажмурилась, чтобы навсегда запомнить, как он лежал, – поверженный богатырь, Самсон, остриженный Далилой.
Сердце ее преисполнилось гордости. Бесшумно отодвинула щеколду и выскользнула из комнаты. Увидела ждущие глаза Барбары, мельком улыбнулась – и велела ей немедля переодеться в мужское платье и готовиться к отъезду, взяв с собой только преданного казака-конюшего. Сама Марина тоже облачилась в форму гусара.
– И – тихо, как можно тише! – твердила она, загадочно улыбаясь. – Тише, тише!
Целую ночь они мчались верхом в Калугу. Однако заблудились в вьюжной круговерти и вместо Калуги очутились в Димитрове, где теперь стояло войско Яна Сапеги. Марина, вне себя от ярости, готова была вновь пуститься в путь, однако Сапега с трудом удержал ее: ведь к Димитрову приближалось войско Скопина-Шуйского и шведского полководца Делагарди. Только страх попасть в плен к предателю-мечнику остановил Марину и вынудил остаться в Димитрове. Одному она радовалась: теперь у нее будет возможность высказать знаменитому полководцу все, что она о нем думает!
* * *
Князь Михаил Скопин-Шуйский, ободренный своими победами, особенно тем, что разбил поляков под Троицким монастырем и освободил его от осады, не сомневался в быстрой победе над защитниками Димитрова. Как ни ярились польские храбрецы, однако видно было, что осажденные теряют дух. Но вдруг на городской стене появилась женская фигурка. Сначала, впрочем, ее приняли за юношу, потому что на ней была одежда польского гусара. Однако, скинув шапку и тряхнув головой, так что закрученная на затылке коса развилась и упала на спину, женщина стала, подбоченясь, и закричала, мешая польские и русские слова:
– Смотрите и стыдитесь, рыцари! Я женщина, но не теряю мужества и не собираюсь спасаться бегством! Да и кого вы испугались? Предателя и изменника! Разве может бог встать на сторону предателя?!
– Она безумная, юродивая, – переговаривались русские, слышавшие ее крики, однако Яков-Понтус Делагарди, бывший при осаде рядом со Скопиным-Шуйским, поразился его изменившимся обликом. Право, у храброго полководца был такой вид, словно он невзначай встретил привидение!
Тут же толмач подсказал Делагарди, что он видит перед собой не кого-нибудь, а Марину Мнишек.
Шведский полководец, француз родом, вытаращил глаза. Он много слышал об этой удивительной даме, о которой люди говорили со странной смесью ненависти и восхищения, но ни в коем случае не равнодушно, и в первую минуту испытал откровенное разочарование: было бы на что смотреть, было бы к чьим ногам метать Московское царство! Не иначе и первый Дмитрий, и второй были одурманены этой невидной, маленькой бабенкой. Уж не колдунья ли она, которая наводит чары на мужчин?!
– А про какого предателя она говорит? – спросил Делагарди.
Толмач перевел вопрос, но Скопин-Шуйский только дико поглядел на своего сотоварища и ничего не ответил.
Впрочем, ответ был тут же дан со стены.
– Князь Михаил! – прокричала Марина громким голосом. – Мечник царя Дмитрия, слышишь меня? Помнишь ли ты погубленного тобою государя? Именем его я призываю тебя к ответу! Не думай, что тебе удастся уйти от мести! Ты предатель – и смерть твоя будет достойна предателя, потому что тебя обрекут на смерть те, кому ты доверишь свою жизнь! Сгинешь вместе со своим Шуйским, таким же предателем и клятвопреступником, как ты!
Делагарди почувствовал себя оскорбленным за своего храброго друга.
– Стреляйте в окаянную бабу! – крикнул он, и вокруг загремели выстрелы: люди словно очнулись от зачарованного сна.
Однако пули миновали Марину, как если бы она была заговоренная. Неторопливо подобрав косу, она закрутила узел на затылке и спокойно сошла со стены, сопровождаемая невысоким, но чрезвычайно удалым с виду шляхтичем, в котором узнали Сапегу.
Как истинный француз, Делагарди умел уважать достойного противника и с интересом уставился на польского воеводу, тотчас забыв о Марине и ее выкриках. Он счел эту даму полубезумной и не придавал ее словам никакого значения. Никаким обвинениям Делагарди не поверил. Ясно же, что для Марины каждый, кто приложил руку к свержению ее мужа, – враг и предатель. Эта дама просто не соображает, что молотит языком!
Однако на Скопина-Шуйского вопли Марины произвели, кажется, огромное впечатление, потому что весь этот день он был рассеян, а наутро приказал основным силам отойти от Димитрова и вернулся в Москву.
Однако этим он не спасся от проклятия Марины!
…23 апреля 1610 года Михаила Васильевича Скопина-Шуйского позвали крестить к князю Ивану Воротынскому. Кумой была Екатерина Григорьевна – жена Дмитрия Шуйского, сестра покойной Марьи Григорьевны Годуновой, супруги царя Бориса, меньшая дочь знаменитого Малюты Скуратова.
Посреди пира Скопину-Шуйскому сделалось дурно, открылось кровотечение из носа, которое никак не могли унять.
Князя Михаила отвезли домой; немедля извещенный о болезни друга Делагарди прислал к нему своего медика, не доверяя царскому лекарю. Но ничто не помогло. Прибавилось и внутреннее кровотечение. Через несколько дней изнемогший от потери крови князь Михаил скончался.
Говорили, перед смертью, уже в полузабытьи, он настойчиво просил у кого-то прощения, клялся, что не мог поступить иначе, что не со зла содеял такое, а во имя родимой страны…
Перед кем клялся? В чем каялся?
Сие осталось неведомо: исповедовавший его священник не открыл последней тайны умирающего, только видели, каким угрюмым, почерневшим вышел он с исповеди.
А впрочем, немудрено почернеть, видя смерть народного героя и великого полководца!
Всеобщая молва тотчас разнесла, что Скопина-Шуйского отравила кума – Екатерина Григорьевна. Народ взволновался до того, что чуть не разнес дом Дмитрия Шуйского по бревнышку и не убил всех обитателей. Пришлось царю прибегнуть к военной силе, чтобы охранить своего брата!
Делагарди верил в виновность Екатерины Шуйской, но, по его мнению, истинной погубительницей князя Михаила была другая женщина… Яков-Понтус готов был сейчас душу дьяволу прозакладывать, только бы сойтись когда-нибудь с ней на узенькой дорожке. Небось не поглядел бы, что пред ним дама!
Но враг рода человеческого, очевидно, на сей раз не испытывал недостатка в душах добрых людей, а потому на призыв Делагарди не откликнулся. С Мариной Яков-Понтус так и не встретился, что не мешало ему призывать на ее голову проклятия до конца жизни.
* * *
Когда по городам и селениям разнеслась весть, что не стало лучшего воеводы, спасителя русской земли, Тушинский вор, как прозвали нового Дмитрия, опять начал провозглашать себя избранником божиим и уверял: смерть князя Михаила – не что иное, как знак свыше.
Он снова сделался щедр на посулы и обещания, особенно усердствовал в отношении поляков, которых у него благодаря неутомимому Сапеге еще оставалось немалое количество.
– Я надеюсь с вашей помощью скоро воссесть на столице предков! – заявлял он своему потрепанному рыцарству. – Заплачу вам тогда за все ваши труды и отпущу в ваше отечество. Но я бы желал всегда видеть вас при себе. Даже когда я стану государем в Московии, и тогда не смогу я без поляков сидеть на престоле. Хочу, чтобы всегда были при нем польские рыцари! Один город будет держать у меня московский человек, а другой – поляк. Золото и серебро – все, что есть в казне, – все ваше будет, а мне останется слава, которую вы мне доставите.
Теперь, когда Рожинский не восстанавливал своих против Дмитрия и не выставлял его на каждом шагу дураком, его вновь начали слушать со вниманием. Особенно после того, как к нему прибыла царица, особенно после того, как выяснилось, что царица беременна!
Теперь у них были не только царь Дмитрий и царица Марина. У них должен был появиться царевич, наследник. Настоящая царская семья… В этом было что-то весьма убедительное для поляков, которые, как и все католики, относились к семейным узам с огромным уважением, даром что сами давно побросали свои семьи на произвол судьбы, потащившись в Московию за призраком удачи.