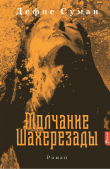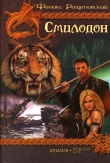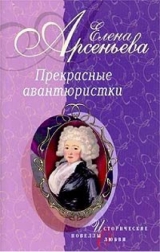
Текст книги "Прекрасные авантюристки (новеллы)"
Автор книги: Елена Арсеньева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц)
А между тем ее роман стал известен досужим соседям, сделался скандал – с мужем Наденька рассталась не без облегчения, однако мать решительно гнала ее вон из родительского дома. Отец в это время находился в отъезде – и Наденька тоже решила податься прочь. Лучшее время вспомнилось ей – жизнь при полку, под наблюдением добродушного Астахова.
Вот для чего она рождена! Вот в чем ее счастье! В свободе! Мать, нося ее под сердцем, мечтала о сыне – и не зря. Только ошибка либо насмешка природы сделала женщиной ту, которая совершенный мужчина по духу! И какое счастье, что Россия сейчас как раз начинает боевые действия за границей, что истинному храбрецу есть где себя показать!
«Воинственный жар с неимоверной силою запылал в душе моей; мечты зароились в уме, и я деятельно начала изыскивать способы произвесть в действие прежнее намерение свое – сделаться воином, быть сыном для отца своего и навсегда отделаться от пола, которого участь и вечная зависимость начинали страшить меня».
В армии ее никто не найдет, а вот она наконец-то обретет свое истинное «я». Так думала Наденька – и именно это явилось причиною, что девятнадцатилетний юнец, коего все принимали за четырнадцатилетнего, оказался «товарищем» Коннопольского полка, поставив в конный строй своего любимого Алкида. Это произошло 17 сентября 1806 года – в день ее именин.
Конечно, то была авантюра, но авантюра самого благородного свойства. Вреда от нее не было никому, а пользы…
«Итак, я на воле! Свободна, независима! – восторгалась она. – Я взяла мне принадлежащее, мою свободу: свободу! Драгоценный дар неба, неотъемлемо принадлежащий каждому человеку! Я умела взять ее, охранить от всех притязаний на будущее время, и отныне до могилы она будет и уделом моим, и наградою! Воля, драгоценная воля кружит голову мою восторгами от раннего утра до позднего вечера! Свобода, драгоценный дар неба, сделалась наконец моим уделом навсегда! Я ею дышу, наслаждаюсь, ее чувствую в душе и сердце!»
Наденька упивалась тяготами походной жизни, муштрой, даже голодом, даже усталостью – а тем паче боями, свистом пуль, она не чуралась страшных, кровавых сцен… но при этом спустя много лет признавалась, что единственной кровью, которую пролила, была кровь гуся, которого она добыла к Рождеству и которому срубила саблей голову. Амазонка наша вовсе не была жестока – ей нужно было не дать выход своим животным, вернее, зверским инстинктам, ибо таковых инстинктов у нее вовсе не имелось, просто ей нужна была истинно мужская жизнь.
Однако тонкость женского восприятия мира все же была присуща ей, оттого через много лет она напишет в своих «Записках», соединяя эту тонкость с холодным аналитическим подходом к такому явлению, как храбрость:
«Ах, человек ужасен в своем исступлении! Все свойства дикого зверя тогда соединяются в нем! Нет, это не храбрость! Я не знаю, как называть эту дикую, неустрашимую смелость, но она недостойна называться неустрашимостью! Полк наш в этом сражении мало мог принимать деятельного участия: здесь громила артиллерия и разили победоносные штыки пехоты нашей; впрочем, и нам доставалось, мы прикрывали артиллерию, что было весьма невыгодно, потому что в этом положении оскорбление принимается безответно, то есть должно, несмотря ни на что, стоять на своем месте неподвижно. До сего времени я еще ничего не вижу страшного в сражении, но вижу много людей, бледных как полотно, вижу, как низко наклоняются они, когда летит ядро. Как будто можно от него уклониться! Видно, страх сильнее рассудка в этих людях! Я очень много уже видела убитых и тяжело раненных. Жаль смотреть на этих последних, как они стонут и ползают по так называемому полю чести. Что́ может усладить ужас подобного положения солдату-рекруту? Совсем другое дело – образованному человеку: высокое чувство чести, героизм, приверженность государю, священный долг Отечеству заставляют его бесстрашно встречать смерть, мужественно переносить страдания и спокойно расставаться с жизнью».
Готовность спокойно расставаться с жизнью – это скоро стало для «товарища» Соколова привычным. Как-то раз граната разорвалась под брюхом у Алкида, однако в ту же секунду конь невероятным прыжком оказался поодаль – и его не задел ни единый осколок. В другой раз Алкид вывез темной ночью своего хозяина с поля боя и привез именно в расположение далеко отошедшего полка, спас Соколова от плена. В третий раз Соколов потерял его при отступлении и отыскал лишь чудом…
«О прекрасный конь мой! – от души восклицала Наденька, в горькие минуты вспоминая, что она, оказывается, не удалой гусар, а просто глупая женщина. – У какой взбалмошной дуры ты в руках!»
Случайная гибель Алкида стала для нее страшным ударом. С трудом пережив утрату и мучаясь от животной глупости других лошадей (в Алкиде Соколов всерьез подозревал разум более чем человеческий!), товарищ наш заново обвыкается со службой. Идет время, которое, как известно, все лечит, и искательница приключений начинает настолько осваиваться с походной жизнью, что у нее пробуждается честолюбие: «Неужели я буду всю жизнь простым солдатом?!»
А между тем Соколов не знал, какие тучи сгущались над его головой.
Уже с год назад Наденька написала письмо отцу, чтобы известить, что жива и здорова, сражается на благо Отечества. Дуров, который только недавно похоронил жену, попытался разыскать любимую дочь. Для этого он обратился с просьбой к самому государю. Протекцию оказал брат, живущий в Петербурге, и вот что из этого вышло.
Полковник начал издалека расспрашивать Соколова, согласны ли были его родители на военную службу. Затем появился унтер-офицер и привез приказ явиться в штаб в Витебск, причем у Соколова отобрали новую лошадь, седло, пику, саблю, пистолеты… Он не знал, что думать. Тем паче что любопытные взгляды устремлялись к нему со всех сторон. Особенно болезненно воспринимает он теперь ставшие было привычными прозвища: гусар-девица, улан-панна… Трактирщица, у которой поселяется Соколов, говорит, что если он позволит себя зашнуровать в корсет, то она держит пари на весь свой трактир против одного злотого, что во всем Витебске нет ни одной девицы с такой тонкой талией, как у него. С этими словами она принесла свой корсет, и тут Наденьке ничего не оставалось, как расхохотаться, ибо в этот корсет она могла поместиться даже не одна, а вместе с четырьмя дочками трактирщицы…
На другой день «товарища» Соколова препроводили к самому графу Буксгевдену – главнокомандующему. Дрожащему от ужаса «товарищу» граф очень ласково сказал, что вызвал его по приказу государя. Если он думал этим успокоить юного воина, то ошибся: Соколов перепугался еще больше. А ведь впереди была поездка в Петербург в сопровождении Засса, флигель-адъютанта его величества… Бедняга Соколов простился бы с жизнью, когда бы все не обращались с ним с необычайной предупредительностью и заботливостью. И все же он продолжал готовиться к худшему.
И вот позади долгий путь, и вот начинается аудиенция у Александра…
Как только запинающийся Соколов явился в кабинет, император тотчас подошел к нему и схватил за руку. Говорил он негромко и так сочувственно, что бедняга Соколов начал понемногу приходить в себя:
– Я слышал, что вы не мужчина, правда ли это?
К такому повороту дела Соколов был не готов и едва не грянулся в самый обыкновенный дамский обморок. Не вдруг собрался он пробормотать:
– Да, ваше величество, правда!
Воцарилось молчание. Несколько минут император и «улан-панна» стояли, схватившись за руки, оба красные от смущения, и смотрели друг на друга с равным испугом.
Наконец Александр справился с собой. Расспросив обо всем, что было причиною вступления Соколова в службу, император много хвалил его неустрашимость, говорил, что это первый пример в России, что все начальники отзывались о Соколове с великими похвалами, называя его храбрость беспримерной. Ему, Александру, очень-де приятно этому верить, и он желает сообразно этому Соколова… то есть мадемуазель… то есть рядового… наградить и с честью возвратить в дом отцовский.
Он еще не закончил свою прочувствованную речь, как Соколов возопил от ужаса и рухнул к его ногам.
– Не отсылайте меня домой, ваше величество! – взмолился он отчаянным голосом. – Не отсылайте. Я умру там, непременно умру! Не заставьте меня сожалеть, что не нашлось ни одной пули для меня в эту кампанию! Не отнимайте у меня жизни, государь! Я добровольно хотел ею пожертвовать для вас!
Несчастный Соколов обнимал колени императора и рыдал, как девчонка.
Ну да, а как иначе он мог рыдать?..
Александр был тронут; он поднял Соколова и спросил изменившимся голосом:
– Чего же вы хотите?
– Быть воином! Носить мундир, оружие! – отрапортовала Наденька. – Это единственная награда, которую можете дать мне вы, государь! Другой нет для меня! Я родилась в лагере, трубный звук был колыбельной песнею для меня! Со дня рождения люблю я военное звание; с десяти лет обдумывала средства вступить в него; наконец достигла цели своей – одна, без всякой помощи. На славном посту своем поддерживалась одним только своим мужеством, не имея ни от кого ни протекции, ни пособия. Все согласно признали, что я достойно носила оружие, а теперь, ваше величество, хотите отослать меня домой! Если б я предвидела такой конец, то ничто не помешало б мне найти славную смерть в рядах воинов наших!
Наденька говорила, сложив руки, как перед образом, и смотрела на императора глазами, полными слез.
Александр слушал ее и тщетно старался скрыть, сколь он был растроган. Наконец Соколов умолк. Александр минуты две оставался как бы в нерешительности, потом лицо его осветилось.
– Если вы полагаете, – промолвил он, – что одно только позволение носить мундир и оружие может быть вашей наградою, то вы будете иметь ее!
Наденька затрепетала от радости. Император продолжал:
– И будете называться по моему имени – Александров. Не сомневаюсь, что вы сделаетесь достойною этой чести отличностью вашего поведения и поступков; не забывайте ни на минуту, что это имя всегда должно быть беспорочно и что я не прощу вам никогда и тени пятна на нем!..
Итак, авантюра Наденьки Дуровой получила высочайшее благословение и официальный статус.
Александр умел разбираться в людях и никогда не раскаялся в том, что доверился этой перепуганной, рыдающей искательнице приключений. И знак отличия Военного ордена[13]13
Так назывался солдатский Георгиевский крест.
[Закрыть], врученный ей за то, что она спасла жизнь офицеру на поле боя (первый и последний, врученный женщине!), носила с честью. Александрова, получившего чин корнета, зачислили в Мариупольский гусарский полк, из которого он ушел спустя три года только для того, чтобы не поставить в неловкое положение влюбленную в него полковничью дочку. Такому обостренному чувству чести мог бы позавидовать любой мужчина!
Разумеется, ее тайну никто не выведал. Офицеры относились по-прежнему к Александрову как к мужчине и выговаривали, как всем:
– Вы упали с лошади! Только вместе с лошадью может упасть гусар, но никогда с нее!
Никого особенно не удивляло, что «мальчишка» чрезмерно стыдлив и предпочитает купаться в речке не в компании товарищей, а поодаль, и то если рядом нет никого. Мало ли какие чудачества бывают у людей. Главное, он хороший товарищ и храбрец, а там хоть трава не расти!
Между прочим, воинская служба несколько примирила Александрова с женщинами. Не то чтобы он перестал их бояться: стоило женщине посмотреть на него пристально, как он начинал краснеть и приходил в замешательство: ему казалось, что взгляд ее проницал его, что она по одному виду его угадывает его тайну, и он в смертном страхе спешил укрыться от ее глаз. Однако жены и дочери военных – «женщины полковые» – снискали его уважение и расположение. У них не было ни причуд, ни капризов, они всегда добры, всегда обязательны, веселы, любят ездить верхом, смеяться, танцевать…
И все-таки воротиться в прежнее женское состояние Александров не желал ни за какие коврижки! Довольно того, что порою он встречался с людьми, которые с жаром описывали направо и налево знаменитого улана Амазонку, которой протежировал сам государь! Один комиссионер рассказывал, что сам видел Амазонку:
– Она очень смугла, но имеет свежий цвет и кроткий взгляд, впрочем, для человека непредупрежденного в ней не заметно ничего, что обличало бы пол ее, она кажется чрезвычайно еще молодым мальчиком.
Услышав это, Александров, сидевший в темном углу, не удержался, чтобы не спросить:
– Узнали бы вы эту Амазонку, когда б ее увидели?
– О, непременно! – был ответ. – Мне очень памятно лицо ее; как теперь гляжу на нее; где б ни встретил, тотчас бы узнал.
– Верно, память ваша очень хороша, – пресерьезно отозвался Александров…
Однако с тех пор запало ему в душу, что вдруг да сыщется человек, который узнает в нем девицу? Румянец на его нежных щеках и впрямь был девичий. И спросил он у полкового лекаря, не знает ли он, как избавиться от лишнего румянца?
– Очень знаю, – отвечал тот. – Пейте больше вина, проводите ночи за картами и в волокитстве. Через два месяца этого похвального рода жизни вы получите самую интересную бледность лица.
По счастью, у Александрова хватило ума не воспользоваться этим советом, и он по-прежнему приводил в восторг девиц своей тонкой талией, румянцем и маленькими, изящными руками и ногами, а также смешил их тем, что краснел – как девочка! – при каждом грубом слове. Да вот еще усы у него никак не росли, оттого товарищи в шутку называли его лапландцем.
А между тем глухой, невнятный слух о существовании Амазонки продолжал носиться по армии. Все говорили об этом, но никто ничего не знал. Все считали возможным, но никто не верил. Александрову не один уже раз рассказывали его собственную историю со всеми возможными искажениями: один описывал Амазонку красавицей, другой уродом, третий старухою, четвертый давал ей гигантский рост и зверскую наружность… И так далее.
Судя по этим словам, Александров мог быть уверен, что никогда ничьи подозрения не остановятся на нем, – и спокойно продолжал сражаться дальше.
За годы службы к формуляру «товарища Соколова», ныне Александрова, было добавлено, что «в Пруссии противу французских войск в сражениях за отличность награжден знаком отличия военного ордена Св. Георгия 5-го класса».
Когда началась Отечественная война 12-го года, Александров был уже подпоручиком Литовского уланского полка, и с этим полком он прошел весь путь русской армии от границы до Тарутина. Формуляр гласит:
«1812 года противу французских войск в российских пределах в разных действительных сражениях участвовал. Июня 27-го под местечком Миром, июля 2-го под местечком Романовом, 16-го и 17-го под деревнею Дашковкою, августа 4-го и 5-го под городом Смоленском, 15-го при деревне Лужках, 20-го под городом Ржацкою Пристанью, 23-го под Колоцким монастырем, 24-го при селе Бородине, где и получил от ядра контузию в ногу».
После Бородинского сражения Александров получил чин поручика, и в то время, как русская армия, оставив Москву, шла на запад, он служил ординарцем самого Кутузова.
Подлечив немного контуженую ногу в родительском доме, он вернулся в армию и в составе своего полка участвовал в боях в Польше и Германии.
В 1816 году – после десяти лет службы – Александров вышел в отставку в чине штабс-ротмистра.
Пожив в Петербурге, затем в Сарапуле и Елабуге, «от нечего делать» Александров начал писать – сначала просто для того, чтобы отправить свои заметки Пушкину и дать ему материал для нового романа. Однако поэт пришел в такой восторг от этого материала и стиля, что в конце концов записки вышли под ее фамилией – Надежды Дуровой.
Это произошло против ее воли – она-то хотела зваться Александровым до смерти! Она и после публикации не желала признавать своей женской сущности, от которой совершенно отвыкла. Ходила в мужском костюме и сердилась, когда ее называли Надеждой Васильевной или сударыней. Хорошо, что она так никогда и не узнала, что ее завещание, согласно которому ее должны были называть при отпевании Александром Александровичем Александровым, было нарушено священником: в панихиде ее поименовали рабой божьей Надеждой.
А впрочем, ведь у амазонки и должно быть женское имя!
Заговор между спальней и казармой (Елизавета Петровна)
«Что происходит? Нет, этого не может быть! Это не со мной! Куда они несут меня? Во что я впуталась? Это ведь авантюра! Не сносить мне теперь головы! Все кончено для меня. Все кончено. Или… или все только начинается?!»
Такими мыслями была обуреваема тридцатилетняя рыжеволосая женщина с испуганными и в то же время шальными голубыми глазами, смотревшая сверху на толпу гвардейцев, которые со всех ног бежали по раскисшей снежной грязи к Зимнему дворцу. Женщина не поспевала за ними: ноги ее скользили, юбки мешали, поэтому гвардейцы подняли ее на руки. Их невозможно было остановить, ее запоздалые страхи, последние всполохи осторожности, смутные, ненужные сейчас воспоминания не поспевали за ними так же, как не поспевали ее маленькие башмачки за тяжелыми сапогами гвардейцев…
* * *
– Ой господи! Спасите! Спасите меня!
Истошный женский крик вспорол жаркую, душную тишину тесной опочивальни. Почти тотчас скрипнула дверь, и тьму рассеял зыбкий огонек свечи. Мягко прошуршали по деревянному полу расшлепанные старые валенки, раздался сонный мужской голос:
– Тише, лебедушка моя белая. Угомонись! Ну чего ж ты так кричишь-то, Лизонька, душенька? Тише-тише!..
Он разговаривал, будто с ребенком, и женщина, метавшаяся в своих перинах, подушках и одеялах, словно в оковах, наконец-то перестала вопить.
– Опять что-то привиделось?
– Привиделось, Васенька! – послышался дрожащий голос, перемежающийся всхлипываниями. – Будто ворвались они… с ружьями, с палашами. Вытащили меня из постели, поволокли, а там уже кандалы гремят…
– Ну как же они к тебе ворваться могли, когда я – вон он, за дверью стерегу? – рассудительно проговорил Васенька. – Ни в коем разе им мимо меня тишком не пройти, да и пропущу ли я их? Костьми лягу, а к твоей милости шагу никому чужому не дам шагнуть. Иль не знаешь?
– Знаю, – пробормотала она, всхлипывая все реже. – Знаю, а сны-то… с ними не сладишь!
– Сладишь, Лизонька! – журчал, словно ручеек, Васенькин ласковый шепот. – Со всем на свете сладишь ты. И со снами страшными, и с неприятелями своими! Глядишь, еще и посмеешься над ними, еще их самих в страх вгонишь. Ух как затрясутся они, ух как взмолятся! Небось все лбы отобьют, земно тебе кланяясь: смилуйся-де над нами, Елисаветушка! Ну уж ты тогда сама решишь, казнить али миловать. Одно могу сказать: еще отольются им твои слезоньки.
– Как же сладко поешь ты, Васенька! – прерывисто вздохнула женщина. – А все одно: страшно мне, маетно! Жарко натоплено, а все дрожь бьет дрожкою. Согрей меня, Васенька. А?
– Воля твоя, лебедушка моя белая, – покорно отозвался Васенька, – как велишь, так и сделаю. – Проворно, нога об ногу, он сбросил валенки и мигом взобрался на высокую кровать, очутившись среди такого множества подушек, подушечек, вовсе уж маленьких думочек, что затаившуюся меж ними женщину пришлось искать ощупью. Впрочем, сие дело было для Васеньки привычное, и спустя самое малое время беспорядочная возня на кровати сменилась более размеренными движениями. Шумное дыхание любовников, впрочем, изредка перемежалось еще не утихшими всхлипываниями, как если бы женщина еще не вполне успокоилась и продолжала оплакивать свою долю.
Женщиной этой была Елисавет, дочь государя Петра Великого. А мужчиной, который так привычно и ловко утишал ее ночные страхи, – дворцовый истопник Василий Чулков.
Ей было не впервой принимать на своем ложе кого попало – от князей и высших военных чинов до истопников и простых гвардейцев. В этом смысле она вполне унаследовала пристрастия своей маменьки, которая, как известно, прошла путь от охапки соломы, на которой валял ее русский солдат, прежде чем попалась на глаза фельдмаршалу Шереметеву, затем – государеву фавориту Меншикову и лишь потом оказалась в постели русского царя Петра. Впрочем, императрица Екатерина Алексеевна, звавшаяся в незабытом прошлом Мартой Скавронской, норовила то и дело спрыгнуть с царского ложа и поваляться где придется – на кушетках, на коврах, а то и прямо на полу – то с прежним любовником своим Алексашкою, то с каким-нибудь новым любезным ее сердцу красавцем, желательно немецкого происхождения (она ведь и сама была далеко не русской!), например, с надменным Рейнгольдом Левенвольде или обворожительным Виллимом Монсом, а то и вовсе кто под руку попадется. Конечно, ей приходилось таиться от супруга, ибо месть его могла быть ужасна! Екатерина едва не простилась и с троном, и с головой за чрезмерно бурную интрижку с чернооким красавчиком Виллимом, ну а ему пришлось-таки сложить свою гордую голову на плахе. Но уроки легкого поведения были прочно и на всю жизнь усвоены ее младшей дочерью Елисавет.
Но сейчас дело было не только и не столько в этом самом легком поведении. Каждую ночь виделись Елисавет всевозможные страсти и ужасти, каждую ночь донимали ее кошмары: а ну как надоест императрице Анне Иоанновне (или сменившей ее правительнице Анне Леопольдовне!) терпеть на задворках двора забытую всеми царевну? А ну как прослышит о том, что многие люди, недовольные засильем немцев при дворе бывшей курляндской герцогини и ее племянницы, нежданно-негаданно вознесенных судьбой на российский трон, все чаще с надеждой обращают взоры в сторону дочери Петра Первого? А ну как дойдут до двора разговоры, в которые все чаще пускается преданная – и, такое впечатление, поголовно влюбленная в Елисавет – гвардия: искра-де Петра Великого обречена на забвение, законная наследница престола, а ведь стоит ей сказать только слово, стоит только нас позвать…
А ну как надоест правительнице терпеть под боком своим эту самую «искру», из которой вдруг да раздуется пожар, могущий спалить ее царствование? А ну как решит она эту «искру» погасить?
И сбудется кошмарное видение: ворвутся в ночной покойчик Елисавет люди с ружьями и палашами, схватят под белы рученьки, отволокут в застенок – перепуганную, ничего не соображающую спросонок… Нет, не для того спал под ее дверью истопник Василий Чулков, чтобы в случае чего защитить царевну грудью и положить за нее жизнь (хотя отваги, преданности и отчаянного безрассудства у него вполне хватило бы, даром что истопник, а не гвардеец!), дав ей возможность бежать. Куда?! И далеко ли убежишь босая, в ночной сорочке? Нет, Васеньке следовало только лишь предупредить Елисавет о том, что к ней идут чужие, и дать ей возможность встретить опасность с тем достоинством и величавым спокойствием, какое подобало дочери Петра Великого.
Хотя, наверное, те, кто явился бы к ней с предписанием отправить в крепость или в какой-нибудь дальний монастырь, немало удивились бы, встретив в ней спокойное достоинство, ибо этого свойства в ней никто не предполагал. Что при дворе, что за его пределами иначе как веселой потаскушкой царевну почти никто не называл. Другое дело, что одни произносили эти слова с осуждением, а другие – с явным одобрением.
Царевна Анна, старшая сестра Елисавет, – та была совершенно другая. Скромница, умница – недаром, умирая в 1725 году, Петр в полубреду просил своих приближенных: «Отдайте все Анне», распоряжаясь, таким образом, сделать ее наследницей. Однако разумная и благонравная Анна уже была к тому времени замужем за герцогом Голштейн-Готторнским, а значит, воцарение ее означало фактическое воцарение ее мужа, поэтому ей пришлось отъехать вместе с ним в Голштинию – там она и померла вскоре после родов…
Да, имя Анны то и дело всплывало, когда советники Петра спорили о том, кто взойдет на престол. Другими претендентами были Екатерина Алексеевна и внук Петра, тоже Петр Алексеевич, сын несчастного царевича Алексея. Назвать имя Елисавет никому и в голову не приходило.
Не только потому, что в это время ей было всего лишь шестнадцать лет! Ее племянник Петр был значительно моложе. Но необходимо было слишком богатое воображение, чтобы представить Елисавет (ее иногда называли то ли насмешливо, то ли ласково Елисаветкой) на престоле. Вот в постели – это да, это пожалуйста, тут и никакого воображения тратить не надо.
Именно в шестнадцать лет она отдала свое пылкое сердце и не слишком дорого ценимую невинность тридцатилетнему Александру Бутурлину, гоф-юнкеру ее двора. Прежде он был солдатом гвардии, определенным в Морской шляхетский корпус. Вышел оттуда мичманом и был взят царем Петром в денщики. Тогда-то и обратила на него внимание рано повзрослевшая девочка-царевна. Однако, прежде чем достаться ей, Бутурлин сделался предметом кратковременного увлечения Екатерины Алексеевны. Наконец императрица им прискучила – и определила ко двору дочери. И это называется – пустила козла в огород.
Елисавет влюбилась смертельно и потеряла голову. Впрочем, она вообще ее легко теряла и никогда иначе, как смертельно, не влюблялась. Она находилась в таком угаре, что даже не сразу очнулась после смерти матери (Екатерина пережила мужа меньше чем на два года) и с трудом поняла, что она, Елисавет, больше не царская дочка. На престоле ее племянник – двенадцатилетний мальчишка, а она – просто какая-то там второразрядная принцесса.
А она-то еще потешалась над сестрицей Анной, которая смиренно вышла замуж за своего унылого Карла-Ульриха! И что теперь? У Анны есть муж! Она герцогиня! А Елисавет?! Никому не нужное никто.
Конечно, Екатерина прежде изо всех сил пыталась пристроить не только младшую, но и старшую дочь. Мечты ее простирались далеко – в Версаль! Нет, а в самом деле, что тут такого? Если она, лифляндская крестьянка, затем солдатская прачка, стала императрицей всея Руси, то почему ее дочери не сделаться королевой Франции? На всякий случай Елисавет быстренько познакомили с азами французского языка и выучили танцевать менуэт. В этом заключалось практически все ее образование – большего, по мнению ее заботливой матушки, невозможно было требовать от благовоспитанной принцессы!
Между прочим, саксонский посланник Лефорт писал своему королю, характеризуя младшую дочь Петра: «Всегда в движении, беспечная, веселая, остроумная, казалось, что она родилась для Франции, ибо любит фальшивый блеск!»
Но нет, она не родилась для Франции…
В 1725 году Екатерина предложила свою дочь в жены Людовику XV (в крайнем случае, герцогу Орлеанскому). Французы пожали плечами. Они не собирались даже рассматривать вопрос о браке своего короля и принца с какой-то незаконнорожденной русской барышней. На всякий случай, чтобы не обидеть русских вообще и их представителя князя Александра Даниловича Меншикова в частности, французский посол Кампедон, якобы от имени своего двора, выдвинул как непременное условие переход невесты в католическую веру. Это считалось на Руси совершенно невозможным! К тому же разнесся слух о предполагаемом браке Людовика с англичанкой, потом с испанкой… У герцога Орлеанского тоже обнаружились какие-то обязательства. То есть кандидатура французского жениха отпала как бы сама собой. Кстати сказать, в конце концов Людовик женился на польке по имени Мария Лещинска. Елисавет потом всю жизнь втихомолку презирала его за это.
После афронта со стороны Франции матушка Екатерина стала поскромнее. Теперь ее выбор пал на побочного (ну да пусть уж все будет по пословице: «Муж и жена – одна сатана!») сына курфюрста Саксонского Августа. Звали этого красавца Морис, был он мужественным и отважным, но пределом его мечтаний был курляндский престол, к которому Елисавет не имела отношения: сей престол был занят ее двоюродной сестрой, Анной Иоанновной. Поэтому, несмотря на весьма бойкое посредничество саксонского посланника Лефорта, который отлично относился к Елисавет, потому что она была красива, и весьма поэтично (хотя и с некоторой избыточной пылкостью!) описывал ее Морису: «Хорошо сложена, прекрасного роста, прелестное круглое лицо, глаза, полные воробьиного сока,[14]14
Поколения и поколения историков головы сломали, пытаясь разгадать тайну сей метафоры!
[Закрыть] свежий цвет лица и красивая грудь…» – так вот, несмотря на все эти эпитеты, Морис предпочел сделать предложение герцогине Курляндской. Сей брак тоже не сладился, но это уже совсем другая история.
Разочаровавшись во французах и саксонцах, Екатерина стала поглядывать в сторону Германии. Анна замужем за герцогом Голштинским, почему бы не пристроить Елисаветку за его младшего брата?
Этого брата звали Карл-Август, и он носил титул епископа Любекского. Несмотря на сие звание, как бы обязывающее к нравственной чистоте, он немедленно очаровался невестой, причем настолько, что соблазнился ее прелестями. Его трудно винить: устоять перед Елисавет было почти невозможно. Не стоит винить и ее: при развращенном дворе Петра и Екатерины можно было усвоить только самые приблизительные понятия о добродетели. Вдобавок невинность Елисавет уже была утрачена, а коли нечего терять, так чем дорожить? К несчастью, а может, и к счастью, Карл-Август вскоре умер. Елисавет горько его оплакивала – прежде всего потому, что другого высокородного жениха у нее на примете не было. Однако она навсегда сохранила самые нежные воспоминания о своем милом романе и именно поэтому через полтора десятка лет выбрала для будущего Петра III среди множества германских невест Софию-Фредерику-Августу Ангальт-Цербтскую, племянницу покойного Карла-Августа. Однако в ту пору, о которой мы сейчас рассказываем, до всего этого было еще далеко, как до луны, а потому и говорить об этом не стоит.
Итак, Екатерина умерла, а Елисавет убедилась, что она одинока, бедна, никому не нужна и заботиться о ней некому! На троне – несмышленый мальчик…
Насчет того, что она никому не нужна, Елисавет ошибалась. В ее сторону с большим интересом поглядывал Андрей Иванович Остерман, бывший во времена начального царствования Петра II его воспитателем, вице-канцлером и фактическим главою государства. Его немало смущала путаница с вопросами престолонаследия в России, он опасался, что дети Петра Великого в конце концов начнут тягаться с его внуком. Этого вполне можно было избежать, если решить дело полюбовно – причем в самом прямом смысле слова. Остерман задумал женить двенадцатилетнего императора на его семнадцатилетней тетушке Елисавет.
Если Петр и мог зваться несмышленышем, то уж недоростком его никто не посмел бы назвать! Он выглядел на пятнадцать, а жизненная хватка и страсть к недозволенным удовольствиям делали его еще старше. Просвещением его занимался величайший потаскун того времени – молодой князь Иван Долгорукий, которому Петр доверял больше, чем себе самому. И, как это часто бывает с молоденькими мальчиками, его неодолимо тянуло не к своим ровесницам, а к более опытным особам – к женщинам постарше. Елисавет отвечала его идеалу блестяще!