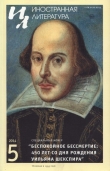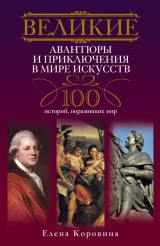
Текст книги "Великие авантюры и приключения в мире искусств. 100 историй, поразивших мир"
Автор книги: Елена Коровина
Жанры:
Искусство и Дизайн
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Тайный брак создателя храма Солнца
История часто обладает короткой памятью. Люди, которыми восторгались современники, забываются через пару десятилетий. Но забытые имена обладают особой притягательностью, особенно если они связаны с тайной и приключениями самой Жизни.
Музыка, любовь и… авантюра
Весь свет Петербурга 1770-х годов стремился посетить дом сенатского обер-прокурора Алексея Афанасьевича Дьякова на Васильевском острове. Однако центром притяжения являлся не сам прокурор, а пять его дочерей-красавиц, из которых самой обворожительной была средняя – Мария.
В 1770 году Маше исполнилось 15 лет, и с тех пор она слыла украшением столицы. Слыла не просто очаровательницей, но и «способной к искусствам». Рисовала маслом так, что сам живописец Левицкий, любимец императрицы Екатерины II, почитал за честь давать ей уроки. Писала стихи, да такие, что сам Державин считал, что их стоило бы печатать. Пела столь искусно, что выступала на оперных концертах перед императрицей. И поэтому никто не удивился, когда известный меценат П.В. Бакунин объявил, что именно мадемуазель Дьякова исполнит главную партию в новой французской опере, которую Бакунин ставит в своем домашнем театре. Ноты этой оперы только что привез из Европы молодой дипломат – Николай Александрович Львов.
Маша с интересом смотрела на серебряный поднос, который только что внесла в гримерную комнату служанка, помогавшая гримироваться хозяйке. На подносе лежали «подношения, соответствующие случаю», – так назывались подарки, которые восторженные слушатели преподносили исполнителям после спектакля. Конечно, профессиональным певицам подносят «неприличные дары» – кольца да браслеты. Но ведь Маша Дьякова – аристократка, поэтому ее подарки абсолютно приличны. И потому старшая сестра Маши – Александра, которую в соответствии с модой следует величать «Александрин», без боязни развернула первый же сверток: «Это новая книга стихов господина поэта Ивана Хемницера – и между прочим, посвящена тебе!» Маша только плечиками пожала: что с того – многие восторженные пииты посвящают ей стихи. А сестра уже разворачивала другой сверток: «И это книга – сочинения господина Капниста. – Бойкая Александрин вдруг потупилась. – Можно я возьму себе?» Маша улыбнулась – она-то знала: сестрица неровно дышит к молодому Капнисту. «А вот, смотри, Мари! – Саша развернула третий сверток. – Это же новые стихи поэта Львова!»

Д.Г. Левицкий. Портрет Марии Алексеевны Дьяковой
Маша вскочила, мигом выхватив книгу: «Дай сюда!» От резкого движения книга раскрылась. Обнажилась надпись на титуле: «Тебе, моя солнечная Маша!» Девушка прижала книгу к груди и расплакалась.
Сестра гладила ее по плечу, сидя рядом. Что тут сделаешь?! Вот уже четыре года бедная Маша влюблена в Николая Александровича Львова. Тот красив, молод, благороден. Близкий друг поэта Державина, художников Левицкого и Боровиковского. Сам одарен разносторонне: пишет стихи и музыку. Служит по дипломатической части: приписан к посольству в Испании. Видя его рвение, батюшка сестер Дьяковых – Алексей Афанасьевич – поначалу принял в нем участие. Зная, что Львов беден, поселил его в собственном доме. Да в одночасье отказал в протекции: застал Николая на коленях перед любимой дочкой Машенькой да и выгнал вон. Словом, разлучил, как Ромео и Джульетту.

Д.Г. Левицкий. Портрет Николая Александровича Львова
Маша плакала. Батюшка гневался: «Не для того я тебя растил, чтобы отдать замуж за какого-то нищего! А у твоего Львова всего-то одно сельцо Никольское под Торжком, да и то на болоте». Однако Николай Александрович не отступался: многократно просил руки Машенькиной у строптивого родителя. Дьяков на него только ногами топал, а дочке запретил даже видеться с Николаем, а коли та ослушается, пригрозил, что посадит неугодного жениха в тюрьму.
Что было делать, ведь Дьяков – обер-прокурор, кто с ним сладит? Четыре года влюбленные не разговаривают, не переписываются. А любовь их все живет. Иногда сестры приносят несчастной Маше новости о ее возлюбленном, иногда девушка видит его издали. Вот и на этом вечере Маша согласилась выступить потому, что надеялась: вдруг увидит хотя бы в зале своего Львовиньку, как она его про себя называла. Да не увидела. Вот только – книга…
Николай Львов подстерег Дьякова в клубе: «Отчего же вы принимаете ухаживания Василия Капниста за Александрин, а меня прочь гоните?!» Обер-прокурор не торопясь открыл табакерку, взял понюшку табаку. Затянулся, потом почти брезгливо скинул с манжета упавшую табачную крошку и процедил: «У Капниста доход с имений и чин по службе большой». И обер-прокурор смачно чихнул.
Львов вышел из клуба пошатываясь: неужто все меряется на чины и деньги? И Дьяков всерьез верит, что они могут заменить любовь и счастье?! В голове сами собой складывались гневные строки, обращенные к обер-прокурору.
Нет, не дождаться вам конца,
Чтоб мы друг друга не любили!
Вы говорить нам запретили,
Но, знать, вы это позабыли,
Что наши говорят сердца!
Это были не вычурные строки, коими грешат все придворные поэты. Зато эти строки были полны реальных чувств. Львов вообще не любил напыщенности, которая царила в русской литературе. Недавно Николай спросил у друга Гаврилы Державина: «Почему ты пишешь о себе: „Потомок Аттилы, житель реки Ра“? Неужели нельзя написать проще, реальнее: что ты из славной старинной Казани, рожден на вольных волжских берегах?» Державин тогда уперся: это поэтические символы. А вот Львов хочет писать безо всяких символов, так чтобы понимал любой. Без вычурности о простых человеческих чувствах. Ведь когда душа болит, разве можно думать о символах?!
Под вечер на балу эти стихи прочла и Маша. Василий Капнист передал их Александрин, а та вложила в бальную карточку сестрицы. Маша прочла, вспыхнула, но тут же усмирила чувства – нельзя дать папеньке-прокурору даже и толики подозрения! И только вернувшись с бала, Маша дрожащим голосом спросила сестру: «Что же нам делать?»
Через неделю ясным морозным утром богато разукрашенная тройка подкатила к дому Дьяковых. Расфранченный Василий Капнист, рассыпавшись в любезностях, пригласил сестер – Александрин и Мари – прокатиться. Чтобы Мари не было скучно, в санях ожидал и еще один светский поклонник – блестящий гвардейский офицер Василий Свечин. Кучер щелкнул кнутом, кони резво тронулись с места, но катанье вышло недолгим. Тройка свернула с дороги и подкатила к небольшой церквушке на Васильевском острове. А там уже ожидал взволнованный Николай Львов. Машенька соскочила прямо ему на руки. Распахнулись врата храма, и Николай внес за порог свою драгоценную ношу.
Трепетали свечи. Священник, волнуясь, проводил обряд венчания. Маша дрожа обходила вокруг аналоя, вопреки традициям держась за руку ненаглядного Львовиньки. Девушка понимала: венчание – чудо, но оно же и преступление, ведь без благословения родителей это – грех. И еще она знала: впереди – страдания, ибо, даже обвенчавшись, ей предстоит жить без любимого. Но если бы она только знала, как долго это продлится!..
И как только она прожила эти роковые лета?! Отец то и дело приводил очередного жениха. Маша бледнела, но отказывала. Мать корила дочь, предрекая долю старой девы. Маша вздыхала, но терпела. Она вытерпела даже свадьбу Александрин – та вышла замуж за своего ненаглядного Василия Капниста. Маша поздравила молодых и только ночью залила подушку слезами.
Ни словом, ни намеком не обмолвилась она о своем замужестве. Да любая другая и не сочла бы это замужеством, ведь сразу после венчания Капнист отвез Машу обратно в родительский дом. Николай же поехал к себе. С тех пор они ни разу и не встречались наедине. Но Маша истово верила, что Львовинька достигнет успеха и сможет просить ее руки у строптивого обер-прокурора. Но годы шли. Любая другая девушка уже и забыла бы о странном венчании. Но – не Маша. Она верила в своего Львовиньку…
С замирающим сердцем узнавала она, что Львов добился литературных успехов: и как поэт, и как драматург. Что он начал заниматься архитектурой и археологией. В старорусском стиле построил уникальную по форме церковь «Кулич и пасха», Невские ворота Петропавловской крепости, здание столичного императорского почтамта. Императрица удостоила его царственными дарами – бриллиантовым перстнем и золотой табакеркой. Ну а в 1783 году Львов получил чин коллежского советника и был избран членом Российской академии.
Наконец-то даже спесивый прокурор Дьяков не нашел причин для отказа, когда Львов посватался к его дочери в двенадцатый (!) раз. Да и о самой дочери подумать уже стоило: ведь 28-летняя Мария слыла уже старой девой. Вот на какую жертву она пошла ради любви! Но и Львов жил ради этой любви. Ведь не будь этого столь сильного чувства, может, он и не стал бы ни поэтом, ни драматургом, ни архитектором. Недаром Николай называл Машу – «другая часть меня». Любимая была путеводной звездой в его нелегкой жизни. Ведь даже долгожданная свадьба чуть не обернулась трагедией.
Обер-прокурор решил закатить пышное торжество. Сотни гостей, церковь, убранная для торжественной церемонии. И вдруг известие о том, что его строптивая дочь уже давно обвенчана. Да бедного Дьякова чуть удар не хватил. Вторичное венчание – недопустимый грех, и что делать? Положение спас, конечно, Львов. Он предусмотрительно привез в храм чету крестьян, которым вздорный Дьяков не разрешал венчаться. И вот перед гостями прокурор предстает хранителем любви, соединяющим сердца страждущих, даже если они – его крепостные. Маша же с Николаем объявляют, что они повенчались ранее поутру. Но поздравления принимают обе молодые пары.
Талант по наследству
Из вечно хмурого и дождливого Петербурга молодые уехали под Торжок в свое сельцо Никольское. Там, увы, все было как и предсказывал прокурор Дьяков – болото, разорение, нищета. Но теперь Львов был вполне обеспечен и потому твердо сказал: «Здесь будет наш рай!» Маша поверила – она верила Львовиньке всегда. Начались работы по возрождению села, по созданию новой жизни. Маша внесла и свою лепту – уже к концу 1784 года родила первенца – Леонида. Львов же по собственным чертежам создал новый дом – настоящий дворец. Стены украсил живописью друзей – Левицкого, Боровиковского. Создал удивительную ротонду, чтобы его Машеньке было приятно гулять на воздухе. Сам написал о ней так: «Я думал выстроить храм солнцу. чтобы в лучшую часть лета солнце садилось или сходилось. Такой храм должен быть сквозным. чтобы с обеих сторон его лес». И чудо – над селом Никольским теперь и правда почти всегда светило солнце. Даже соседи удивлялись. В своем солнечном крае чета Львовых прожила двадцать счастливых лет. За это время Николая приняли еще в почетные члены Академии художеств, он стал «классиком народной музыки», ибо вместе с другом И. Прачем собрал и издал первый в России сборник народных песен. Еще Львов построил в Гатчине дворец-приотрат для Павла I. И поскольку почва там была болотистая, построил здание из. земли. И это «земляное битое строение» простояло два века, устояв даже под обстрелами во время Великой Отечественной войны, когда другие здания рухнули.
Упокоился неугомонный Львов в 1803 году. Мария похоронила супруга в той самой солнечной ротонде. И сама упокоилась рядом с любимым всего-то через четыре года – жить без любимого она не смогла. Но таланты этой счастливой семьи не прервались: их правнуком стал замечательный русский художник Василий Поленов, который, между прочим, всю жизнь прожил в любви со своей супругой Еленой. Выходит, и талант, и любовь передаются по наследству.
Сокровища подмосковного Версаля
Эта история началась в первые годы XIX века, но длится до сих пор. Ибо тайна ее не разгадана, а события захватывающи и авантюрны. Ведь речь идет о настоящем приключении – поисках реального клада.
Кто бы мог подумать, что и под Москвой вполне можно создать дворец, не уступающий по роскоши самому Версалю? Обставить его антикварной мебелью, обить стены дорогущими гобеленами, а на мозаичный пол бросить ковры стоимостью как золото. Впрочем, и золота, и драгоценных камней в подмосковном Версале было предостаточно. Ну а создал его граф Федор Васильевич Ростопчин, ставший московским главнокомандующим в Отечественной войне 1812 года – фигура неоднозначная даже для современников, ну а спустя века и вовсе легендарно-загадочная.
Некоторые, как Лев Толстой, считали его поверхностным и недалеким. Иные, как поэт П. Вяземский, напротив, уверяли, что Ростопчин хоть и «мог быть иногда увлекаем страстною натурою своею, но на ту пору он был именно человек, соответствующий обстоятельствам. Наполеон это понял и почил его личною ненавистью».
Но и те и другие признавали, что граф развил «бурную и нужную деятельность». Конечно, оборонять Москву он не мог, для этого существовали военные власти. Но как штатский градоначальник, Ростопчин налаживал снабжение армии всем необходимым – от провианта до оружия, не допускал в городе мародерства и беспорядков. Поняв, что войск Наполеона не сдержать, Ростопчин первым призвал народ к партизанской войне и начал формирование городского ополчения. Однако москвичи никак не воспринимали Ростопчина всерьез, считали его «квасным патриотом». Однако их мнение резко изменилось после трагически-геройских событий: 19 сентября 1812 года граф лично спалил свою всем известную усадьбу в подмосковном селе Воронове – пусть врагам-французам не достанется ничего!
На двери церкви Ростопчин собственноручно прибил записку, писанную по-французски: «Восемь лет я украшал мое село и жил в нем счастливо. При вашем же приближении крестьяне оставляют свои жилища, а я зажигаю мой дом: да не осквернится он вашим присутствием. Французы! В Москве я оставил вам два моих дома и недвижимости на полмиллиона рублей, здесь же вы найдете один пепел!»
Вот каковы оказались истинный патриотизм и сила ненависти к захватчикам – граф сам бросил первый факел, зажигая родовое гнездо. И сгорело все. А ведь эту усадьбу за роскошь и уникальность величали не иначе как подмосковным Версалем.
В действительности же, как вспоминали современники, Вороново было даже богаче и роскошнее Версаля: прекрасный дворец (главная усадьба) и огромный парк, разбитый вокруг, «голландский домик» для уединения и гроты, фонтаны, оранжереи. Каждая зала напоминала не просто дворец – музей, каждая аллея являла собой произведение искусства под открытым небом. Мраморные и бронзовые статуи для парка и дворца были привезены из самой Италии, античные вазы – из Рима и Афин, мебель и гобелены, картины и серебряные сервизы – из Парижа и Лондона. Книги для богатейшей библиотеки свозили вообще со всего мира. Практически все средства Ростопчина были вложены в его чудо-усадьбу. И вот в тяжелую годину граф, как истинный патриот, пожертвовал всем этим великолепием.
Он примчался в свое имение ночью 2 сентября (по старому стилю), догнав по дороге отступающий главный штаб русской армии. Уже в ночь по Москве, в которую вошел Наполеон, начались пожары. И Ростопчин с ужасом видел их, стоя на высоком берегу Москвы-реки, протекающей через земли его усадьбы. 7 сентября ставка Кутузова расквартировалась в селе Красная Пахра, в 15 верстах от Воронова. Естественно, Ростопчин попытался выведать у фельдмаршала о дальнейших действиях армии. И конечно, Кутузов ничего не сказал. Но Ростопчин был опытным дипломатом-царедворцем. За свою жизнь при дворе он научился понимать власть имущих без слов. Ведь попав в фавор еще при Екатерине II, он удержался в милости и у ее сына Павла, хотя сей император ненавидел всех, бывших в чести у государыни-матушки. И даже когда взошедший на престол Александр I отлучил Ростопчина от двора, расторопный граф быстро нашел предлог, дабы потрафить и новому государю. Словом, Ростопчин был тертый калач и умел действовать быстро. Вот и теперь, прочтя по измученно-усталому лицу фельдмаршала Кутузова, что армия без боя отойдет в глубь страны, Ростопчин отдал собственные распоряжения.
17 сентября, отправив всех крестьян и дворовых в Липецкую губернию, где находилась его семья, граф остался с несколькими доверенными слугами. Дальнейшее описано двумя свидетелями, которые квартировали в усадьбе графа. Лорд Терконель (из ставки Кутузова) написал так: «Я находился вместе с графом, когда он помогал служителям таскать всякие зажигательные вещества в комнаты, и в короткое время весь дом (одно из великолепнейших виденных когда-либо мною) сожжен был до основания. Граф стоял и смотрел, как посторонний зритель, и, казалось, был менее тронут, чем все присутствующие». Однако другой свидетель ужасного и героического действа увидел, сколь тяжело далось оно Ростопчину: «Граф, войдя в комнату супруги своей, казалось, хотел остановиться, но твердость взяла верх – и он собственной своей рукой зажег горючее вещество». Словом, россияне не сдаются – граф-аристократ может стать национальным героем!
Вернувшись в Москву, оставленную наконец-то французами, Ростопчин деятельно принялся за восстановление города. Однако деятельность его выходила непоследовательной и часто бестолковой. Впрочем, трудно представить, каковой она должна была быть, когда город лежал в груде пепла, а вокруг бушевали эпидемии и грабежи. К тому же вернувшиеся домовладельцы требовали от генерал-губернатора Ростопчина возмещения ущерба от погубленного и разворованного имущества. А что он мог им дать?! Ведь он и сам остался нищим после пожара в Воронове. Недаром граф совершенно затравленно писал императору Александру: «…именно меня обвиняют за то, что Москва была оставлена войсками и что я отказываюсь платить им миллионы, которые от меня требуют со всех сторон».
Вскоре оставшиеся без крова москвичи обвинили графа не только в оставлении Москвы войсками, но и в самом московском пожарище. В ход пошла дикая шутка: «На то он и Ростопчин, чтобы Москву ростопить». Вспомнились так называемые «ростопчинские афишки», расклеенные по городу еще до вступления Наполеона, в которых градоначальник призывал москвичей к сопротивлению врагам. Особенный упор делался на фразу: «Лучше увидеть город в огне, чем под властью французов!» Словом, выходило, что в Великом пожаре виновато подстрекательство Ростопчина – ему и платить за все! Тем более что поджигали дома графские приспешники аккуратно – недаром один из его домов уцелел.
Ну а вскоре по Москве поползли и более ужасные слухи. Молва утверждала, что Ростопчин-то – богат! Своего имущества не утерял: хоть Вороново и сгорело, но все его немыслимые богатства – золото, серебро, статуи, книги, картины и прочее – ушлый граф заранее приказал вынести из дома и спрятать в подземельях усадьбы. Вот и следует заставить графа достать свои припрятанные сокровища и раздать тем, кто по его милости все потерял!
Под грузом эдаких мыслимых и немыслимых обвинений пришлось графу Ростопчину подать в сентябре 1814 года в отставку. «Кроме ругательства, клеветы и мерзостей, ничего я в награду не получил от того города, в котором многие обязаны мне жизнью», – с горечью написал граф своему другу.
Здоровье Ростопчина сильно ухудшилось, он уехал на лечение в Европу. В сентябре 1823 года на 60-м году жизни вернулся в Москву, почти не выходя из дома, проболел еще пару лет и умер 18 января 1826 года. Упокоился Ростопчин на Пятницком кладбище, но вот слухи о его спрятанных сокровищах все более и более будоражили горячие головы кладоискателей и историков. Первые мечтали о находке немыслимых сокровищ, вторые хотели понять: кем же был Федор Ростопчин – бескорыстным героем или изворотливым лгуном.
Попасть в подвалы Воронова кладоискатели не сумели – после пожара все вокруг там обрушилось и повыгорело. Однако историческое разбирательство началось сразу же после кончины графа. Перво-наперво историки обратили внимание на странный факт: Ростопчин, всегда отличавшийся щедрым гостеприимством, не позвал в Вороново ни самого Кутузова, ни его друзей, хотя ставка расквартировалась рядом с усадьбой. Граф пригласил к себе только двух англичан, которые совершенно не знали русского языка. Не оттого ли, что не хотел, дабы кто-то посторонний слышал команды, кои он отдает своим верным слугам?
Но было ли слугам куда прятать имущество? Ведь это не сундук с драгоценностями, а сотни, а то и тысячи предметов искусства и роскошной обстановки. Да только мраморных и бронзовых статуй в рост человеческий насчитывалось почти полсотни. Чтобы их спрятать, нужны огромные помещения. Но были ли таковые в Воронове?
Оказалось, да. Нашлись свидетельства современников о том, что под усадьбой существовали не просто подземные ходы, но целый лабиринт. То есть было где спрятать. И граф спрятал. Иначе на что бы он жил в Европе, давая все те же гостеприимные обеды, содержа в роскоши свое семейство? И не потому ли он почти десять лет не возвращался на родину, что опасался раскрытия своей тщательно скрываемой тайны? Ведь узнай общество о его припрятанных сокровищах, разразился бы жуткий скандал. Из героя-патриота он вмиг превратился бы в обманщика-афериста.
ХХ век внес в поиски таинственного ростопчинского клада свою лепту. В 1978–1983 годах на территории усадьбы началось строительство, тогда и обнаружились остатки громадного подземного хода, ширина и высота которого больше 2 метров. Но своды подземелья рушились, и работы приказано было свернуть, а вход засыпать. Однако краеведы не успокоились и пригласили мастера биолокации В. Малеева. Тот сумел составить карту подземных ходов: они шли от дворца к «голландскому домику», от него к пруду и конюшне, выходя в парк. Конечно, биолокация – метод не совсем научный. Но вот в последнее время были проведены радиолокационные замеры георадаром «Грот-1». Ответ оказался однозначен: подземелья Воронова существуют. Вот только проникнуть в них пока нет возможности. Так что вопрос, был ли граф Ростопчин героем или обманщиком, остается тоже пока без ответа.
Впрочем, положа руку на сердце, стоит признаться: пусть уж лучше граф воспользовался некими театральными эффектами (записка французам, поджоги имения и прочее), но сохранил все же свои сокровища. Тогда, возможно, отыскав и вскрыв когда-нибудь потаенный ход в подземелье, мы увидим те сокровища, о которых сами французы говаривали: «Подмосковный Версаль куда роскошней нашего под Парижем!»
Хорошо, если б так. Не хочется терять сокровища-то.