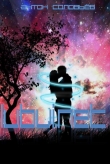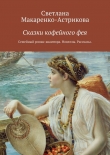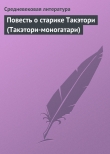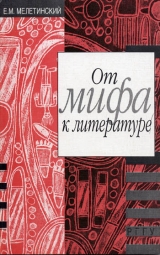
Текст книги "От мифа к литературе"
Автор книги: Елеазар Мелетинский
Жанры:
Мифы. Легенды. Эпос
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
Сложный процесс гармонизации человека внутреннего и социального в личности героя имеет место в романах Кретьена де Труа и в поэме Низами "Хосров и Ширин". Дело в том, что любовь как проявление внутреннего человека не только не должна мешать героическим подвигам, но более того – должна стать главным источником рыцарского вдохновения и мужества. В произведении Руставели это единство существует с самого начала, тогда как у Кретьена де Труа вдохновляющая социальная функция любви устанавливается только после устранения внутреннего сопротивления, вследствие жизненного опыта и внутреннего перевоспитания души. Это «сентиментальное» воспитание должно включать гуманность христианского сострадания (например, в истории Персеваля). В персидской романической поэме герой (принц, а не простой рыцарь) должен оберегать честь своего царства и свой собственный высокий статус, и если он нарушает свой долг, автор его осуждает. В финале герой становится образцовым властителем – Рамин вопреки, а Хосров благодаря своей любви к героине. Корреляция романического и эпического начал является важнейшим моментом в эволюции куртуазного романа – романической поэмы, в развитии классической формы жанра.
Можно указать два этапа в истории французского куртуазного романа и персидской романической поэмы. Первый представлен поэмой "Вис и Рамин" Гургани и романом "Тристан и Изольда" в версиях Беруля, Эйльгарда фон Оберге, Тома и Готфрида Страсбургского. Существует гипотеза П. Галле о влиянии поэмы на роман, но она очень сомнительна; их сходство носит чисто типологический характер. Оба сюжета принадлежат к той стадии, когда за открытием внутреннего человека еще не следует гармонизация эпического и романического начал. Второй этап (классический, когда гармонизация имеет место) хорошо представлен в произведениях Кретьена и Низами, которые используют: первый – куртуазную концепцию, а второй – суфийскую теорию любви.
Сам сюжет "Тристана и Изольды" выражает непосредственным образом тайну индивидуальной любви (метафоризованной волшебным напитком) и трактует ее трагически. Сюжет обнаруживает внутреннего человека в эпическом герое и открывает пропасть между личными чувствами и нормами социального поведения. Любовь описана здесь как роковая страсть, перед которой человек бессилен, как элемент деструктивный, как источник хаоса. В героическом эпосе даже неистовый и бунтующий герой не выходит за пределы личности социальной, не вступает в противоречия с самим собой и с установленным социальным порядком. До того как Тристан выпил волшебное питье, он был образцовым рыцарем, т.е. победителем чудовищ, защитником страны, идеальным вассалом и благородным наследником короля Марка. В собственно романической части повествования Тристан уже пленник своей любви, он совершает подвиги только для спасения Изольды и самого себя или чтобы избежать преследований завистливых придворных. В принципе Тристан и Изольда не покушаются на установленный социальный порядок, они уважают права Марка, но остаются рабами своей страсти. Эпизод неудачной попытки Тристана утешиться в браке с другой Изольдой (Белорукой) выражает идею индивидуальной страсти к незаменимому объекту. Несовместимость, в данном случае, страсти и социальных основ приводит Тристана и Изольду к гибели. Они могут соединиться только в смерти.
Смысл "Вис и Рамин" почти тот же. Сходство выражено несмотря на различие источников, так как источником "Вис и Рамин", скорее всего, были династические хроники. Рамин не совершает героических подвигов, и его превращение в конце поэмы в справедливого властителя и законного супруга Вис плохо согласуется с основной частью повествования. Это последнее почти совпадает с романом о Тристане и Изольде. Тристан находится в любовной связи с женой своего дяди Марка, а Рамин – с женой своего старшего брата Мобада; оба старших родственника являются властителями. Мотиву магического напитка в романе соответствует в "Вис и Рамин" напиток, вызывающий сексуальную импотенцию у Мобада. В обоих произведениях фигурирует служанка, которая подает напиток и однажды заменяет героиню на супружеском ложе. И Мобад, и Марк проявляют время от времени странную терпимость по отношению к молодым любовникам, которые их обманывают с известным цинизмом. Гургани часто упоминает слова "безумие любви" по отношению к Рамину, Вис и Мобаду. Неудачная попытка Рамина найти счастье в браке с Гуль точно соответствует эпизоду брака Тристана с Изольдой Белорукой. Эти сюжеты (речь идет о сюжетах, а не их последующих интерпретациях) находятся на стадии докуртуазной в романе о Тристане и Изольде и досуфийской – у Гургани. Следует обратить внимание на тот факт, что полемика самого Кретьена с сюжетом о Тристане предшествует и частично сопровождает развитие классической романической формы в его творчестве. Эта полемика откровенно проявляется также в "Клижесе", "Эреке и Эниде" и даже в "Ланселоте, или Рыцаре тележки". Почти таким же образом произведение Гургани является отправной точкой (в смысле описания отвергаемой модели) для Низами и Руставели.
У Кретьена и Низами, в рамках описанной выше синтагматической дихотомии (композиции), гармонизация осуществляется во второй части повествования. После того как герой достиг сказочной цели, он испытывает неудачу вследствие несовместимости личных чувств и социальных обязанностей. Эрек предпочитает любовь и забывает рыцарские приключения; Ивейн, наоборот, покидает свою жену ради героических странствий; Ланселот колеблется перед тем, как пренебречь формальным рыцарским кодексом в интересах своей дамы, и таким образом ее обижает; Персеваль покидает возлюбленную ради рыцарских целей, но проявляет недостаток сострадания к больному королю Грааля; Хосров забывает о своем долге шаха и затем, наоборот, свою любовь к Ширин. После новых приключений и как бы морального перевоспитания Эрек и Энида, равно как Ивейн и Лодина, вынуждены примириться. Социальная ценность их рыцарской активности, теперь вдохновленная любовью, подтверждена важными подвигами; Ланселот доказывает Гениевре не только социальную ценность своих подвигов, но также свою экзальтированную преданность ей. Кретьен де Труа не закончил свой роман о Персевале, но, во всяком случае, в немецком варианте Вольфрама фон Эшенбаха Парцифалъ освобождается от эгоизма и от строгой приверженности к чисто формальному рыцарскому этикету – и ради куртуазной любви, и ради христианской любви-сострадания; он объединяется со своей возлюбленной и становится властителем замка Грааль. В романической поэме Низами «Хосров и Ширин» герой преодолевает свой эгоизм и легкомыслие и после брака с Ширин становится идеальным шахом. Во всех этих случаях имеет место эпическое укоренение романического элемента, разрешение конфликта между любовью и долгом рыцаря или шаха.
В поэме Низами "Лейла и Меджнун" кажется, что происходит возвращение к первому этапу: ситуация ухудшается, становится более безнадежной, так как отказ со стороны родителей поженить влюбленных мотивирован только безумным характером их любовной страсти, и это безумие не позволяет герою стать достойным наследником племенного вождя и позорит племя героини. Так как индивидуальная страсть интерпретируется окружающей средой как безумие, любовь, даже без магического напитка и без адюльтера, ведет к несчастью, однако в действительности гармонизация все же осуществляется благодаря сублимации и пантеистическому суфийскому пониманию любви и поэзии. В суфийской концепции безумная любовь героя – это одновременно проявление любви к богу, и божественный дар мыслится как источник поэтического вдохновения (Кейс-Меджнун посвящает свою жизнь воспеванию в стихах Лейлы). Любовный экстаз приближает Кейса к Ивейну и Ланселоту в романах Кретьена, а частично и к героям Руставели, которые сами себя называют "мижнунами" (т.е. безумцами - от персидского меджнун).
Мы уже видели, что существует определенный параллелизм между романом западным и романом восточным. Этот параллелизм выражается достаточно четко в жанровой структуре.
Прежде чем анализировать общую природу средневекового романа, необходимо выявить глубокое единство романов Кретьена де Труа "бретонского" цикла. Здесь можно обнаружить определенную синхроническую систему, различные элементы которой дополняют друг друга и отражаются друг в друге. Бретонские романы Кретьена находятся между собой в отношении дополнительной дистрибуции и составляют единую парадигматическую систему. В рамках их общего смысла ярко выступает идея меры. Во всех этих романах варьируется коллизия любви и рыцарства, уточненная посредством других дополнительных оппозиций: сексуальная, куртуазная любовь – христианская любовь-сострадание (eros versus agape), любовь супружеская – любовь адюльтерная, рыцарство светское формальное – рыцарство истинно христианское. Главная оппозиция любовь – рыцарство проявляется повсюду, и Кретьен всегда прокламирует равновесие, гармонию обоих элементов. Супружеская любовь, в принципе предпочитаемая, прославляется в романах "Эрек и Энида", "Ивейн, или Рыцарь льва", имплицитно также в "Повести о Граале", тогда как любовь адюльтерная воспевается не без скрытой иронии в романе "Ланселот, или Рыцарь тележки". Куртуазная любовь (при совпадении в одном лице возлюбленной и жены) и светское рыцарство демонстрируются в романах об Эреке и Ивейне, а любовь христианская, т.е. любовь-сострадание, в "Повести о Граале". Повсюду в кульминационном пункте, в момент кризиса герой разрывает равновесие "любви" и "рыцарства", затем их равновесие постепенно восстанавливается, и личность героя реинтегрируется в своем единстве. Таким образом, как мы знаем, Эрек нарушает равновесие в пользу любви, а Ивейн – в пользу рыцарства; Ланселот, на первый взгляд, нарушает его ради рыцарства (когда он колеблется перед тем, как сесть в тележку карлика), но в сущности – ради любви (подчиняется даме до такой степени, что имитирует поражение на турнире и т.п.). Персеваль вначале действует в пользу рыцарства, покидая и мать, и Бланшефлёр, а в конце концов (так, как это реализовано в версии Вольфрама фон Эшенбаха) действует в пользу любви, но теперь эта любовь совпадает с христианским состраданием.
Романы об Эреке и об Ивейне находятся в отношении дополнительной дистрибуции, один практически является перевернутым отражением другого. Антиномия-дополнительность существует также в романах о Ланселоте и о Персевале, хотя и менее очевидным образом, так как в действительности "Повесть о Граале" противостоит не только роману "Ланселот, или Рыцарь тележки", но и трем другим романам вместе взятым, поскольку роман о Персевале рекламирует новый идеал истинно христианского рыцарства. Романы Кретьена, находясь в отношении дополнительной дистрибуции, вместе с тем в целом составляют единую систему и объединены единым смыслом. Этот единый смысл отчетливо проявляется в синтагматическом плане в их общей композиции, в указанном выше делении на две части – сказочную и чисто романическую. Но чисто романическую часть тоже следовало бы разделить, в свою очередь, на две части: сначала – кризис, т.е. разрыв между личным и социальным, а затем – гармонизация после серии приключений и испытаний. Соответствующая композиция свойственна не только романам Кретьена де Труа, но и куртуазному роману в целом.
Структура поэмы "Хосров и Ширин" Низами также почти тождественна структуре романов Кретьена. После пролога, повествующего о рождении и юности Хосрова (сравнимо с эпизодами юности Персеваля), начинается первый тур повествования во вкусе сказки или греческого романа (любовь к Ширин и внешние препятствия, разделяющие влюбленных). Интериоризация конфликта происходит во второй части и начинается с моральной инициации героя. Конфликт здесь двойной и напоминает оба кретьеновских варианта. Хосров забывает свой долг шаха и любимую Ширин, забывает свою любовь, как Ивейн или Персеваль, и даже пытается утешиться с другой женщиной, как Тристан и Рамин, – без всякого успеха. Этот двойной конфликт должен быть разрешен, и Низами развертывает мучительный процесс гармонизации отношений Хосрова и Ширин и их счастливого соединения. Процесс сопровождается глубокой трансформацией характера героя таким образом, что концепция высокой любви (концепция не куртуазная, а суфийская) становится идеологической предпосылкой гармонизации. Самоотверженная любовь к Ширин помогает Хосрову стать мудрым и справедливым шахом (так же, как любовь вдохновляет героев Кретьена совершать достойные рыцарские подвиги).
В грузинской поэме (романе в стихах) "Вепхис Ткаосани" ("Витязь в тигровой шкуре") Руставели имеется стилизация на манер персидских поэм, но восточные и западные элементы перемешаны; суфийский и куртуазный идеалы сближены. Благодаря формализации рыцарского кодекса и живым традициям героического эпоса роман Руставели игнорирует ту дихотомию, которую мы обнаружили у Кретьена и Низами. Элементы сказки, романа и героического эпоса объединены между собой. Препятствия, подлежащие преодолению, – только внешние. Любовь рыцаря к даме (невесте) непосредственно вдохновляют его на героические подвиги без всякого разрыва между "внутренним" и "социальным".
Японский роман начала XI в. "Гэндзи моногатари" Мурасаки Сикибу, совсем наоборот, лишен собственно героического элемента; все приключения принца Гэндзи – любовного порядка. Нет речи о рыцарском мужестве, но его личные чувства находятся в конфликте с социальными обязанностями. Как было показано выше, четкая композиционная дихотомия отсутствует в этом романе и переход от элементов сказки к элементам романическим носит постепенный характер. Это отчасти объясняется использованием буддийской циклической модели, противостоящей линейной христианской модели в западном романе; история Гэндзи воспроизводит не только сам процесс формирования героя, но весь цикл его жизни от рождения до расцвета и последующего упадка, цикл, который даже повторяется у ближайших потомков. Если герои Кретьена де Труа и Низами, пройдя сквозь жизненные испытания, преодолевают свои ошибки и становятся спасителями для других, Гэндзи даже после преодоления юношеских заблуждений и грехов должен до смерти наблюдать их фатальные последствия, испытывать карму. Карма определяет композицию романа: инцестуальный адюльтер с женой отца наказывается изменой его собственной жены; так же, как его сын, родившийся в результате адюльтера, числился сыном и прямым наследником отца Гэндзи – императора, так теперь сын любовника жены становится его наследником. Повторения формируют порочный цикл. Циклическая модель ведет к использованию календарных символов, отчасти связанных с естественным календарем, природным и ритуальным (ср. с ролью календарных праздников при дворе короля Артура в «бретонском» цикле европейского романа).
Тем не менее гармонизация все же имеет место в японском романе благодаря буддийской по происхождению эстетической идее возвышенного наслаждения и радости от преходящих мгновений, подлежащих исчезновению, печальному очарованию вещей (моно но аваре). Вот почему «Гэндзи моногатари» принадлежит к классической стадии средневекового романа.
НОВЕЛЛА
Наряду с волшебной существуют еще две разновидности фольклорной сказки: во-первых, анекдот, во-вторых – сказка, которую называют очень неточно реалистической, или романтической (романической), или новеллистической, или бытовой. В действительности она не является ни романтической, ни реалистической – два противоположных термина только выражают идею, что эта сказка не фантастическая. Что касается термина «новеллистическая», то он отмечает сходство с неким более поздним жанром. Однако и анекдот не в меньшей степени близок к новелле, чем так называемая новеллистическая сказка. Позднее оба этих жанра участвуют в формировании жанра новеллы. Взаимодействие этих двух жанров имеет место в лоне фольклора, где они находятся в отношении дополнительной дистрибуции.
Начнем с так называемой реалистической сказки, которая испытала большое влияние со стороны сказки волшебной. В известной мере она сама является трансформацией волшебной сказки. Отметим некий парадоксальный феномен: именно в волшебной сказке дается фрагмент биографии героя, содержащий квазиритуальное испытание, обязательное для формирования героя. Антагонисты, дарители (см.: В. Я. Пропп), а также отец царевны в сказке часто символизируют патрона инициации. Именно отражение реального обряда инициации указывает на меру реалистичности волшебной сказки. В реалистической сказке нет чудес и волшебства, они очень редки и маргинальны и лишены серьезной функции. Вследствие отказа от волшебного элемента разрушается ступенчатая структура сказки, в частности потому, что исчезает оппозиция предварительного и основного испытаний вместе с волшебной помощью, которая там обычно фигурирует. Целый ряд волшебных мотивов трансформируется, или их прямо заменяют мотивы, так сказать, реалистические. Начало волшебной сказки, обозначенное В. Я. Проппом как вредительство – недостача, сохраняется в бытовой сказке, как и финальное испытание на идентификацию.
В определенной группе бытовых сказок остается тема поиска царевны-невесты демократическим героем, который должен пройти через брачные испытания. В этом случае трудные задачи теряют свой фантастический характер, и герой их обычно разрешает без волшебной помощи. Звенья классической композиции волшебной сказки теперь, в бытовой сказке, становятся независимыми отдельными повествованиями, отделяясь друг от друга. Цепь синтагматических функций заменяется альтернативными вариантами. В бытовой сказке, вопреки ее прозаизму и так называемому реализму (который чрезвычайно условен и, в сущности, отсутствует), речь идет об исключительных случаях, которые не являются ступенями в формировании героя. Мотивы, восходящие к инициации, теперь трансформируются в несколько отдельных эпизодов из жизни героя. Таким образом, волшебный элемент в бытовой сказке почти полностью исчезает (по крайней мере в европейской традиции) или трансформируется и становится неузнаваемым. Ведьмы превращаются в злых старушек, демоны и драконы – в обычных разбойников, которые прячутся в лесу. Бытовые сказки о девушках, попавших в руки разбойников, параллельны волшебным сказкам о детях – жертвах лесной колдуньи. Испытания, по происхождению ритуальные, становятся просто трудными приключениями. Испытания в собственном смысле слова, но без фантастических ужасов, сохраняются в сказках о верных женах, соблазняемых и оклеветанных. Чудесная жена (тотемическая по происхождению) теперь превращается в героиню, которая, переодетая мужчиной, спасает своего мужа, преследуемого врагами и злой судьбой.
Решающий момент в превращении волшебной сказки в бытовую – замена чудесной помощи естественным умом героя, умеющим найти выход из всех затруднений; при этом активность героя может принять форму трюков, хитрости и т.д. Надо также отметить, что мудрость героя в бытовой сказке почти всегда совпадает с паремиями – пословицами и загадками или сама построена аналогичным образом. Некоторые сказки можно рассматривать как нарративизованные паремии. Пословицы и поговорки в сущности суждения здравого смысла, но в контексте сказки эти общенародные суждения выдаются за индивидуальную мудрую выдумку героя. Активность чудесных существ волшебной сказки заменяется теперь не только личным умом героя, но и его судьбой. Сказки о судьбе образуют особую важную группу. Доброе или злое пророчество, составляющее ядро подобных сказок, должно неизбежно реализоваться. Превратности судьбы героя могут быть обрамлены или не обрамлены пророческим мотивом. Таким образом, в ходе трансформации волшебной сказки в бытовую волшебное начало заменяется либо умом героя, либо судьбой героя. Испытания становятся превратностями судьбы или моральным экзаменом. Волшебные антагонисты заменяются разбойниками или злыми старухами. Композиционные звенья волшебной сказки превращаются в независимые альтернативные рассказы.
Анекдот, анекдотическая сказка, противостоит сказке бытовой. Между этими двумя категориями находим ряд промежуточных форм. Что касается анекдотов, то среди них можно выделить рассказы о глупцах, хитрецах, злых и ленивых женах, о попах. История о глупцах делится на две подгруппы: о простаках и о тупицах. В первом случае абсурдные действия наивной личности оказываются результатом некоторых недоразумений и недопониманий. Во втором – подчеркивается природа тупицы, способного нарушить самые элементарные логические законы. Имеется небольшое число сказок о случайном счастье дураков. Их можно противопоставить бытовым сказкам о судьбе. Иногда выделяют сказки о глупых женах и глупых супружеских парах. Некоторые сюжеты о дураках имеют характер пародий на мифологические мотивы, но главным остается нарушение элементарной логики действий дураков, их абсурдное поведение. Глупец принимает один предмет за другой, он воспринимает предметы по некоторым случайным чертам и без этих деталей не узнает их, он понимает все буквально и реагирует смешным образом, для достижения цели он использует абсурдные средства, нарушает чувство меры и т.д. Вследствие такого поведения он наносит вред самому себе. Не надо забывать, что глупцы часто становятся жертвами различных плутов. Соотношение обманщика и обманутого определяет главную тему в большинстве анекдотов. Анекдотические сказки о ловких ворах, в отличие от бытовых сказок о разбойниках, трактуют этих воров положительным образом, даже с восхищением. Сказки этого типа восходят к мифологическим анекдотам о трикстерах.
Хитрецы-обманщики фигурируют часто в сказках о договоре между хозяином и работником, между человеком и чертом. Иногда плут сам терпит неудачу; очень часто плут приобретает черты шута, который забавляется за счет наивных людей. Шут является медиатором между плутом и глупцом, представляющими два полюса в анекдотической сказке. Большое число анекдотов посвящено обманам в супружеской жизни. Жена часто представлена как неверная, злая, ленивая, глупая, упрямая. Иногда сказка принимает сторону жены-обманщицы и ее любовника, если только тот не священник. В то же время контрплутовство обманутого мужа может быть описано также сочувственно и с восхищением.
Мы уже отметили, что сказки бытовая и анекдотическая находятся в отношении дополнительной дистрибуции. Анекдот строится на оппозиции хитреца и глупца. Герой анекдота всегда хитер, в то время как герой бытовой сказки всегда умен. Если этот последний проявляет хитрость, то это только манифестация его мудрости; наивность царевны и ее отца, царя, побежденного мудростью героя, не квалифицируется как глупость. В анекдотической сказке, наоборот, маркированы хитрость героя и глупость его жертв.
Объективно хитрость-мудрость в бытовой сказке противостоит хитрости-плутовству анекдота; можно сказать, что сказка об умном противостоит анекдоту о глупом. Анекдоты о неверных и злых женах находятся в отношении дополнительной дистрибуции (антиномия и симметрия) с бытовыми сказками о верных и добродетельных женах. Анекдоты о неожиданном успехе дурака дополнительны по отношению к бытовым сказкам о судьбе. Таким же образом анекдоты о ловких ворах дополнительны по отношению к сказкам о злых разбойниках. Бытовая сказка и анекдот как бы составляют две подсистемы. Это равновесие и эта дополнительность специфичны для фольклорной сказки. В книжной сказке они делаются более смутными. Классическая книжная новелла унаследовала обе эти традиции, бытовую и анекдотическую, как целое, как единую традицию.
Новелла доклассическая или, точнее, средневековая развивает фольклорное наследство, используя одновременно легенды, фрагменты святого писания, исторические анекдоты, восточные апологии, античные басни и т.п. На Западе средневековая предновелла представлена многочисленными exempla (примеры), фаблио и шванками, которые близки к народной традиции. На Востоке, например в Китае, средневековая новелла восходит к местным легендам о контактах человека с духами, и китайская новелла сохраняет волшебные мотивы. Предновеллы в Индии, Персии, арабских странах занимают промежуточную позицию между тем, что на Западе и на Востоке. В Китае новеллизация выражается в следующих трансформациях: коллизия страха превращается в трагедию судьбы, сюжеты о похищении жен – в истории о супругах, разделенных войной, сюжет чудесной жены развивается из настоящих любовных мотивов. Вместе с тем злые духи (например, лиса) приобретают двойственность: они способны стать чудесными помощниками героя; так, лиса может стать любовницей бедного студента и помогать ему в суровых обстоятельствах. Позднее лисы, демоны, богини, женщины, давно умершие, но вернувшиеся теперь к жизни, – все эти квазимифологические персонажи могут быть заменены куртизанками, наложницами императора и другими реальными персонажами. Но даже в этих "бытовых" вариантах не исчезает таинственная атмосфера.
Китайская новелла, выросшая из мифологических легенд, содержит следующие части: экспозиция, отмечающая, что герой маргинален и обездолен, затем – встреча героя с чудесным существом в покинутом, таинственном месте и наконец результат этой встречи. Чудесным существом может оказаться колдунья или колдун, результатом может быть посещение иного мира, покровительство или подарок чудесной богини (либо женщины-лисы), любовь. Герой обычно получает "дар" в момент расставания. Вспомним, что в западной сказке он его получает вначале, а в момент расставания теряет из-за нарушения табу. Китайская терминология подчеркивает в этом жанре элемент удивительности, а не новизны. После средневековых чуанци, связанных с удивительным, появляются хуабени, восходящие к городскому фольклору и содержащие плутовские и детективные мотивы обыденной жизни; тайны раскрываются, преступления наказываются, плутовству противопоставляется контрплутовство, добродетель в конце концов торжествует. Анекдотический элемент обычно выражен слабо, но в новеллах знаменитого Пу Сунлина элемент юмористический и карнавальный играет большую роль. Пу Сунлин противопоставляет в иронической манере реальность и фантастику. Фантастический мир у него частично повторяет мир реальный, подчас вскрывая глубинную сущность последнего, частично противостоит реальности, выполняя компенсаторную функцию.
В восточной новелле (наиболее четко в китайской), в отличие от западной, герой пассивен и чудесные существа часто действуют вместо него. Сравнение с Западом доказывает, что специфическая черта новеллы – небывалое событие, а не переход от чуда к обыденности. Это небывалое событие в некоторой мере должно претендовать на достоверность и затрагивать реальную жизнь. Вот почему китайская новелла ближе к легенде, претендующей на достоверность, чем к сказке, допускающей вымысел.
Формирование книжной новеллы на Западе осуществляется двумя путями: во-первых, непосредственно из фольклора и, во-вторых, с помощью жанра "примеров" (exempla), иллюстрирующих проповеди и богословские книги. Источники "примеров", фольклорные и книжные, очень разнообразны. "Примеры" концентрируют свое внимание на странных и удивительных проявлениях добродетели. Фольклорные источники поставляют анекдоты о злых и неверных женах и о других персонажах, слабо связанных с задачами проповеди. "Gеsta romanorum" ("Деяние римлян") в большей мере, чем "Sermones vulgares" ("Обыденные проповеди") Жака де Витри, отделяют "примеры" от проповеди, усиливая чисто этический (а не религиозный) пафос, приближаясь к народной традиции. Надо трактовать "примеры" как средневековые предновеллы, так как отправной точкой для них являются религиозные и абстрактно-этические принципы, ситуации, из которых герой ищет выход. "Граф Луканор" Хуана Манюэля и даже "Новеллино" XIII в. продолжают в известной мере традицию "примеров".
Французские фаблио и немецкие шванки связаны теснейшим образом с народной традицией. Они сравнимы с китайскими хуабень. Фаблио и шванки противостоят куртуазным жанрам и в то же время составляют вместе с ними единую систему. Конечная мораль, унаследованная фаблио из традиции "примеров", кажется неким привеском, так как главный текст очень далек от дидактизма и полон мотивов низких, эротических, комических, плутовских. Как повествовательный жанр, фаблио и шванки манифестируют прежде всего элемент комический (карнавальный), экстравагантный, необычайный. В этих жанрах нет характеров, доминируют социальные маски.
Первая попытка возвыситься над границами средневековой предновеллы – это сборник Чосера "Кентерберийские рассказы", где создается синтез легенды, басни, фаблио и рыцарского повествования, без оппозиции высоких и низких жанров и с использованием риторических приемов. Самое интересное у Чосера – описание социальных типов, прежде всего рассказчиков; однако эта социальная типология отличает Чосера не только от средневековой предновеллы, но еще больше от классической новеллы Ренессанса.
Каким же образом в западной литературе средневековая предновелла превращается в новеллу? Нельзя сказать, что классическая новелла создана ренессансным гуманизмом. Гуманизм и индивидуализм Ренессанса были только катализаторами процесса создания классической формы новеллы. Но относительная эмансипация личности, сама возможность проявления индивидуальной инициативы стали достаточно важной предпосылкой этого процесса.
Что же происходило в ходе превращения средневековой предновеллы в классическую новеллу? Классическая новелла Ренессанса синтезировала высокие и низкие повествовательные жанры, элементы комические с элементами трагическими, сказку и анекдот. Она использовала стилистические риторические средства, чтобы поднять иерархический уровень малого повествовательного жанра. В процессе этого синтеза фаблио облагораживаются, в рыцарских сюжетах куртуазный элемент ослабляется, а элемент собственно чувственный увеличивается; новелла иногда пародирует клерикальную легенду, она освобождается от утилитарного дидактизма «примеров». Вместо типичного «примера» новелла становится индивидуальным событием, новым - отсюда новелла. Она освобождается от обязательного фатализма. Открывается путь для индивидуального выбора, инициативы, личной активности. Вербальное поведение персонажа, в отличие от сказки, отделяется от универсальных паремий; речь становится более индивидуальной. Полюса глупости и хитрости сближаются, шутовской элемент увеличивается. Новелла не сводится к ситуации, выходит за ее пределы. Поведение героя не сводится к разрешению ситуации. Герой теперь обладает некоторыми специфически личными чертами, которые реализуются в его поведении. Это феномен интериоризации действия героя и самого конфликта, который может стать драматическим. Классическая новелла восходит прежде всего к анекдоту, но она поднимается над его известной узостью, ее внутреннее пространство расширяется, вводятся дополнительные мотивы и т.п. Отдельная новелла не может охватить модель всего мира. Модель мира оформляется в цикле или в сборнике новелл, часто известным образом обрамленном. При этом обрамление может и контрастировать с главным действием новеллы.