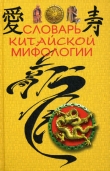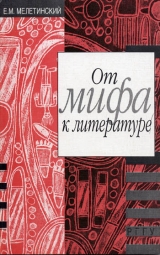
Текст книги "От мифа к литературе"
Автор книги: Елеазар Мелетинский
Жанры:
Мифы. Легенды. Эпос
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
ОТ АРХАИЧЕСКОГО ЭПОСА К КЛАССИЧЕСКОМУ
Архаические эпические формы трансформировались в формы классические эволюционным путем, посредством постепенных изменений. В ходе этой эволюции прежде всего менялся эпический фон. Он терял мифические черты и приобретал черты исторические, скорее – квазиисторические, поскольку речь шла не столько о реальном отражении реальных событий, сколько о языке описаний. Как уже указывалось, политическая консолидация, формирование государственных образований были необходимым условием для появления классического эпоса и его языка описаний в терминах исторических, этнических, географических. Идеализированная эпоха первых государственных образований оттеснила и заменила образ первых времен, времен творения. Эпическое время становится временем историческим, славным национальным прошлым, моделью подражания для потомков. Идеализация усиливается в обстановке упадка ранних политических центров, в обстановке войн и миграций племен. Теперь вечная эпическая война против чудовищ заменяется войной против враждебной этнической и иноверческой среды. При этом племя героя быстрее теряет свой мифологический характер, чем враждебное племя. Враги иногда сохраняют образы чудовищ, тогда как герой и его окружение обычно носят имена исторические, по крайней мере легендарные, имена королей и военных вождей славного национального прошлого. Историзация эпического фона ведет к немедленному использованию старых исторических преданий, включая генеалогические, что также не мешает использовать несколько трансформированные мифологические модели. Только позднее в легендах, песнях и балладах реальная эмпирическая связь исторических событий, даже несколько деформированная, может действительно определять композицию сюжета. Как правило, научная школа, так называемая историческая, при этом несомненно преувеличивала роль реальных исторических фактов для создания эпоса.
На классической стадии развития эпоса шаманистские черты окончательно исчезают и полностью формируется героическая воинская эстетика. Бунтарский героический характер приводит теперь к конфликту не с богами, а с властью, королем, вождем. Рядом с историческими преданиями классический эпос в какой-то мере использует опыт панегирической поэзии. Но не надо преувеличивать (как это делают, например, Чедвики и Баура) влияние героических прославлений. Уже аккадская поэма о Гильгамеше находится на пороге классической эпопеи, так как сам Гильгамеш принадлежит исторической легенде. Гильгамеш фигурирует в списке царей Урука. Существует, например, историческая легенда о конфликте Гильгамеша с правителем города Киш по имени Ага, но эта шумерская легенда не вошла в аккадскую эпопею. В этой эпопее мифическое время творения отождествлено или, вернее, смешано со славным историческим временем расцвета города-государства Урука. В гомеровской "Одиссее" содержится множество мотивов мифических и сказочных. Главный герой наделен некоторыми архаическими чертами, даже чертами трикстера, но эти архаические мотивы вставлены в рамку Троянской войны. В "Илиаде" исторические легенды о Троянской войне, в отличие от "Одиссеи", являются главными источниками сюжета. Мотив похищения Елены сам по себе достаточно архаичен, но этот эпизод, хотя он всегда подразумевается, исключен из текста "Илиады". Ахилл обладает чисто героическим характером, он предпочитает долгой жизни короткую, но славную, его знаменитый "гнев" – центр эпической композиции. Героическое неистовство втягивает его в конфликт с главнокомандующим Агамемноном, но этот конфликт разрешается гармоническим образом, так как смерть друга заставляет Ахилла спонтанно вернуться в греческий боевой лагерь и возобновить участие в битве с троянцами. Можно предположить, что ядро "Одиссеи" принадлежит царству мифа и сказки и что "Одиссея" развилась эволюционным образом из архаической эпопеи и только позднее была вставлена в раму исторической легенды, в то время как "Илиада" могла прямо развиться из исторической легенды.
Может быть, то же различие существует между "Рамаяной" и "Махабхаратой" в Индии. В "Рамаяне" определяющие мотивы – архаические, прежде всего миссия Рамы очистить землю и уничтожить демонов (ракшасов). Индолог Рубен придерживается мнения, что образ Рамы является наследником образа культурного героя Барнда в дравидских мифах; дравидский демон – коршун, но имя Равана (противник Рамы) в дравидских языках означает «черный». Некоторые ученые (X Якоби, А. Макконнел, П. А. Гринцер) трактуют сюжет борьбы Рамы против Раваны как отражение борьбы Индры и Вритры в индийской мифологии: в ведийской литературе Сита (в эпосе – жена Рамы) упоминается как жена Индры и почитается в качестве «возделанной борозды»; имя Рамы означает «держатель плуга». Перед нами развертывается аграрный миф. Ситу похищают так же, как греческую Елену которая, может быть, первоначально тоже была аграрной богиней. История похищения Елены не включена в «Илиаду», а в «Рамаяне» она фигурирует. Позднее Рама стал трактоваться как аватара (перевоплощение) бога Вишну, который первоначально также был культурным героем.
Обрамляющий сюжет "Рамаяны" – династическая ссора царской семьи, вследствие чего Рама лишен трона и изгнан в лес. Его "лесные" приключения принадлежат сказке – это и преследование доброго сына злой мачехой, и брачные испытания. Тем не менее в конце концов сюжет эпопеи отнесен к исторической Айодхье, столице царства Кошала, и Рама предстает как царь Кощалы. Позднее мифическое царство демонического Раваны локализовано в географической и исторической Ланке (Цейлон).
В отличие от "Рамаяны" "Махабхарата" имеет историческое ядро. Куру и панчала были реальными племенами.
Расцвет столицы куру Хассинапуры – это XI-IX вв. до н. э. М. К Смит предполагает, что в первой редакции эпопеи изображались борьба кланов пандава и каурава и их битва на поле Куру. Может быть, масштаб этой битвы преувеличен в эпосе, как и масштаб Троянской войны. Архаические мотивы в "Махабхарате" оттеснены на второй план: поиски невесты пандавами, похищение Драупади и месть за ее похищение, связь Бхимы с женщиной-ракшасом и его борьба против ракшасов и т.д. Бог с чертами культурного героя Кришна здесь играет важную роль мудрого советника. Главные персонажи представляют различные варианты героического характера. Большинство из них – неистовые воины, и только Юдхиштхира более мудрый и спокойный. Можно сказать, что этот персонаж соответствует индийскому национальному идеалу. Надо учитывать, что в древнем эпосе, греческом или индийском, фигурирует и пантеон высших богов, отражающий актуальную религию эпохи. Боги остаются фигурами фона. Они никогда не действуют в качестве героев.
В ирландском эпосе (прозаическом со стихотворными вставками) историзация имеет искусственный характер. Мифы и мифологические сказки о предках-культурных героях трансформированы в эвгемеризованные легенды, а заселение Ирландии превратилось в легенды о заселении несколькими этническими волнами. Среди этих волн мы встречаем мифическое племя богини Дану. Это – обожествленные предки Дагда, Нуаду, Огмэ, Луг, которые являются настоящими культурными героями и царями-жрецами и которые борются против демонической расы фоморов. Наиболее древний чисто эпический цикл – уладский, который повествует о вечной войне между Уладом, где царствует король Конхобар, и враждебным Коннахтом, возглавляемым Айлилем и его женой – ведьмой Медб. Эта последняя нам напоминает мать хтонических чудовищ в архаическом эпосе. Главный герой Кухулин, трактуемый как историческая личность, является инкарнацией (перевоплощением) бога Луга или плодом инцестуальной связи Конхобара с сестрой; оба мотива мифологичны и характерны для архаического эпоса. Имя Кухулина означает "пес Куланна" и указывает на тотемический реликт. Эпический цикл Кухулина представляет героическую биографию, охватывающую такие типические архаические мотивы, как чудесное рождение, три варианта инициации, поиски суженой невесты и трагическая смерть из-за его героического и благородного характера, обладая которым герой не может избежать нарушений табу. Самое главное произведение этого цикла "Похищение быка из Куальнге" описывает войну, цель которой – добывание священного быка. Во время битвы употребляют магическое оружие. Таким образом, можно предположить, что ирландский эпос есть поздний плод историзации мифологических и героических сказок.
В германской эпической поэзии, более разнообразной, представлены многочисленные стадии. Нужно упомянуть эпический цикл мифологических поэм о скандинавских богах, героические песни-сказки, интерпретированные с помощью исторических легенд о Беовульфе, Хельги, Сигурде, Вёлунде, эпические песни исторического происхождения о Хильдебранде, Вальдере, скандинавские варианты на сюжеты цикла Нибелунгов (где события эпохи великого переселения народов трактуются как племенные ссоры), англосаксонские героические элегии (например, о Видсиде или Деоре), более развитые обширные эпопеи, уже затронутые куртуазным стилем ("Песнь о Нибелунгах" и "Гудруна"), затем – прозаические героические и исторические повествования (исландские саги), а также исторические баллады.
Изучая формирование классического героического эпоса, можно противопоставить героические сюжеты мифологического происхождения, позднее историзованные, и героические сюжеты, непосредственно вышедшие из исторического предания. Англосаксонский "Беовульф", очевидно, принадлежит к первой категории. Главная тема этого эпоса – борьба Беовульфа против чудовищ Гренделя и его матери (вспомним матерей-чудовищ в сибирской эпике) и против дракона, мешавшего мирной жизни людей. Это сюжет мифологического и скандинавского происхождения. Беовульф в эпосе – король геатов (гаутов), но в действительности гаутского короля по имени Беовульф не существовало. Это вторичная историзация. Беовульф – культурный герой богатырской формации, защищающий землю от хтонических демонов. Его миссия имеет также дополнительный христианский оттенок. Но подвиги Беовульфа и он сам введены в рамки исторических легенд о королевском датском клане Скьёльдунгов (Скилдингов), о событиях в странах геатов, шведов, фризов и других германских племен.
Скандинавский сюжет о Хельги напоминает поэму о Беовульфе своим происхождением и поздней историзацией. О. Хёфлер предполагал, что Хельги, как и Бальдр, – ритуальная жертва одинической религии, связанной с тайными воинскими мужскими союзами. Нельзя исключить эту гипотезу, но героическая биография Хельги явно восходит к архаической героической сказке. Мы здесь находим множество инициационных мотивов. Хельги созревает по одним вариантам – преждевременно, а по другим – с опозданием; валькирия дает ему имя и становится его ангелом-хранителем, а заодно и любовницей (ср. с любовью Кухулина к сиде, т.е. к фее). В другом варианте героическое детство Хельги и его инициация сводятся к первому подвигу – кровавой мести за смерть отца. В то же время Хельги якобы принадлежит к датской царской фамилии: он сын Хальфдана и отец Хрольва. т. с. знаменитого Хрольва Кракн, легендарного короля в Лепре.
Сигурд (континентальный Зигфрид) также является персонажем героической сказки, позднее историзованной. Маловероятны гипотезы по поводу его исторических прототипов (принц Сигерик, король Сигиберт, Арминий – победитель Вара). События его юности и его смерть полностью принадлежат героической сказке: обучение сироты у кузнеца, месть за отца, любовь к валькирии, героические поиски невест для себя и своего друга Гуннара (Гунтера), смерть вследствие измены. Но эта героическая биография введена в раму действительных исторических легенд о разрушении бургундского королевства, о битве на Каталаундских полях, о смерти Аттилы и т.д. Эпоха великих миграций – это героическое время германского эпоса, но великие исторические события интерпретируются и представляются как межплеменные, внутриродовые и межсемейные ссоры. Отдельные исторические события объединяются в едином цикле о Нибелунгах. Героические характеры, героическое неистовство, невиданную смелость мы находим всюду. Трагическая судьба героев зависит от этих несгибаемых, гордых и неистовых характеров. Хамдир и Сёрли отправляются на смерть в лагерь Ёрмунрекка (Эрманариха) не только ради мести, но и потому, что не хотят отказаться от подвига, на который их толкает мать. Так же и Гуннар (Гунтер): он не смеет отказаться от приглашения и гордо отправляется в лагерь Аттилы (Атли, Этцель) на явную гибель. Он просит врагов вырезать сердце у брата, а сам умирает бесстрашно в яме со змеями. Без всякого страха всходит на погребальный костер гордая Брюнхильда.
Переходим к эпосу романских народов. Он полностью христианизован и лишен следов языческой мифологии. В нем можно обнаружить некоторые мотивы героической сказки, но эти мотивы – на втором плане и вторичны по происхождению. Романские эпосы развиваются непосредственно на почве исторической легенды и претендуют на историческую достоверность. Естественно, речь идет об использовании устных исторических легенд. Достоверное изложение исторических событий исключено. Известно, например, что битва в Ронсевальском ущелье, изображенная в "Песни о Роланде", имела место 15 августа 778 г. в течение ночи, что это было второстепенное сражение между французским арьергардом и басками; участие арабов сомнительно (хотя Менендес Пидаль настаивает на таком участии). Между тем в "Песни о Роланде" это сражение – буквально кульминационный пункт в большой войне между двумя мирами: христианским и мусульманским.
В эпосах греческом, индийском, германском существует известный объективизм, так как враги принадлежат к древним племенам, которые уже покинули историческую арену и являются общими предками народов, создавших эпос. В романских героико-эпических произведениях – французских и испанских – политический и конфессиональный патриотизм выражен категорическим и страстным образом. Это повторение на высшей стадии первобытной оппозиции своих-чужих, но враги уже не наделены чертами фантастических чудовищ.
Историческая эпоха Карла Великого в "Песни о Роланде" и в других так называемых песнях о подвигах представляет собой героическое время. Патриотизм "Песни о Роланде" предполагает сосуществование верности королю и верности "сладкой Франции". Таков патриотизм Роланда в отличие от Ганелона – верного вассала Карла, но изменника по отношению к родине. В то же время сама личность короля оказывается гарантом национального единства. Вот почему Гильом Оранжский во французской эпопее или Сид в испанской сохраняют верность слабому и несправедливому королю: Гильом – Людовику, Сид – Альфонсу VI. Отметим при этом, что вассальная верность не мешает иметь героический характер, гордый, неистовый, не знающий меры, переоценивающий собственные силы. Благодаря гордыне и нарушению чувства меры Роланд отказывается трубить в рог, что влечет гибель всего отряда. Тем не менее эта "песнь о подвигах" прославляет смелого Роланда как истинного героя, а его разумного друга Оливьера ("Роланд смел, а Оливьер разумен") трактует как резонера. Как это не похоже на идеализацию старого мудреца Вяйнямейнена в архаическом финском эпосе!
Борьба против мусульманского мира определяет историческую раму эпоса не только в романских эпопеях, но и в греко-византийском эпосе "Дигенис Акрит", и в армянском "Давид Сасунский". В сущности Дигенис остается персонажем героической сказки: он проявляет с детства необыкновенную силу, убивает львов, побеждает дракона, похищает красавицу, обуздывает амазонку и т.п. Армянская эпопея также полна сказочно-мифологическими эпизодами (о предках-близнецах Санасаре и Багдасаре, о победе над драконом неистового Мхера, о бунте против богов и т.д.). Однако сопротивление мусульманам в Сасуне становится главным эпическим событием. Армянское государство багратидов (XI в.) трактовано как историческая утопия. И песни о самом Давиде Сасунском, несомненно, непосредственно порождены историческим преданием. Его основной подвиг – это победа в войне против Мсра-Мелика. Образ Давида Сасунского некоторым образом оттесняет более архаических героев.
В иранском эпосе, который лучше всего нам известен по отражению в "Шахтаме" Фирдоуси, мы также находим многочисленные сказочные мотивы (в частности – о победителях драконов Каюмарсе, Джамшиде, Керсаспе, Хушанге, Рустеме), но они вставлены в легендарную историю Ирана. Приключения Рустема введены в раму войны между Ираном и Тураном.
Славянские эпические песни принадлежат к классической стадии развития эпоса, хотя большинство из них весьма короткие. В значительной части этих песен (былины в России, юнацкие песни в Югославии) мифологический элемент глубоко запрятан. Исключение составляют образы Святогора и Волха Всеславича в русском фольклоре и Змея Огненного Вука – в сербском. Р. Якобсон считал, что русский Волх и сербский Вук восходят к одному прототипу, связанному с культом волка. В. М. Жирмунский рассматривал эти героические песни как трансформации независимых аналогичных мотивов героической сказки. Во всяком случае, оба этих образа испытали также трансформацию квазиисторическую: Волх был отождествлен с князем Всеславом Полоцким (в его краю язычество сохранялось очень долго) или с былинным Вольгой, т.е. Вещим Олегом, который, в свою очередь, сопоставим со скандинавским Хельги. Вук ассоциируется с Вуком Бранковичем, эпическим изменником в песнях об исторической битве на Косовском поле. Существует, может быть, несколько сомнительная гипотеза, что Илья Муромец восходит к богу-громовнику. Мы знаем, что образ врага часто сохранял мифологические черты чудовища. Действительно, многократно в славянском эпосе изображалась борьба героя против Змея, против Тугарина Змеевича, против Идолища Поганого, у южных славян – против Арапина. Иногда эта тема коррелирует с мотивом поиска невесты. Тугарин – сын Змея, вместе с тем его имя восходит к хану Тугоркану и символизирует татарское нашествие. Имя Добрыни, которое первоначально, возможно, просто обозначало имя доброго молодца (мнение Г. Левинтона), отождествлялось с Добрыней, дядей князя Владимира; исторический Добрыня участвовал в крещении Руси. Значительно позднее в одной из песен о Добрыне появляется Маринка, в основе – историческая Марина Мнишек, жена Дмитрия Самозванца. В былине Маринка – фигура демоническая, связанная со Змеем.
Славянский эпос обрамлен картиной патриотической борьбы против татар (в России) или турок (на Балканах). Героическое время в русской былине отождествляется с Киевским государством Владимира Святославича (Красное Солнышко), крестившего Русь. В сербских юнацких песнях главный герой Марко Кралевич – фигура историческая, но типичный богатырь. Сербский эпический король Лазарь является только жертвой, трагической фигурой в косовской битве, где сербы потерпели поражение от турок Младшие циклы славянской героической поэзии выходят за пределы эпической классики и приближаются к историческим балладам.
Тюрко-монгольские народы обладают не только архаическим эпосом (в Сибири), но и классическим – в Центральной Азии. Ламаизм объединил монгольскую культуру с Тибетом. Знаменитая монгольская эпопея о Гэсэре имеет тибетское происхождение. Многочисленные попытки возвести ее к историческим прототипам (Чингизхан, Госыло – тибетский князь X в., римский Цезарь) и сам сюжет к историческим событиям (распад ассирийского ига в Мидии VII в.) не кажутся убедительными. В образе Гэсэра мы видим тип культурного героя богатырской формации и даже наследника мифологического плута одновременно с чертами шамана и колдуна. Гэсэр возродился в земном мире, чтобы бороться против демонов четырех стран света. Он напоминает Раму, сражающегося с ракшасами, и Кришну – последнего, главным образом, ссорой со своим злым дядей. Не исключено влияние индийского эпоса. Подвиги и плутовские проделки в детстве, борьба с дядей, история поисков трех невест, борьба за главную жену Рогмо (Бругмо) – это все мотивы героической сказки. "Гэсэриада" дает хороший пример историзации мифических и сказочных сюжетов, а также мифической географии.
В калмыцкой "Джангариаде" исторические легенды о войнах калмыков с бродячими тюркскими племенами, а частично и монголами в так называемую эпоху Четырех ойратов (XV-XVII) смешаны с известным количеством эпизодов сказочно-мифологических. Противники представлены в образах фантастических монгусов. Бумба, страна Джангара, – это мифическое ламаистское царство. Как мы знаем, имя Джангар означает "одинокий".
Грандиозная киргизская эпопея о Манасе принадлежит к тому же типу. Детство и юность Манаса описаны по модели исторической сказки: он родился после горячей молитвы родителей и после того, как его мать проглотила сердце тигра. Очень рано он обнаруживает необыкновенную силу и героический характер; чтобы обрести прекрасную Канукей, он должен победить ее в поединке. Чудовища фигурируют на заднем плане, и борьба против этих мифических существ – специальная функция Алмамбета, друга и помощника Манаса. Но главные противники Манаса – калмыки и китайцы, т.е. народы исторические. В древнейшей редакции этого сюжета, известного по персидскому источнику XVI в., приключения Манаса включены в так называемый ногайский цикл. Манас там является военачальником у Тохтамыша. Его главный противник – Джалой, возможно, эпоним страны Джало, племени кытаев. Позднее приключения Манаса были вставлены в раму борьбы против Китая, но в действительности они отражают борьбу с калмыками, которые были вассалами Китая. Попытки М. Ауэзова и А Н. Бернштама возвести эпопею о Манасе к войнам с уйгурами в IX в. малоубедительны.
Я не хочу останавливаться на узбекской эпопее об Алпамыше, детально изученной Жирмунским в специальной монографии; он показывает, что эта эпопея восходит к типичной героической сказке, а ее историзация – искусственна.
В ногайском цикле об Идиге и его наследниках, как отметил тот же Жирмунский, наоборот, основу составляет историческая легенда, а сказочно-мифологические биографические эпизоды находятся на заднем плане.
Древнейший эпический памятник тюрков-огузов (это общие предки османских турок, азербайджанцев и туркмен) – "Книга моего деда Коркуда" (книжная версия – XV в.). Эпическое время в ней относится к XIV-XV вв., когда объединение туркменских племен Белого барана во главе с племенем байюндур было господствующей силой в этой части Азии. В эпопее Баюндур-хан играет роль эпического вождя огузов. Историческая рама эпопеи – борьба тюрков-огузов против трапезундских греков, грузин и абхазцев, которые все фигурируют в эпосе как гяуры (язычники). Но еще раньше Баюндур-хан и его зять Салор-Казан были главными героями исторических легенд о войнах между огузами и печенегами (IX в.). Естественно, мы находим в этой исторической эпопее некоторые мотивы героической сказки (поиски невесты, тема «муж на свадьбе своей жены», как в узбекском «Алпамыше»). Архаический образ типа Вяйнямейнена – старый мудрый патриарх с шаманскими чертами Коркуд сведен здесь к роли ханского советника.
Огузская эпопея о Кёр-оглы (распространенная в Центральной Азии и на Кавказе) соотносится с исторической легендой более тесно. Ядро – восстание джелалиев южного Азербайджана в конце XVI в. Герой этой легенды Кёр-оглы приобретает черты эпического короля утопического царства Ченли-бель и в то же время черты благородного разбойника вроде Робин Гуда.
Наш обзор продемонстрировал различные варианты формирования классической эпопеи. Историзация, т.е. инкорпорирование в историческую легенду героя мифа или сказки, – это один полюс (примеры: Одиссей, Рама, Гэсэр, Беовульф, Зигфрид, Хельги, Дигенис Акрит, Алпамыш, Волх, Змей Огненный Вук, Санасар и Багдасар, Мхер старший и Мхер младший и др.). Добавление архаических мотивов сказки и мифа к исторической легенде представляет противоположный полюс (пандавы и кауравы, Хрольв Краки, Аттила, Дитрих Бернский, Гунтер, Роланд, Сид, Марко Кралевич, Идите и его сыновья, Кёр-оглы, африканский Сундьята, может быть, и Добрыня и др.). Иногда главный герой непосредственно тесно связан с исторической легендой, но не имеет точного исторического прототипа. Это характерно для многих великих героев, таких как Ахилл, Илья Муромец, Манас, Джангар, может быть – Давид Сасунский. У этих персонажей материя мифологическая и материя историческая уравновешены в высшем синтезе.
В процессе формирования исторического эпоса надо учитывать и некоторые другие аспекты, которые выше не затрагивались. Я имею в виду, например, переход от коротких песен к обширной эпопее, от устной эпической традиции к книжной эпической поэзии. В принципе короткие песни чаще можно встретить в архаической эпической поэзии, но далеко не всегда; например, якутские олонхо представлены в виде обширных поэм, с другой стороны – классическая эпическая славянская поэзия сохраняет форму коротких песен.
Таким же образом большие классические эпопеи могут оставаться устными (эпосы о Манасе, Джангаре, Алпамыше, Гэсэре), а эпическая архаическая поэзия может быть уже зафиксирована в письменной форме (например, поэма о Гильгамеше, мифологические песни "Эдды"). Для эпической поэзии фактор циклизации очень важен; циклизация подготовляет трансформацию коротких песен в большие эпопеи.
Романтические теоретики (Вольф, Лахманн, К. Мюлленгоф, Г. Парис, Л. Готье) трактовали большие эпопеи как механическую композицию коротких песен. А. Хойслер настаивал на том, что в процессе формирования эпопеи короткие песни раздуваются и трансформируются количественным образом. Он рассматривал формирование эпоса как чисто книжное и только в стихотворной форме. При этом он недооценивал возможности устного фольклорного развития, а также роль прозаической легенды. Между тем у многих народов эпос развивался исключительно в устной форме (эпопеи якутская, киргизская, узбекская и т.д.), у других народов – в прозаической форме (эпосы ирландский, северокавказский и др.).
Американские ученые М. Парри и А Лорд доказали, что истоком формульного эпического стиля является устная техника в народной традиции. Они сравнивали греческую эпопею с устными эпическими песнями сербов. Позднее фольклорные корни были выявлены во французском эпосе (Ришнер, Никольс), испанском (Бита), англосаксонском (Магаун, Крит), скандинавском (Мелетинский, Лённрот), индийском (Брокинсон, Гринцер).
В процессе перехода к книжной форме возникают переносы стиха, употребления синонимов делаются более частыми, увеличивается мера вариации. Эпическая вариация нередко заменяет параллелизм, стиль делается более изысканным.