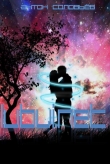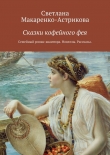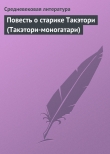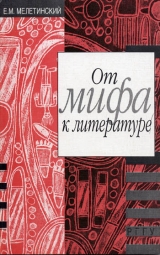
Текст книги "От мифа к литературе"
Автор книги: Елеазар Мелетинский
Жанры:
Мифы. Легенды. Эпос
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
ПЕРВОПРЕДКИ – КУЛЬТУРНЫЕ ГЕРОИ КАК ДРЕВНЕЙШИЕ ГЕРОИ ПОВЕСТВОВАНИЯ
Главные герои архаических мифов – это предки, которые являются в то же время демиургами и культурными героями. В этом комплексе доминирует предок рода, фратрии, племени. В отличие от духов, представляющих спонтанные силы природы, этот предок символизирует примитивную общину, которая обычно отождествляется с настоящими людьми. Частично речь идет о тотемических предках некоторых пород животных (реже растений) и также некоторого человеческого рода, который рассматривает данных животных как своих родичей. Даже в этнических группах, где тотемизм существует только в виде пережитков, сохраняются имена животных, которыми называют предков, и иногда идея их двойной природы – антропоморфной и зооморфной и их способности принимать форму животного. Персонажи животных сказок восходят к героям тотемических мифов.
Предки могут породить не только группы людей и животных, но и некоторые природные объекты. Иногда они их производят сознательно, в качестве демиургов, из земли, глины, костей, дерева или порождают посредством магии. Первоначальные предки часто являются одновременно культурными героями, которые добывают блага культуры (огонь, полезные растения, инструменты, ритуальные объекты и социальные институты) и даже природы (звезды, небесные тела). Добывание иногда принимает форму похищения у первоначальных хозяев. Такое похищение требует, в свою очередь, обладания силой, умом, физической ловкостью или хитростью.
Предки-демиурги-культурные герои – важнейшие персонажи прежде всего мифов творения, где они порождают (если речь идет о предках), производят (если они демиурги) или добывают (если они культурные герои) природные или культурные объекты, устанавливают социальные и религиозные порядки. Актантная структура мифов творения содержит, кроме главного предиката, также материал и/или источник творения, объект творения (т.е. результат творения) и иногда контрагента в лице первоначального хозяина.
Тем не менее активность этих мифических персонажей выходит за пределы мифов творения, и она очень многообразна. Предки-демиурги-культурные герои становятся в первобытном фольклоре центром циклизации. Циклы, кроме мифов творения, содержат другие разновидности мифологического повествования, включая героические легенды о борьбе против чудовищ, воплощающих силы хаоса, а также сказки о животных, анекдоты и т.д. Надо отметить, что в архаических обществах только мифический персонаж мог стать главным героем, вокруг которого циклизовались различные сюжеты, поскольку только он обладал в глазах первобытной общины относительно свободной личной инициативой. Кроме того, он был героем, представляющим человеческий коллектив, а не силы природы. Вместе с тем следует подчеркнуть его известную предперсональность. Он представлял родовой коллектив, а не индивидуальное сознание, так как личность в первобытном обществе не отделяла себя от рода. С данной точки зрения надо признать, что Юнг и его продолжатели модернизировали этот архаический характер.
Отталкиваясь от образа предка-демиурга-культурного героя, мы можем следовать прямым путем и к истинному герою эпической поэзии, и к благодетелю человечества типа Прометея, и к богу-творцу высших религий. Этот предок-демиург-культурный герой еще не дифференцирован таким образом, чтобы можно было отделить силу, мудрость и хитрость, умение колдуна и воина. Он может выступать как мифический творец и как собственно герой, уничтожающий чудовищ, которые угрожают мирной жизни людей, а также как хитрый мифологический плут, трикстер. Культурный герой может иметь брата, иногда близнеца, с чертами демоническими и комическими, пародирующего его высокую активность благодаря неудачному подражанию или вследствие дурных намерений. Мифический герой нередко объединяет в одном лице культурного героя и его демонически-комического двойника. Такое объединение в одном образе возможно потому, что действие мифа отнесено ко времени до установления окончательного порядка. Кроме того, может быть, сюжеты о трикстерах, пародирующих серьезные подвиги культурных героев, также представляют реакцию на строгую регламентацию первобытного общества. Низкие инстинкты, грязные, порой эротические детали как бы противопоставляются первобытному шаманизму, спиритуализму и т.д. Насмешки в рассказах о трикстерах беспощадны по отношению к одураченным ими жертвам и по отношению к самому трикстеру, когда тот совершает промахи. Эти насмешки могут быть направлены против разнузданности мифологического плута, против его попыток изменить свою природу или нарушить племенную мораль, т.е. против антисоциальности. Его универсальный комизм подобен карнавальности, которая проявляется в австралийских ритуалах, римских сатурналиях, в средневековых праздниках дураков. Эта карнавальность сопровождала переворачивание иерархического порядка, иногда представляла собой бурлескное воспроизведение божественной службы и т.д. (см.: Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1965). Мифологический плут является отдаленным предшественником средневековых шутов, героев плутовских романов и т.п.
Таков двойственный образ культурного героя, этого синкретического персонажа первобытного фольклора. Поскольку герой не является всемогущим богом, повествование о нем содержит историю обретения им сверхъестественных способностей. Иногда он наследует их от своего божественного отца, которым был зачат чудесным образом, иногда добывает посредством мучительных ритуальных испытаний в стране мертвых или на небе после контактов с могучими духами. Эти испытания построены по модели обрядов инициации. Таким образом, само его героическое детство становится своеобразной парадигмой для обрядов инициации следующих поколений.
Непосредственная символическая манифестация инициации в мифах – это мотив проглатывания героя чудовищем и последующее его освобождение из чрева, а также мотив временного пребывания группы мальчиков во власти лесной ведьмы. Инициация может быть представлена как временная смерть и последующее воскресение, а также – в более рациональной форме – как победа, одержанная над чудовищем. Роль патрона инициации может осуществляться старшим родственником, т.е. отцом или дядей по матери, или более отдаленным предком, или небесным божеством. Этот образ часто приобретает амбивалентные черты: например, патрон инициации объединен с каким-нибудь чудовищем, с которым борется герой. Таким образом, борьба против демонических сил хаоса может парадоксальным образом объединиться или даже отождествиться с инициацией. Трудные задачи со стороны отца или будущего тестя могут стать средством для мучения или уничтожения героя. Пройдя инициационные испытания, герой выражает свою достигнутую зрелость гиперэротизмом. Нарушая социальную норму, он может совершить инцест или завязать другую запретную сексуальную связь. Надо отметить, что инцест предков, происхождение племени вследствие запретной связи первых людей – это один из популярных мотивов древних мифов.
Герой, прошедший обряды инициации, иногда нарушает и другие табу. Порой он женится на тотемическом существе, от которого зависит успех на охоте, или на небесной богине, от которой получает чудесную помощь. Отметим, что женитьба на тотемической супруге удовлетворяет требованию экзогамии и поэтому этот чудесный брак является нормальным с точки зрения племенных законов (в отличие от инцеста). В некоторых мифах – например, в мифологическом цикле о Вороне – инцест как некорректная женитьба противопоставляется правильному браку с животным. Кроме того, герой должен уважать некоторые брачные табу, в частности хранить секрет тотемической или небесной природы его жены. Нарушение табу ведет к потере жены и успехов. Подобные эпизоды, как и все другие в мифе, принимают значение парадигмы для последующих поколений. Мифы редко кончаются смертью героя. В этих случаях обычно говорится, что герой спрятался где-то далеко и в будущем вернется.
Как уже отмечено, главный пафос мифологии состоит в превращении хаоса в космос (иногда в примитивных мифологиях представления о хаосе бывают довольно смутными). Космизация хаоса – это процесс творения мира, включая добывание культурных благ и борьбу против хтонических чудовищ; это главная деятельность культурного героя в мифе. Тем не менее, как мы уже видели, тот же герой способен произвести некоторые элементы социального хаоса (провоцируя иногда и хаос космический). Он может проявить эгоизм, жадность, гиперэротизм, нарушить правила и законы общинного распределения пищи или разделения труда. Это частично объясняется тем, что действие отнесено к мифическому времени, т.е. до начала регулярного времени. В конечном же счете космос одерживает победу над хаосом, и, таким образом, мифы осуществляют свое высокое предназначение.
Двойная стадиальная перспектива мифов о культурных героях становится ясной из следующего: в мифологиях древних цивилизаций функции культурных героев предписаны некоторым богам, таким как мексиканские Кецалькоатль или Виракоча, шумеро-аккадские Энлиль и Энки, египетские Хнум и Тот, индийский Индра, греческие Аполлон и Афина. У греков также находим древний миф о Прометее – подлинном культурном герое, благодетеле человечества. Прометей и Эпиметей являются братьями-близнецами, позитивным и негативным, как в первобытных мифологиях. Гермес также обожествленный трикстер. Победители чудовищ, такие как Тесей или Геракл, – культурные герои-воины, как и многочисленные герои архаических эпосов: аккадского, кавказских, финского, тюркских, монгольских, тибетского. Но, прежде чем делать обзор этих эпопей, надо остановиться на мифах о культурных героях самого архаического фольклора.
В мифах аранда и других племен Центральной Австралии рассказывается о странствиях тотемических предков по маршрутам, которые являются объектом сакральной информации. Предки охотятся или ищут отдаленных родичей; они останавливаются для еды или исполнения обрядов, прежде всего обрядов инициации. В конце пути, утомившись, они удаляются под землю, под воду, в скалы. Эти места становятся тотемическими центрами, где теперь исполняют обряды инициации и другие. Во время странствий предки совершают также культурные деяния, но в принципе тип культурного героя еще слабо конституирован в мифологии Центральной Австралии. В мифах племен, обитающих на севере и на юго-востоке Австралии, находим героев сверхтотемических – это всеобщий "Отец" на юго-востоке и старуха "Мать" на севере. Всеобщий "Отец" объединяет в одном лице предка, культурного героя и патрона инициации, а также хозяина неба и демиурга (его именуют Нурундере, Коин, Бирал, Дарамулун, Байаме). "Мать" символизирует плодоносящую землю, ее компаньон Радужный Змей связан с плодородием и размножением животных. Старуха или Змей проглатывают детей; Змей иногда насилует своих сестер, совершая инцест. Это мотивы инициации. "Мать", сопровождаемая Змеем, также совершает странствия. Она создает животных и растения, устанавливает обычаи. Нетрудно заметить, что эта старуха напоминает сказочную ведьму, а Радужный Змей – дракона.
Существует определенное сходство между мифологией аборигенов Австралии и Новой Гвинеи, населенной папуасами.
У меланезийцев распространены мифы о братьях-близнецах или множестве братьев, среди которых выделяются культурный герой и его комически-демонический двойник, т.е. трикстер. Таковы, например, То Кабинана и То Карвуву, Тагаро-умный и Тагаро-глупый или Тагаро и Сукематуа и т.д. Глупый брат подражает умному брату, но безуспешно, и делается ответственным за возникновение смерти, голода, инцеста, войны, низших рас. В Полинезии, мифология которой представляет собой высший уровень в Океании, некоторые культурные функции приписаны богам Тангароа и Ронго, но типичный культурный герой и в то же время трикстер – это
Мауи. Он не бог, его считают одним из предков, но он обладает магическими силами и одновременно умен и хитер. Мауи – младший сын и, некоторым образом, обездоленный. Он нарушает табу и готов противостоять богам. Среди его культурных подвигов мы находим выуживание рыб-островов, поимку солнца, похищение огня и плодов тару (фрукт) у его бабушки. Он также успокаивает ветры и поднимает небесный свод, помогает создать собаку и бататы. Мауи делает неудачную попытку победить смерть. Чтобы осуществить свои цели, он часто совершает хитрые трюки, как настоящий трикстер. В восточной части Полинезии Мауи совершает также героические подвиги, побеждая чудовищ.
В палеоафриканских мифах мы находим тотемических персонажей с функциями демиурга или культурного героя. Таков кузнечик Цагн у бушменов – дед-колдун и в то же время плут. Хейтси-Эйбиб у готтентотов также культурный герой и трикстер в одном лице. В африканских мифах имеется множество полутотемических героев: слон, черепаха, хамелеон, пес, паук, ласка. Мукуру у племени гереро, Ункулункулу у зулусов, Моримо у суто-чвана полностью антропоморфизированы. Они представлены как первые люди, вышедшие из священного древа, или из горы, или из болота; они научили народ культуре. Мвари (у племен венда и шона), Мулунгу (у восточных банту), Леза, Нгаи связываются с молнией. Некоторые культурные действия приписываются предкам-кузнецам. В Дагомее в небесном пантеоне народности фон мы встречаем фигуру Легба – мифологического плута; земной плут у племени фон – обжора Йо.
В фольклоре южноамериканских индейцев фигурируют братья-близнецы (Кери и Каме, Макемайме и Пиа, Омао и Соао и т.п.), которые сражаются большей частью вместе против демонических существ. Только братья Дойяи и Эгис у племени тукуна находятся во враждебных отношениях между собой. Благодаря "Мифологичным" Леви-Строса стал широко известен культурный герой у бороро – "разоритель гнезд", который совершает инцест с матерью. Мифы о братьях-близнецах, уничтожающих опасных чудовищ, широко распространены в Америке, включая Северную, например Найенэгауи и Тобацистини у навахо. Их отец, солярный бог, заставляет братьев пройти через мучительные испытания, прежде чем признает их как своих детей. Они получают от своего небесного отца чудесные стрелы, которыми убивают чудовищ. Тот же сюжет существует в мифологии кайова, у которых священные обычаи установлены братьями-близнецами в ходе их странствий. У североамериканских индейцев также популярны культурные герои, которые носят имена животных и выполняют серьезные творческие деяния, но часто в то же время и плутовские трюки. Таковы Ворон, Койот, Норка. У виннебаго культурный герой и плут разделены: Заяц и Вакдьюнкага.
Ворон, хорошо известный в северо-западной Америке и северо-восточной Азии, – типический пример культурного героя и трикстера, объединенных в одном лице. Мифы о Вороне были, вероятно, первоначально созданы предками палеосибирских народов (протоительменов) и индейцев надене, до миграции последних из Азии в Америку. Объединение «высокого» и «низкого» в образе Ворона имеет место с обеих сторон Берингова моря; поэтому его нужно рассматривать как начальную черту. К наиболее древним мотивам цикла Ворона принадлежат: этиология черного цвета, добывание небесного света, огня и пресной воды, происхождение рыболовства, борьба против ветров и плохой погоды, пребывание Ворона в чреве кита (инициация) и, кроме того, мотивы одновременно шаманистские и шутовские, например о мнимой смерти и перемене пола, о независимом функционировании частей тела, – все это имело целью утоление голода и жадности.
В Азии циклизация мифов о Вороне совершается вокруг его семьи: это рассказы о его ссоре с женой Мити, об удачных и неудачных браках его детей с некоторыми животными, наконец, протогероические рассказы о его старшем сыне Эмемкуте. В Америке циклизация носит биографический характер: детство Ворона, его инцестуальная связь с женой дяди по матери, старого Ворона, успокоение потопа, который учинил старый дядя, чтобы уничтожить племянника, затем – начало культурных деяний. Квазигероические эпизоды, посвященные Ворону и его сыну, являются, возможно, инновацией, так же как и многочисленные дополнительные рассказы о плутовстве Ворона, лишенные шаманистского элемента. Я имею в виду, например, рассказы о похищении Вороном добычи у других персонажей с помощью хитрости и подлости. Часто он их самих превращает в добычу. Миф не одобряет попыток Ворона нарушить природу и правила распределения добычи или традиционных форм хозяйственной деятельности. Вместе с тем подобный акт переворачивания порядка карнавальным образом делается источником универсального комизма. Уникальная возможность сравнения циклов Ворона в Азии и Америке, долгое время разделенных, показывает нам наиболее вероятный путь дифференциации мифологического жанра. В конце пути – чисто плутовские трюки и биографические мотивы. Цикл Дяйку-Дебегея у нганасан и юкагиров в Сибири, как и цикл Эква-Пырища у манси, являются типологическими параллелями к циклу Ворона.
МИФОЛОГИЧЕСКАЯ СКАЗКА
Итак, миф доминировал в слабо дифференцированном синкретизме жанров, характеризующем повествование в архаических обществах. Мифы о предках-культурных героях, т.е. мифы собственно этиологические, образовывали ядро повествовательных циклов, но в рамках этих циклов мы встречаем также повествования, которые сами аборигены не считали настоящими мифами. Они обычно выделяли две формы: например, адаокс и малеск у индейцев чимшиан, пыныл и лымныл у чукчей, хвенохо и хехо у дагомейских фон, лилиу (или либогво) и кукванебу на Тробрианских островах, хетакхо и туни у кутубуанцев на Новой Гвинее, филава и сингпатагхо на острове Вогео около Новой Гвинеи. Эти две главные формы приблизительно соответствуют мифу и сказке. Различие между ними выражает оппозицию сакрального и профанного, профанное является часто результатом деритуализации и потери эзотерического характера. Структурная разница не была обязательной между этими двумя формами, она могла вовсе не существовать. Очень часто один и тот же или сходный текст мог трактоваться одним племенем как настоящий миф, а другим – как сказочное повествование, исключенное из ритуально-сакральной системы.
Можно определить первобытные архаические сказки как нестрогие мифы, учитывая, что они включают мифологические представления. Если циклы о культурных героях могли охватить обе категории, то вне этих циклов доминировала сказка. Среди этих сказок мы находим сказки о животных, потерявшие тотемический характер, но сохранившие плутовской фон. Мы также находим легенды (мемораты и фабулаты), которые содержат рассказы о встречах некоторых лиц, иногда еще живущих, со злыми духами и другими мифологическими персонажами, не являющимися уже объектом ритуального почитания. Например, вспоминают о чьей-нибудь смерти от укуса змеи и создают рассказ о мести духа, хозяина леса, человеку, нарушившему табу. В рамках подобных легенд можно встретить и хорошо известные мифологические мотивы – например, о браках с тотемическими существами, выступающими то в виде зверей, то в виде людей, или, например, рассказы об инициационных испытаниях детей у лесного демона.
У меланезийцев, тибето-бирманцев, эскимосов, североамериканских индейцев встречаются часто рассказы о духах, помогающих обездоленным людям, особенно – несправедливо обиженным сиротам. В сказках об обиженных сиротках внимание направлено на самого сироту, его можно рассматривать как первого реального героя сказки. У меланезийских племен популярен рассказ о сиротке, который живет у своего дяди по матери, а дядя, по обычаю, должен о нем заботиться. Однако дядя и его жены обижают сиротку, называют его «голова с перхотью», прогоняют его в лес. Там он встречает духа, который берет на себя роль представителя материнского рода (иногда этот дух оказывается духом его покойного отца), осуществляет инициацию мальчика, воспитывает его в лесу, а затем дарит ему цветущий сад. Узнав о спасении сиротки и его успехе, дядя решает заплатить за племянника в тайный мужской союз – сукве, где герой очень быстро достигает высших степеней. В некоторых рассказах даже жены дяди после этого хотят женить на себе сиротку. Существует вариант, в котором обиженный сирота ловит чудесную рыбу, она превращается в женщину-духа, дарит ему сад и свиней, помогает ему вступить в тайное мужское общество. Вылавливание из воды духа-хранителя – это одна из форм инициации в Меланезии.
У индейцев американских прерий бытуют истории, посвященные бедному сиротке, которого соплеменники называют "грязный парень". Он живет на краю селения со своей бабушкой, старой колдуньей. Он страдает от голода и холода, согревается у общинного костра и обжигается, почему его иногда еще называют "обожженное пузо". Соседи не хотят делить с ним добычу, запрещают ему участвовать в охоте и войне. Девушки, особенно дочери вождя племени (иногда за исключением младшей), его отталкивают со смехом. В Америке, где упадок родовой общины зашел дальше, чем в Меланезии, сирота еще больше угнетен. Подчеркивается его бедность, неизбежная грязь и даже временное уродство. Но сиротка получает чудесную помощь, часто со стороны его бабки, представляющей материнский род. Он успешно охотится, и во время всеобщего голода именно он добывает пищу, или он одерживает победу над врагами и добывает много скальпов; в конце концов сирота разрешает трудные задачи вождя и женится на его младшей дочери. Теперь он становится красавцем и пробуждает любовь девушек, которые раньше его отталкивали. В некоторых вариантах сиротское детство приписывается культурному герою. Сказки о сиротах у эскимосов и чукчей похожи на сказки американских индейцев.
В принципе, сказки о сиротке напоминают европейские и азиатские сказки о младшем сыне, младшей дочери или падчерице. На Мадагаскаре у мальгашей имеются сказки о младшем сыне (фаралахи), похожие, с одной стороны, на сказки о сиротке, а с другой – на европейские и азиатские сказки о младшем сыне. В частности, мальгашские сказки содержат мотив деления наследства, отражающий упадок родового общества и переход от минората к майорату. Тот же мотив находим в европейских сказках (например, «Кот в сапогах»), а также в сказках китайских (младший сын получает в наследство только собаку или один колос, но они приносят ему богатство).
Архаические сказки о сиротке и мальгашские сказки о младшем сыне Фаралахи – это эмбриональная форма волшебной сказки. Но наряду с этими предволшебными сказками архаический фольклор содержит и протогероические легенды. Мы заметили героические тенденции в мифах о предка-культурных героях, особенно в рассказах об их борьбе с хтоническими чудовищами, но сюжеты этого типа могут быть отнесены и к другим персонажам. Например, к предкам более близким, к племенным вождям, необыкновенным смельчакам и другим героическим, но не мифологическим персонажам.
Героическая сказка существует в Полинезии. Она отделена от главного мифологического цикла, но все же связана с общей мифологической системой. Герои включены в легендарную мифологию. Тахаки, и Карихи, и Вахинероа – сын Тахаки, и Рата – внук Тахаки принадлежат к этой категории. Хотя Тахаки представлен знаменитым строителем жилищ, а Рата – строителем лодок, они не являются культурными героями типа Мауи. Их биографии включают эпизоды героического детства, поисков невесты и, особенно, кровавой мести. Чтобы осуществить эту последнюю, герои поднимаются на небо и спускаются в подземный мир, где они побеждают чудовищ и злых духов. Кроме того, имеются легенды об освоении полинезийцами далеких островов, а также о племенных войнах.
Естественно, героические сказки существуют и в Африке, и в Америке, и в Азии. Например, у американских индейцев наряду с близнецами-культурными героями находим в повествованиях таких персонажей, как героические близнецы, родившиеся после смерти матери; один был оставлен в вигваме, а другой брошен в кустарник Близнецы нарушают запрет отца идти в определенных опасных направлениях, именно там встречают и уничтожают различных животных. Иногда они выполняют трудные задачи будущего тестя. В сказках чукчей чудесные и героические элементы переплетены в еще большей мере. Герой часто имеет сестру-помощницу, наделенную шаманскими способностями. Он в процессе героических странствий женится, но злой дух (келе) похищает его жену. Герой побеждает келе, а затем ищет богатырей, с которыми он мог бы помериться силами. Героическая сказка (настунд) нивхов также повествует о герое, который побеждает злых духов благодаря силе и оружию. Одновременно он ищет суженую невесту в отдаленных местах, в соответствии с обычаями экзогамии. Сказки эвенков, самоедов, хантов, манси частично поющиеся. Самоедские сказки называются сюдбабц и ярабц (последние повествуются от первого лица). Сюжеты все те же: героические поиски суженой, кровавая месть, борьба с чудовищами и т.п.
Легенды героические и квазиисторические в сущности различны. В героических сказках имеет место вдохновенное прославление героя, тогда как в исторических легендах речь идет об исторической памяти, об истинной истории. Наиболее популярные сюжеты – ссоры и сражения враждебных кланов, а также кровавая месть, похищение женщин и другие мотивы, которые можно найти и в героических сказках. Но обе жанровые категории не могут еще трактоваться как героический эпос. Это только его предшественники. Исторические легенды входят в ядро эпоса только в момент формирования архаического государства.
Наш краткий обзор архаического фольклора демонстрирует его глубокий синкретизм с доминированием мифа, с циклизацией вокруг персонажей предков, демиургов, культурных героев и их к мически-демонических двойников. На периферии архаического фольклора благодаря взаимодействию мифов и местных легенд развиваются малодифференцированные легенды исторические и псевдоисторические, а также эмбриональные формы сказки животной, волшебной, героической. Когда противопоставляют жанры достоверные и недостоверные, исторические легенды кажутся принадлежащими к той же категории, что и мифы, в то время как животные сказки, организованные вокруг образа зооморфного плута, волшебные сказки, организованные вокруг персонажа сироты, и сказки героические принадлежат к другой категории, которая включает вымысел.
Некоторые доминирующие мотивы разных жанров еще сохраняют следы своего общего происхождения. Например, значение одиночества, одинокого человека может относиться и к первому человеку, мифологическому предку, и к сиротке в волшебной сказке, и к личности исключительной, богатырской в героической сказке. Другой пример: низкая видимость (ничтожность) героя может обозначать ритуальное обряжение, или тайный знак, или трансформацию божественного героя, или, наоборот, выявление его реального состояния с социальной точки зрения. В то же время в архаическом повествовании трудно различить исконное могущество духа или предка от шаманского могущества, полученного в результате ритуальных испытаний, и от воинской силы героя, увеличенной специальными упражнениями. Даже если десакрализация мифа зашла достаточно далеко, даже если герой уже не бог, и не предок, и не культурный герой, то мифологические представления сохраняются и пантеон духов и богов продолжает функционировать; вот почему каждая архаическая сказка в известном смысле мифологична. Только в более развитой европейской волшебной сказке локальная мифология заменена условной сказочной мифологией. Архаическая сказка не отличается от мифа с точки зрения структуры; эта разница появляется позже в форме классической волшебной сказки. Архаический фольклор, как мы видели, содержит героико-эпические тенденции, но подлинный эпос на этой стадии не существует.
Прежде чем перейти к анализу формирования классической волшебной сказки и эпопеи, необходимо упомянуть о методах структурного разбухания повествовательных ядер мифа и мифологической сказки. Рассмотрим элементарный миф творения. Как мы знаем, его ролевая система включает творца как агента, материал творения или источник творения и объект, т.е. результат творения. Сам акт творения является предикатом. Конкретизация предиката определяет варианты каждой роли. Например, творение с помощью магических действий предполагает бога как творца. Биологическое порождение соответствует предку, искусственное создание природных или культурных объектов – образу демиурга (гончар, кузнец и т.п.), а добывание, часто похищение объекта культуры соответствует роли культурного героя. Теперь прибавим сюда роль первоначального хозяина объекта или источника, откуда можно добыть объект. Прибавление этой роли уже заставляет сюжет выйти за рамки элементарного мифа творения. Структурное разбухание сюжетного ядра может осуществляться посредством нескольких приемов. Например:
1. Драматизация (конфронтация героя с первоначальным хранителем культурного объекта или предписание герою от бога совершить акт добывания объекта).
2. Суммирование мотивов как нанизывание синонимических предикатов (порождение, изготовление, добывание тех же объектов) или суммирование других ролей, объектов, агенсов (добывание агенсом нескольких объектов или добывание несколькими агенсами одного объекта).
3. Зеркальная инверсия (пример: к истории добывания воды из брюха мифологической лягушки добавляют мотив – в прошлом лягушка выпила всю воду мира).
4. Повествовательная "лестница" (в рассказ вводят эпизод добывания средства, необходимого для достижения конечной цели, например добывание оружия для уничтожения дракона).
5. Негативная параллель (например, неудачное подражание или неудавшаяся попытка).
6. Идентификация, т.е. введение дополнительного эпизода для определения героя главного действия.
7. Метафорические и метонимические трансформации, описанные, в частности, в книге К. Леви-Строса "Мифологичные".
Есть и другие механизмы распространения первичных сюжетов. Следует также учитывать изменения на глубинном уровне; мотивы на поверхностном уровне могут совпадать, а на глубинном – различаться между собой. Смысл на глубинном уровне может быть потерян или радикально трансформирован.