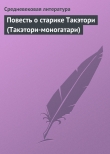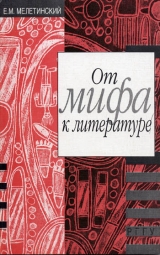
Текст книги "От мифа к литературе"
Автор книги: Елеазар Мелетинский
Жанры:
Мифы. Легенды. Эпос
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
МИФОЛОГИЗМ В РОМАНЕ XX ВЕКА ( От литературы к мифу)
В литературе XX в. "мифологизм" выступает в качестве художественного средства, соответствующего определенной концепции мира. Он получает блестящее выражение в романе в процессе перехода от классического реализма XIX в. к модернизму XX в. Пафос мифологизма состоял в обнаружении постоянных и вечных принципов, скрытых под обыденной поверхностью и сохраняющихся неизменными при любых исторических изменениях. Мифологизм вышел за рамки социальные и исторические, в которых разворачивалось действие романов XIX в., когда точка зрения была исключительно историческая и социальная; модернистский роман отказывается от этой точки зрения, что является естественной реакцией на устаревший эволюционизм. Социально-исторический подход определял структуру романа XIX в., поэтому отказ отданного подхода способствовал нарушению сложившегося структурного порядка. Модернизм компенсирует этот беспорядок символическими средствами, в том числе мифологическими. Таким образом, мифологизм становится инструментом повествовательного структурирования. Кроме того, модернистский роман использовал простые повторения и технику лейтмотивов, отчасти подсказанную мифологической драмой Рихарда Вагнера. Модернистский мифологизм связан некоторым образом с фрейдистским и юнгианским психоанализом, который заменил социальную характерологию XIX в. Томас Манн хвалил Вагнера за синтез "мифологии" и "психологии". Необходимо подчеркнуть, что "глубинная" психология, т.е. психология подсознания, адресована личности, которая в значительной мере эмансипирована от социальных обстоятельств. Психология специфически индивидуальная трактуется в то же время как универсальная, что позволяет ее интерпретировать в терминах символико-мифологических. Но нельзя при этом сводить новшества модернистского романа исключительно к влиянию Фрейда и Юнга. Тем не менее юнгианский психоанализ, с его универсализацией и метафорической интерпретацией бессознательной игры воображения, облегчает переход от болезненной психологии современного покинутого индивида к психологии пререфлективной и, в сущности, социальной архаического общества. Этот переход смягчен иронией, подчеркивающей огромную дистанцию, которая отделяет человека XX в. от подлинных творцов мифа в древние времена.
Большинство "мифологизирующих" авторов, как уже сказано выше, разочарованы в историческом подходе. У Дж Джойса герой его романа "Улисс" Стивен мечтает освободиться от "кошмара истории". Джойс использует мифологические параллели, чтобы подчеркнуть повторяемость тех же неразрешимых личных и социальных коллизий. Томас Манн пытается примирить миф и историю, противопоставляя традиционный миф мифу нацистскому. Латиноамериканские и азиатские авторы делают попытку сблизить модернистский мифологический подход с фольклорными традициями, еще вполне живыми в их культурах.
Обратимся к краткому сравнительному рассмотрению мифологизма в произведениях Т. Манна и Дж Джойса, этих создателей "мифологического" романа. Указывая разницу между ними, нужно учитывать их источники, вкусы и личные склонности. У Манна мы найдем буржуазную среду северной Германии, традиции Лютера, Гёте, Шопенгауэра, Ницше, Вагнера и критический диалог с этими традициями. У Джойса – Ирландия, католическое средневековье, Фома Аквинский, Данте, Шекспир, Блейк, Ибсен. Существует известный параллелизм в творческой эволюции этих двух авторов между двух мировых войн. Параллелизм проявляется в переходе от произведений еще реалистических, которые они создали в молодости, к "Волшебной горе" у Манна (1924) и "Улиссу" у Джойса (1922), а затем от "Волшебной горы" к "Иосифу и его братьям" у Манна (1933-1943) и от "Улисса" к "Поминкам по Финнегану" у Джойса (1938).
В "Волшебной горе" и "Улиссе" интерес к социально обусловленным характерам уступает место образу рядового человека как носителя универсальной человеческой души на глубоком и подсознательном уровне. Символический план поддерживается мифологическими параллелями. В "Иосифе и его братьях" и в "Поминках по Финнегану" влияние Фрейда уступает место влиянию Юнга и его теории архетипов, хотя оба автора не хотят этого признать.
Но надо бы подчеркнуть, ведя разговор о Манне и Джойсе, что оба автора рассматривают одни и те же проблемы в терминах эквивалентных, но противоположных.
На первый взгляд, нет никакого сходства между "Волшебной горой" и "Улиссом". Джойс описывает один день обыденной жизни в городских лабиринтах Дублина. Он критикует английское господство и ирландский национализм, лицемерие церкви, эгоизм и отсутствие свободы в семье; его описания проникнуты свифтовским сарказмом. В "Волшебной горе" и автор, и герой покидают будничную жизнь внизу, на равнине; действие романа развертывается вверху, в изолированном мире туберкулезного санатория. Это опыт герметический. Нафта и Сеттембрини борются за душу героя Ганса Касторпа, который колеблется, бродит в потемках; он испытывает страсть к таинственной даме русского происхождения. В конце каждого опыта он встречает смерть, но постепенно узнает, что жизнь и смерть неразделимы, и находит свое место в жизни. «Волшебная гора» в некоторой степени роман воспитания. Психологический итог Ганса Касторпа позитивен. Социальный и психологический опыт персонажей «Улисса» в целом негативен: юный Стивен сознательно уходит от своего окружения, от своей семейной и социальной среды, а что касается Блума, то ему не удается укорениться в городском ирландском обществе. Искусственное восстановление" семьи (Стивен – как якобы приемный сын Блума и его жены Молли) имеет характер чисто иронический, так же как примирение Блума с его неверной женой. В Гансе Касторпе и Блуме, вопреки очевидной разнице, о которой только что говорилось, – в обоих есть черты every man'a, сюжет глубинной психологии, поле столкновения и разрешения метафизических антиномий. Покинув социально-историческую раму, отказавшись от нее, оба писателя не только демонстрируют очевидным образом антиномии жизнь-смерть, дух-материя, но также подчеркивают губительный характер естественной материальной, физиологической жизни. Внутренний монолог становится необходимым элементом повествования. Видения являются кульминационными пунктами внутреннего монолога. Реализуют суперструктуру «Волшебной горы» и «Улисса» лейтмотивы. В «Улиссе» это мотивы отца, блудного сына, цветка (bloom, virag, flower), в частности лотоса; в «Волшебной горе» – ассоциации, связанные прежде всего с Клавдией Шоша. Использование музыкальной техники и культ музыки имеют место у обоих авторов и облегчают употребление символического языка мифа. Название романа Джойса, а также подзаголовки в романе извлечены из гомеровской «Одиссеи», персонажи отождествлены с мифологическими героями: Блум – это Улисс (Одиссей), Стивен – Теле-мак, Молли – Пенелопа, а также – мать-Земля или Калипсо, старая молочница – Нестор или Афина, любовник Молли – это Эвримах, девушка на пляже – Навзикая, ирландский националист – циклоп Полифем, хозяйка публичного дома – Цирцея; ее распущенные клиенты сравниваются со спутниками Одиссея, превращенными в свиней; споры в библиотеке сопоставляются со Сциллой и Харибдой. Непрестанные кружения, вечный бег Блума по Дублину сравнивается Джойсом со странствиями Одиссея, и то, что Стивен покидает родной дом, позволяет Джойсу обозначить его Телемахом. Наряду с греческими мифологическими параллелями Джойс привлекает и другие, например библейские: Блум – это не только Одиссей, но также Адам, Моисей, Христос, Агасфер. Стивен – Христос, Люцифер, а Молли – Ева и дева Мария. В то же время Джойс оперирует и немифологическими параллелями. Он сравнивает своих героев с персонажами Шекспира и с историческими личностями – например, Блум есть также лорд Биконсфилд.
Джойс использует символы первобытные, античные, библейские, алхимические. Солнце, а в другом месте – трамвай он называет драконом, кусок мыла – талисманом и т.д.
Тот факт, что он может приписать одному и тому же лицу мифологические образы, совершенно различные и даже противоположные (Христос-Люцифер, Пенелопа-Калипсо), нам показывает, с одной стороны, условный и частично иронический характер всех этих отождествлений, с другой стороны – сближение различных мифологических образов выражает идею их глубинного единства. Джойс использует мифологические образы прежде всего для того, чтобы выразить абсурдную циркуляцию людей и вещей в рамках социальной истории. Это идея модернистская, не имеющая ничего общего с архаической мифологией.
У Томаса Манна в "Волшебной горе" мы также находим мифологические сравнения. Пребывание Ганса Касторпа в туберкулезном санатории сравнивается с пленением Тангейзера на горе Венеры, которая одновременно может быть и островом Цирцеи. Венера или Цирцея отождествляется с мадам Шоша, которая, так же как Молли в "Улиссе", символизирует принцип женственности и является, в известном смысле, богиней любви и плодородия. Ночь любви героя с мадам Шоша – это акт ритуальный, с одной стороны – нечто вроде демонической Вальпургиевой ночи, с другой – эпизод веселого карнавала, во время которого Клавдия Шоша исчезает, а через некоторое время возвращается с другим сексуальным партнером, неким Пеперкорном. Дама, которая исчезает и возвращается, содержит намек на календарную богиню типа Деметры. Ее сексуальная связь во время карнавала напоминает священный брак в календарных обрядах. Пеперкорн имеет черты короля-жреца, который, став импотентом, должен погибнуть. Но, в отличие от ритуальной дуэли между старым и молодым претендентами, здесь оба готовы уступить даму своему сопернику. Идея циклизма, выраженная Джойсом в «Улиссе», не чужда и Манну в «Волшебной горе», где она непосредственно связана с календарным ритуалом и всячески обыгрывается на страницах романа.
Переходим к третьему периоду в творчестве Томаса Манна и Дж. Джойса. "Поминки по Финнегану" Джойса – это продукт ученой игры. Ее источники: ирландские легенды, Библия, египетская "Книга мертвых", Коран, буддийские тексты, индийские Упанишады, Гомер, патристика, скандинавская "Эдда", Свифт, Беркли, Гольдони, Оскар Уайльд, Льюис
Кэрролл, Ибсен, Фрейд и т.д. Сюжетное ядро – это преступление некоего Ирвикера, преступление неопределенное, смутное, совершенное в парке Феникс, и угроза наказания за преступление. Ирвикер, в отличие от Блума, буквально отождествляется с ирландским эпическим героем Финном и королем Марком. Ирвикер и его жена Анна Ливия отождествляются с Адамом и Евой, а их дети – с Тристаном и Изольдой. Детьми Ирвикера и Анны являются, кроме того, мифические близнецы Шон и Шем, в свою очередь отождествляемые с Каином и Авелем. Старый парк – Эдем, четыре старика – евангелисты. Таким образом, не античный миф, а кельтские и библейские легенды скрещиваются между собой. В отличие от "Улисса" прозаическая материя обыденной жизни почти отсутствует и является источником комического гротеска, мифологизм полностью господствует. Язык становится все более и более изысканным и условным, техника лейтмотивов – более утонченной. Мифологические фигуры складываются и делятся, они превращаются в другие персонажи. Все время происходит калейдоскопическая перегруппировка мифологических и литературных мотивов. Диахронические повторения выражают абсурдную бесконечность "кошмара истории". Чтобы выразить идею цикличности, Джойс использует имена и теории Вико и Кинэ. Он также обращается к Юнгу. С помощью этих теорий, все время продолжая ученую игру, Джойс разрешает задачу демонстрации абсурда истории. Мечтая избежать исторического кошмара, прекратить его, Джойс адресуется к буддийской идее нирваны, противостоящей сансаре. Символическая мифология "Поминок по Финнегану" стремится соответствовать генерализованному человеческому сознанию, коллективно-бессознательному, и поэтому она претендует на глобальную универсальность.
Разница между романом Т. Манна "Иосиф и его братья" и "Поминками по Финнегану" Джойса еще большая, чем между "Волшебной горой" и "Улиссом", но в принципе оба романа чисто мифологические, и акцент в них сделан на мифологии, а не на психологии, которая здесь служит для интерпретации целой серии мифологических сюжетов. У Джойса субъективизм увеличивается, а у Манна уменьшается. Реалистический объективизм помогает Манну использовать мифологическую материю не для интеллектуальной игры, а для анализа мифологического сознания с учетом его исторического характера. "Иосиф и его братья" – одновременно роман-миф и роман о мифе. В этом произведении существует вера в социальный прогресс, в то время как у Джойса в романе она отсутствует. Томас Манн показывает, что библейская мифология – это непосредственное звено между мифологиями древнего Востока (с их мифом о смерти и воскресении календарного божества) и христианской мифологией, в которой циклизм замещен исторической концепцией. Манн обладал огромной научной эрудицией, и его интерпретация мифа опирается на новейшие теории. Он, несомненно, был знаком с трудами Леви-Брюля, Бахофена, Кассирера, Фрейда, Юнга и других. Его интерпретация менее произвольна, чем у Джойса, но он также использует иронию и даже карнавальность с целью метафоризации "вечных" тем.
Роман "Иосиф и его братья", как и "Волшебную гору", можно назвать романам воспитания. Индивидуалист Иосиф постепенно включается в социальную среду, он подымается до синтеза рационального и иррационального, сознательного и бессознательного, культурного и природного. Как натура художественная и как любимец своего отца, Иосиф противостоит своим братьям, которые не более чем простые пастухи. Жестокий опыт временной смерти, символизируемой пребыванием в колодце, и испытания, которые следуют за этим в чужой стране, включая сюда и эротическое искушение со стороны жены его хозяина, пребывание в тюрьме и т.д. – все эти приключения помогают ему преодолеть инфантильный эгоизм, стать по-настоящему мудрым. В отличие от Джойса, который вечно экспериментировал, Томас Манн разворачивает библейский миф как истинно эпическое повествование. Иосиф становится первым советником египетского фараона и благодетелем своего народа.
Здесь можно рассмотреть, так же как и в "Волшебной горе", отражение ритуала инициации и, что еще важнее, реформированного календарного мифа. Сам Иосиф осознает себя Таммузом, Осирисом и Адонисом. Пребывание в колодце, жизнь в Египте, в том числе – в египетской тюрьме, как уже указывалось, символизируют пребывание в ином мире и временную смерть. Там, в этой таинственной стране, он испытывает демоническое и эротическое искушение, но отказывается от любви Нут. Роль мученика и благодетеля, хотя только практического и профанного, ведет к ассоциации с Христом, а также к ассоциациям – более естественным – с Гильгамешем (он отказывается от Нут, как Гильгамеш от Иштари) и Гермесом (Иосиф тоже является медиатором, но медиатором между духовным и природным, фараоном и народом). Самое главное новшество по сравнению с "Волшебной горой" – полная мифологизация всего сюжета и метафоризация мировой истории. Это последнее интерпретировано не без влияния юнгианской теории о коллективно-бессознательном (ср. с "Поминками по Финнегану"). Колодец, в котором Иосиф остается некоторое время, покинутый своими братьями, ассоциируется с колодцем исторической памяти, одновременно с поиском исторических корней и коллективно-бессознательным. Исторические события все время повторяются, причем таким образом, что более ранние служат кулисами для более поздних. Этим объясняется сходство пар: Авраама и Сары с Исааком и Ревеккой, Каина и Авеля с Иаковом и Исмаилом; все Елеазары объединены в личности одного-единственного. Архетипическое становится типическим. Сами герои повествования действуют по примеру более древних персонажей. Чтобы развернуть свой философический роман, Томас Манн использует не только основной корпус библии, но также апокрифические источники, включая гностические. Последние необходимы, чтобы представить историю Иосифа как роман души, преодолевающей дуализм духа и природы, объединяющей творения человека и Бога как поступки высшие и взаимодействующие. Все это в то же время есть гуманистическая аллегория исторического развития культуры, социального и нравственного прогресса (в отличие от Джойса).
Специфическую проблему представляет мифологизм Кафка Его романы "Процесс" и "Замок" созданы в то же время, что и произведения Джойса и Манна, но сомнительно, чтобы Кафка сознательно обращался к древним мифам. Можно ли считать его экспрессионистские фантазии мифом? Имеется известное число интерпретаций его романов как философских или религиозных аллегорий. Чаще всего речь идет о поисках у Кафки элементов или фрагментов иудео-христианской мифологии (М. Брод, Дж. Келли, Г. Таубер,
Г. Райсс, Φ. Велч, Г. Шепс, Э. Веллер, В. Вейнберг и др.). В. Вейнберг сводит творчество Кафки к альтернативе между иудаизмом и христианством. Д Картиганер, наоборот, утверждает, что "Процесс" – это сознательная травестия истории Иова. По его мнению, сам Иов – невинная жертва в руках Отца, и сюжет является героическим мифом, нарративизирующим ритуал инициации, который трактуется им с психоаналитической точки зрения. Но на самом деле, в отличие от Иова, инициация героя Кафки завершается его гибелью. Кафка не создает аллегорий, скорее он создает многозначные символы; он не занимается сознательной игрой с мифологическими мотивами и скрытыми книжными реминисценциями, как это делает Джойс. Так же как Джойс, Кафка осуществляет переход от реалистического социального романа к синтетической конструкции символической модели мира. Он также выражает противоречия между личностью и обществом и внутри самой человеческой души. Герой у Кафки – рядовой человек (every man), а сюжет стремится символически моделировать мир как целое – в этом специфика его романов. Кафка ближе к Джойсу, чем к Томасу Манну, но, в отличие от обоих этих авторов, его мифологизм чисто творческий, спонтанный, личный. Он оперирует современным обыденным материалом (ср. с попыткой Джойса мифологизировать вокруг повседневных вещей: трамвая, мыла, коробки и т.д.; ср. также с личными, искусственными мифами у Э. Т. А. Гофмана). Избегая ассоциаций с традиционными мифами, Кафка более точно, чем Джойс, описывает одиночество и отчуждение современного индивида. Зато он использует форму и мотивы снов. Частично под влиянием экспрессионизма он представляет фантастическую поэтическую трансформацию в качестве высшей реальности. Но он компенсирует свой метафизический порыв иронией и гротеском, как Джойс и Т. Манн. В «Замке» представители высшего и таинственного слоя бесстыдны, ленивы, развратны. Божественный напиток – коньяк. Замок и высший двор (трибунал) имеют вид странный и жалкий. В «Процессе» сострадательный адвокат Гульд заболевает вместо своих клиентов, а его помощница заводит любовные связи с обвиняемыми. Наказание бедного К. кажется убийством, совершенным разбойниками в мрачном предместье. Эта прозаизация не ослабляет представления о могуществе высших институций. Наоборот, она подчеркивает ее таинственную силу, которая скрыта в темных углах обыденной жизни. Она вскрывает демонизм самых банальных мест и ничтожных людей. Не надо думать, что этот гротеск сатиричен. Фантазия Кафки не сатирична а скорее мифологична благодаря метафизическому уровню его творчества, вопреки всей этой обыденной и прозаической окраске. Социальный и психологический уровень находятся в отношениях взаимного отражения. Кафка ставит проблему условий и смысла человеческого существования. Но именно метафизический уровень трансформирует ироническую фантазию Кафки в «мифологию». В его творчестве субъект и объект взаимозависимы, и эта зависимость коррелируется с дихотомией миров небесного и земного. Облик персонажей может меняться в зависимости от обстоятельств и от восприятия и ощущения других лиц. Например, Кламм меняет свою внешность утром и вечером, в городе и в Замке. Картина мира не только изменяется от того, как выглядят Замок или Трибунал, но ее сущность зависит, в известной степени, от состояния сознания героя.
"Мифологическая" фантазия "Процесса" и "Замка" представляет на социальном уровне ситуацию одиночества индивида, лишенного прав, на психологическом уровне – подсознательный комплекс вины, а на метафизическом уровне она символизирует перманентный человеческий грех и разрыв между земным миром и не известным человеку метафизическим законом, потерянный Рай. Этот разрыв поддерживается утратами информации в нитях, соединяющих Замок и деревню, и постоянной деформацией высшего двора. Герой Кафки рассудочен и ограничен, индивидуалистичен и достаточно укоренен в социальной среде. Все это мешает ему признать свою вину и приблизиться к пониманию смысла жизни; это понимание требует отказа от самого себя, что невозможно для обычного человека.
Повествование у Кафки часто развертывается в соответствии с логикой абсурда. Повествовательные уровни и планы противоречат один другому. Полисемантические символы меняют смысл с изменением уровня, смысл может стать прямо противоположным. Кафкианский полисемантизм на поверхностном уровне проявляется как абсурдистская фантазия, что связано с эпистемологическим релятивизмом. Кафка конструирует свою модель мира с конъюнкцией (и/и), а не с дизъюнкцией (или/или). Например, в новелле "Сельский врач" срочно будят врача для спасения больного. Чтобы отправиться к больному, он вынужден оставить свою горничную в руках некоего грубого мужчины. На первый взгляд больной ему кажется здоровым, но затем он вынужден остаться с больным в его постели, чтобы лечить его раны, потом доктор в конце концов убегает. Где же истина? В жертве врача ради мнимого больного или в эгоистическом отказе врача разделить страдания с истинно больным? Истина двойная, вопреки противоречиям и впечатлению, что вся описанная история – это только страшный сон.
Антиномия личности и сверхъестественных необъяснимых сил, так же как и логика абсурда, являются предпосылками кафкианской мифологии социального отчуждения. Не только сам индивид и сверхъестественные силы, но и отношения между ними становятся объектом мифологизации. Этим путем символизируется социальное отчуждение, которое описывается, например, в новелле Кафки "Превращение", где трансформация героя в отвратительное насекомое отделяет его от семьи и социальной среды. В произведениях Кафки известную роль играет символизм одежды, которая подчеркивает внешний социальный статус, независимо от самой личности. Обратившись снова к "Замку", вспомним, как Кламм все время меняет свою одежду, но его черный пиджак остается знаком его статуса. Ливрея Барнабы указывает на его службу в Замке, ожерелье Амалии – эротический знак и т.д. Обратный смысл должно иметь отсутствие формы у чиновников трибунала. В какой-то мере сходен и феномен изменения личности так называемых помощников героя: когда они на службе, они походят друг на друга, как близнецы. Все эти примеры содержат также намек на нивелирование личности.
Специфический характер кафкианской творческой мифологии может быть вскрыт при сравнении ее с традиционными мифами. Новелла "Превращение" в принципе сравнима с тотемическими мифами и волшебными сказками. Но они находятся на противоположных полюсах: в тотемических мифах превращение предка в животное, часто в момент смерти, ведет, в конечном счете, к его перевоплощению (реинкарнации) в наследниках и к религиозному поклонению ему. Следовательно, тотемическая метаморфоза означает единство рода, в отличие от истории семьи, отвернувшейся от бедного героя Кафки. В сказках превращение в безобразное животное обычно бывает временным результатом колдовства, иногда это естественное возвращение чудесного матримониального партнера в свой клан, т.е. опять, как и в мифе, подчеркивает единство с кланом. Таким образом, новелла Кафки кажется мифом наизнанку, антимифом и антисказкой. Так же и в романах Кафки герой, в отличие от героя мифов, сказок и средневековых романов, не проходит с успехом инициационных испытаний, а обречен на конечную неудачу: в «Процессе» он не может войти в «дверь закона», в «Замке» он тоже ничего не добивается, засыпает в неподходящий момент, когда, кажется, мог чего-то достигнуть. Характер героя у Кафки, упрямый и мятежный (казалось бы, это черты скорей героические), не помогает, а мешает ему пройти инициацию. Не случайно Барнаба принят в Замок после потери храбрости; это противоположно ситуации в мифе, сказке, куртуазном романе и т.д. Еще раз повторим, что у Кафки мы имеем антимиф, антисказку и т.д. Вместо слияния с социумом – отчуждение.
В романе XX в. существует множество вариантов мифологизации – например, апологетический подход к дохристианской мифологии у Д. Г Лоренса ("Пернатый змей"), описание одичания человека у У. Голдинга ("Повелитель мух"), синтез позиций Т. Манна и Дж. Джойса у Г. Брюха ("Лунатики", "Смерть Вергилия", "Невинная"), эксплуатация греческой мифологии на манер Джойса у Дж. Апдайка ("Кентавр") и т.д. В "Презрении" А. Моравиа находим уже реакцию на мифологизм Джойса.
Отдельно надо было бы сказать о латиноамериканской литературе (Астуриас, Карпентьер, X. М. Аргедас, особенно Г. Г. Маркес) и также африканской (например, Катеб Ясон). В этих странах модернистский мифологизм скрещивается с реальными фольклорными мифологическими традициями. Прекрасный пример – "Сто лет одиночества" Маркеса, где мы находим мифологические модели мировой истории, латиноамериканской истории и истории Колумбии, где встречаем культурного героя, инцест предков, мифологизацию частной жизни, жизни/смерти, памяти/забвения.