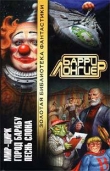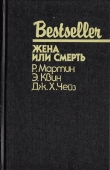Текст книги "Шанхайский цирк Квина"
Автор книги: Эдвард Уитмор
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
В любом случае, теперь все это уже не важно. Я просто расскажу тебе, что случилось.
В тот день в плавучем доме мы подружились с Квином. Сначала, полагаю, он пригласил меня туда по какому-то незначительному делу, но мы по-настоящему подружились, и оба это чувствовали, хоть я и годился ему в отцы.
Так что в конце концов он признался, кто он такой и чем занимается. Он работал на советскую разведку, чтобы защитить Китай и Советский Союз от японского милитаризма. Он предложил мне сотрудничать с ним, и я согласился. И я сотрудничаю, я передаю ему все планы Генерального штаба, все сведения о том, куда они собираются послать войска и когда, за месяцы и годы до того, как это произойдет.
А теперь, с недавнего времени, еще и самую важную информацию, информацию, которая, возможно, когда-нибудь спасет Москву от немцев. Потому что совсем скоро немцы, несомненно, нападут на Советский Союз и Япония вступит в войну, а это означает схватку с Западом, и тогда Советский Союз не сможет сражаться сразу на два фронта.
Впрочем, если бы мы не предупредили Советы, им пришлось бы вести войну на два фронта. Но я проинформировал Квина, что в свое время японская армия двинется на юг, чтобы захватить нефть и каучук Юго-Восточной Азии, а не на север, в Сибирь. И поэтому русские смогут оттянуть свои дальневосточные дивизии, чтобы сражаться с немцами и не беспокоиться о Квантунской армии в Маньчжурии – ведь она будет дислоцироваться там только номинально, главные сражения будут происходить в других местах, и советскому Дальнему Востоку ничто не будет угрожать. Все это мы передали Москве, и так, возможно, спасли ее.
Но, хотя ты ничего не понимаешь, не думай, что я предатель. Я сделал это для блага Японии. В тот день мне предстояло принять решение, и я принял верное. Я разделил убеждения Квина, и до сих пор их разделяю. Ребенком я любил игру в го, ради нее я и пошел в армию, но действия военных в Японии, а потом в Китае заставили меня на многое взглянуть по-новому. И тогда, и тем более сейчас.
Значит, будь что будет, я принял верное решение. Я уверен в этом. А Квин был мне братом. Когда бы у меня ни появлялись сомнения, когда бы я ни чувствовал усталость, когда бы мне ни казалось, что я не переживу очередной приступ головной боли, меня поддерживало именно его мужество, его вера в меня, его решимость закончить то, что мы начали, то, что мы вместе делали, чтобы помочь японцам и китайцам положить конец этой жуткой, бессмысленной войне.
Были ужасные случаи, о которых мне никогда не забыть. И люди, которые так и стоят у меня перед глазами.
Однажды утром мне пришлось вызвать к себе кроткого ученого-европейца; он помогал нам – руководил доставкой информации. Добрый, благой человек, который многим рисковал ради того же дела, что и я. Конечно, он не знал, кто я в действительности, и, разумеется, я не мог ему признаться; но я хотел, чтобы он изменил свое поведение, потому что оно ставило под угрозу нашу безопасность.
И вот я оскорблял его. Шантажировал. Унижал его самым презренным образом. Унижал его, моего соратника. Оскорблял человека, который был одним из лучших друзей моего брата – и я знал это.
Но это все пустяки. Просто оскорблял и унижал доброго человека, кроткого, многотерпеливого. Бывало и хуже. Я убивал.
Однажды, примерно пять лет назад, мне надо было попасть в Шанхай, чтобы повидаться с Квином и поговорить с ним о плане Генерального штаба, предусматривавшем вторжение в Северный Китай. Мне совершенно необходимо было попасть туда, но я никак не мог уехать из Токио. Мое управление участвовало в разработке плана, и мое отсутствие в Токио, какими бы причинами я ни попытался его объяснить, вызвало бы подозрения. Я был в отчаянии.
И вот наконец нашелся повод отправиться в Шанхай. Отвратительный, тошнотворный повод. Ужасный, тошнотворный.
Для этого требовалось убить в Шанхае человека – какого-нибудь известного японца. Убийство должно выглядеть как дело рук китайских патриотов, и, естественно, за ним последуют самые суровые репрессии. И это будет первый шаг, начало. Через год японцы будут более чем готовы вторгнуться в Китай.
Один из офицеров Генерального штаба предложил убить японского монаха – жителя Шанхая, человека, которого любили китайцы и уважали японцы, – идеальная мишень. Если китайцы и японцы еще испытывали друг к другу хоть какие-то добрые чувства, это была его заслуга, его и немногих других.
Этот монах был мой двоюродный брат, сын младшего брата моего отца. Но никто не знал об этом, потому что его семья с начала девятнадцатого века жила в Китае, и потому, что она взяла себе китайскую фамилию, и еще потому, что я уничтожил некоторые опасные материалы Кемпейтай.
Но мне пришлось не только согласиться с планом, но и заявить, будто операция настолько деликатная, что требует моего личного присутствия в Шанхае. Я видел, как они улыбаются у меня за спиной и шепчут, что на самом деле я хочу поехать только потому, что я убийца, садист, который любит нюхать, ощупывать и пробовать на вкус трупы жертв.
Конечно, они ненавидели меня. Они всегда ненавидели меня, потому что у меня были материалы Кемпейтай и я слишком много знал о них. Они бы избавились от меня давным-давно, если бы не знали, что передерутся, когда мой пост освободится.
И вот они улыбались у меня за спиной.
Да, сказали они, отличный план. Конечно, вы должны лично заняться этим вопросом. Все должно пройти гладко, и, если вы на месте проследите за ходом операции, все и пройдет как надо. Последствия этого убийства будут как нельзя более кстати, совершенно очевидно, особенно в свете вашего мастерства. Совершенно очевидно, успех обеспечен. Отличная идея, поздравляем.
И мне пришлось выдержать их улыбки, а потом спокойно встать и выйти. Я поехал в Шанхай, и встретился с агентами, и сказал, что монаха нужно только легко ранить одной пулей в руку, остальные выпустить в воздух, и все. Но мои усилия ни к чему не привели. Они потеряли голову и открыли беспорядочную пальбу.
Пять лет назад. С тех пор, и до того тоже, произошло множество событий, которые ты не можешь никому объяснить, не в силах объяснить даже самому себе, событий, которые просто засели в душе, как заноза, и никогда не забудутся, раны, которым не суждено зажить, раны, открытые раны, раны, разъедающие плоть до кости. Однажды я заговорил об этом с Квином, и он кивнул самому себе. Он кивнул самому себе и ничего не сказал, потому что сказать было нечего. Нечего. Он знал, о чем я говорю.
Генерал отпустил ее руки и замолчал. Он достал из буфета запечатанную бутылку ирландского виски, к которой не прикасался восемь лет; ее подарил Квин вечером того дня в плавучем доме в Шанхае. Генерал никогда не пил виски, но в этот вечер налил себе большой стакан и осушил его.
Она смотрела, как он снова наполняет стакан. Он уселся подле нее и склонил голову, чтобы она не видела его глаз – ни зрячего, ни слепого.
Скажи мне, что ты думаешь, попросил он.
Я думаю, ты храбрый человек, отвечала она, и я думаю, что ты сделал то, во что верил. И мне жаль ту женщину, ведь она не может любить мужчину так, как хочет. И мне жаль его, потому что когда-нибудь он поймет почему.
Но они меня не очень-то заботят. Я думаю о моей любви к тебе, только о ней я и думаю, неважно, со мной ты или тебя нет рядом.
* * *
Прошло четыре месяца. Мама готовила к встрече Нового года особые рисовые пирожки. Ближе к вечеру ей доложили, что пришел посетитель. Она приняла ванну и надела лучшее кимоно. Потом заглянула к спящему сыну.
Падал снег, когда она шла через сад по открытой тропинке в лучах неяркого света, заливавшего дверь из рисовой бумаги, – дверь в комнату, где она играла на кото для генерала. Она на секунду задержалась и взглянула на падающий снег, прежде чем войти.
Изможденный человек склонил перед ней колени, прижавшись лбом к татами. Она попросила его встать, сесть у жаровни и согреть руки, которые наверняка закоченели от суровых ветров зимнего вечера. Она разлила чай и поставила перед ним чашку.
Он погиб, прошептал капрал.
Я знаю, откликнулась она.
Но об этом не объявляли.
Я знала еще летом.
Капрал все не поднимал головы. Он грел руки о дымящуюся чашку с чаем.
Мне неловко сидеть здесь, сказал он. Это его место.
Нет-нет, друг мой. Ты любил его и пытался сделать его счастливым. Никто не мог бы сделать больше.
Капрал вздрогнул, но не от холода, а вспомнив об огнях, все еще полыхавших перед его внутренним взором. Он боялся продолжать. Он почувствовал, как к его руке прикоснулась рука, и, подняв глаза, увидел в желтом свете лицо старой-престарой крохотной женщины с нежной улыбкой.
Все хорошо, произнесла она. Ты можешь мне рассказать. Жизнь коротка, и мы должны прислушиваться к каждому звуку.
* * *
Декабрь тридцать седьмого.
Нанкин.
Древняя столица Юга оставалась единственной твердыней на реке Янцзы, до сих пор принадлежащей китайцам. Японские армии наступали и одерживали победу за победой. Целые китайские дивизии бежали, были истреблены или взяты в плен. Лучшие полки были уже окружены или разбиты. Из радиограмм генерал знал, что его подразделение опередило другие колонны. В тот день – и он это знал – он достигнет Нанкина, если прикажет своим войскам сделать марш-бросок.
Генерал созвал своих старших офицеров в пять часов утра. Он сообщил им, что намеревается сделать. Его заместитель и еще несколько полковников возражали. Люди слишком утомлены, они слишком много убивали в последние дни. Кого-то поймали на мародерстве, начинаются пожары. Это опасно. Один случай нарушения дисциплины влечет за собой лавину.
Генерал покачал головой. Он устал, он не в силах был разговаривать. Он хотел, чтобы все поскорее кончилось. Именем императора он отдал приказ.
Щелкнув каблуками, солдаты взвалили на спины ранцы и выступили в поход. Они все утро ускоряли темп, и к полудню головным колоннам показалось, что они видят на горизонте город. Пехотные части подавляли слабое сопротивление, оставляя далеко позади орудия, обозы, артиллерию, – они мчались по замерзшим рисовым полям, преодолевая последние мили.
Ближе к вечеру головные колонны армии генерала уже сражались на окраинах города. Офицеры старались замедлить наступление. Планы сражения призывали к перегруппировке, но солдаты больше не подчинялись приказам. Целый день они бежали и стреляли и к ночи перестали быть армией. Они бродили группами, бандами, отупевшие и голодные, совершенно измотанные. В городе не было вражеских сил. Остались только дети, женщины и старики. Не годные к службе, беспомощные, калеки.
Генерал не спал уже много ночей. За тот день он заговорил лишь однажды, проклиная пожары, вспыхивающие на горизонте.
Радио в его штабном автомобиле сломалось, но он не обратил на это внимания. Курьеры на мотоциклах мчались рядом, не отставая от автомобиля; они размахивали депешами, указывали на свои знаки различия – бутафорское войско. Генерал смотрел прямо перед собой и только приказывал капралу ехать быстрее. Штаб-квартира велит ему остановиться, задержать наступление, пока не подтянутся остальные японские армии. Но генерал слишком устал, чтобы останавливаться. Он хотел дойти до конца.
Когда они въехали в городские ворота, солнце только что село. И снова генерал что-то сказал о пожарах, все заметнее полыхавших во тьме. Холодало, поднимался ветер.
Они въехали на большую площадь. Генерал огляделся и понял, что происходит что-то странное. И это японские солдаты, самые дисциплинированные в мире. Что они делают?
Дверцы штабного автомобиля плотно закрывались, чтобы спастись от зимнего холода. Поэтому они не могли ни видеть, ни отчетливо слышать, что творится снаружи. Они могли рассмотреть только отдельные движения во тьме, тени, лица в отсветах фар, мерцающие факелы. Генерал приказал капралу остановиться. Он сжал рукоять сабли и вышел из автомобиля на площадь.
Капрал застонал и спрятал лицо в ладонях. Мама слушала, как в Токио падает снег. Она повернула чашку, повернула ее трижды, и только тогда отпила глоток. Потом она снова положила руку на руку капрала.
Продолжай, сказала она. Мы должны услышать все.
Это были уже не люди, простонал капрал, и даже не животные. Солдат проткнул штыком младенца и подбросил его в воздух. Другой солдат зарезал женщину и освежевал ей ноги. Еще солдат подобрался к лошади сзади и вошел в нее. Другой был опоясан человеческими скальпами и что-то жевал. Еще один играл с маленькой девочкой, он тыкал ее ножом, он прорезал в ней отверстия и входил в них. На улице валялась голова. У стены дома громоздились головы. Солдаты выстраивали людей в шеренгу и расстреливали их, раскладывали вокруг них костры, привязывали к ним гранаты. Они выбрасывали людей из окон, солдаты кидали в них камни. Они привязывали людей под грузовиками. У них были пулеметы и пистолеты и они взрывали и поджигали дома и бросали людей в огонь, отрезали от их тел куски, жарили их на огне и ели. Один солдат носился по площади, выкрикивая воинский устав, и стрелял в людей, резал людей, расцарапывая себе лицо до кости. Они насиловали и насиловали, и потом они насиловали штыками, винтовками, они стреляли из винтовок. Они насиловали гранатами, и гранаты взрывались в телах женщин. Один солдат сидел на груде тел и кричал. Другой приставил пистолет к голове девочки и заставлял ее пить его мочу. Он заставил ее лечь, и сделал что-то с ее лицом, и размозжил ей лицо ударом сапога. Они выкалывали людям глаза, закапывали их заживо и заставляли ползать по битому стеклу. Они били их прикладами винтовок. Они выбивали зубы прикладами винтовок. Они били их в лицо и били их по голове прикладами винтовок. Они ломали пальцы, ноги и руки прикладами винтовок. Солдат ехал верхом на старике и тыкал в него ножом. Старик упал, и солдат пнул его, и ударил по голове, и выстрелил ему в голову, и все пинал и пинал его, уже мертвого. Они заставляли людей вставать на колени и совокупляться друг с другом. Они заставляли их нагибаться и совокупляться друг с другом. Они вложили нож в руку девочки и заставили ее кастрировать собственного отца. Они отрезали мальчику нос и заставили его жевать. Они били его между ног прикладами винтовок, били его в грудь прикладами винтовок, а потом облили его бензином и подожгли. И они все расстреливали людей, строили и расстреливали, и ночь превратилась в вопли, тени, и вопли и огни, и вопли и пулеметы, и огни и приклады винтовок, и пистолеты и штыки, и ножи и вопли, тени и тела, и лица и вопли, и грязь и кровь, и вопли и огни, – людей расстреливали, резали, били и пинали и топтали, люди ползали, вопили, старики и дети вопили, женщины вопили, и люди горели и бежали и падали в огонь и в тени и во тьму, стреляли солдаты, и люди вопили, вопили.
Капрал застонал. Он обхватил голову руками. Он плакал.
Мама смотрела на дверь, оклеенную рисовой бумагой, и видела замерзшие поля на севере, там, где она родилась. Она видела бедные крестьянские дома, бесполезные классы школ, маленьких японских мальчиков, что зимой склоняются над книгами в попытке выучить тысячу китайских иероглифов, чтобы прочитать собственную историю и написать свои имена. Она видела, как горят школы, и крестьянские дворы, и сосновые рощи при храмах. Она видела, как маленькие мальчики разрывают китайские буквы, и стреляют в них, и режут их, и оскверняют, и уничтожают. Она видела все.
Он закричал, прошептал капрал. Он бегал за ними, он криком пытался остановить их. Я старался держаться с ним рядом, но вокруг все тонуло в тенях, огне и воплях. Я нашел его только наутро.
Капрал отвел глаза.
Он был наг. Кто-то убил его и снял всю одежду. Правый глаз был вырван из глазницы. Эполеты, лежавшие подле его тела, были измазаны экскрементами. Его яички были обмотаны вокруг шеи.
* * *
В ту ночь, после ухода капрала, Мама сидела в одиночестве и медитировала. Следующий день был новогодний, день ее рождения – и день рождения всех людей ее расы.
Вскоре ее сын стал задыхаться от мучительного кашля, который поразил его столь быстро и жестоко, словно мир уже не в силах был выносить ход времени. Болезнь развивалась стремительно и неумолимо. Она держала его на руках и смотрела, как уходит его дух, – всего лишь крохотная жертва эпохи, в которой Нанкин был просто первым отделением гораздо более величественного грядущего цирка.
* * *
Она хотела уехать из Токио и вообще из Японии. На материке оставался всего один анклав, где японцам все еще позволялось общаться с иностранцами, – Шанхай, город вне закона, и только там царили хаос и отчаяние, сравнимые с ее собственными.
Она нашла там все, что ожидала, и даже больше. Иностранцы, еще не уехавшие из Шанхая, – потому что им некуда было уехать, – перепробовали все возможные наркотики. Мама начала принимать настойку опия – спиртовой раствор, столь ценимый многими за сочетание эффектов.
Она предавалась пороку вместе со стайкой случайных знакомых; они собирались каждый вечер и принимали наркотики, устраивали оргии или наблюдали за тем, как устраивают оргии другие. Как и они, днем она спала и оживлялась только к ночи. Ее безымянные спутники регулярно исчезали, совершив самоубийство или став жертвой интриг, и вот ее уже окружали новые изможденные лица, которым в свою очередь тоже предстояло исчезнуть.
Чтобы притупить боль, они уже не вступали в беспорядочные связи и не наблюдали за оргиями, а приохотились смотреть порнографические фильмы, пестрившие картинами бесстрастного расчленения трупов, бутербродов с фекалиями и чахоточной слюны, настолько нереальными, что, безучастно глядя на экран, они могли похоронить себя во тьме долгих ночей и грезить о том, чтобы окружающий мир исчез навсегда.
Изо всех людей, которые прошли через ее жизнь в эти годы забвения, только один остался в ее памяти – киномеханик, показывавший фильмы.
Это был огромный неуклюжий американец, гигант с изрытым оспой лицом, с обрюзгшим телом и выпученными глазами – неудивительно, если учесть, сколько он пил. Как только он приходил в запертую комнату с закрытыми ставнями и налаживал свой помятый кинопроектор, все испытывали чувство облегчения, потому что наконец-то можно было выключить свет. Кинопроектор визжал, мерцающие образы ползли по стенам, а Мама и ее приятели валились на мягкие кушетки.
У киномеханика была странная привычка – в ходе вечера он снимал с себя одежду, очевидно, потому, что кинопроектор был старый и быстро перегревался. Или, по крайней мере, так казалось Маме, когда она смотрела, как он весь вечер теребит одежду, снимая одно за другим, – и к полуночи он оставался совершенно нагим, если не считать полотенца на бедрах.
Как и все остальные, после полуночи Мама часто проскальзывала к кинопроектору, чтобы пошептать на ухо гиганту. Когда она начинала шептать, он слушал ее безмятежно, никак не комментируя, только иногда кивал головой. Шли недели, Мама постепенно посвящала его во все подробности своей жизни и наконец призналась во всем.
Ничего подобного она никогда не испытывала. В то время она не могла понять, чем этот гигант так привлекал ее, почему ей так хотелось проскользнуть к нему и шептать в темноте. Может быть, он просто принимал все, что бы она ни говорила, а может быть, потому что у огромной тени, отбрасываемой его профилем в тусклом свете проекционной лампы, не было имени.
Или может быть, просто потому, что он был наг. Неподвижный обнаженный гигант, он слышал и видел все, и его не надо было бояться.
Но обрюзгший американец в той запертой каморке с закрытыми ставнями был не только ее исповедником, но еще и самозванцем, и клоуном.
Маме казалось, что постепенно образы на стене становятся все туманнее. Однажды ночью она спросила об этом огромного обнаженного киномеханика, и он нелепо взмахнул руками. Он сказал, что это, наверное, потому, что он не может достать нужных лампочек. А может, потому, что в городе перебои с электричеством, – черт его знает.
Он все бормотал себе под нос. Он посмотрел на нее сверху вниз с улыбкой, и в ту же секунду она поняла, что исповедник исповедуется, поверяя ей какую-то чудовищную, понятную только ему шутку, которую он сыграл над Шанхаем. Над мужчинами и женщинами, которые в безнадежности и отчаянии приходят исповедоваться ему во тьме. Над жизнью.
Она вернулась на кушетку, стала пристальнее всматриваться в экран и сделала открытие.
Эти фильмы кишели животными и людьми, но ни одна сцена даже отдаленно не напоминала порнографию. Она лишь смутно догадывалась, что творилось на экране – на поцарапанной пленке с трудом можно было различить хоть что-нибудь, – но, насколько она могла судить, им показывали какие-то документальные фильмы, незамысловатые документальные фильмы, в которых, похоже, объяснялись основные методы животноводства. Животные были обычные домашние животные – недокормленные, а мужчины и женщины напоминали русских крестьян.
Примитивные учебные фильмы первых дней русской революции. Где он откопал их и зачем? Как ему удавалось показывать безобидные фильмы о животноводстве, а развратники думали, что перед ними все мыслимые виды распутства?
Добрый и одинокий человек. Добрый и одинокий, как клоун.
* * *
Среди ее приятелей прошел слух, что вскоре состоится особое цирковое представление, невиданная прежде забава, – представление, которое каким-то непостижимым образом доставит невероятное наслаждение всем, кто будет на нем присутствовать. Все в восторге предвкушали загадочное представление.
Только Мама туда не стремилась. Трюк клоуна заставил ее вспомнить об устрицах.
Для нее устрица всегда была теологическим символом закрытости и совершенства, ведь она напоминала серое вещество мозга, а Лао-цзы однажды сказал, что некий невещественный образ существовал еще до Желтого предка. [34]34
Желтый предок(тж. Желтый император) – мифический родоначальник китайцев (ханьцев).
[Закрыть]Маме казалось, что это вполне могла быть устрица. Не раз в отчаянии она мечтала стать устрицей.
Но это было до того, как ей улыбнулся клоун. Была какая-то магия в иллюзиях, которые он порождал своими фильмами, магия столь простая, что, разгадав ее, Мама улыбнулась – впервые после смерти генерала; улыбнулась, поняв, что она еще не готова присоединиться к любителям зрелищ в цирке смерти. Вместо этого она решила повидать хозяина цирка наедине, перед представлением.
Она отказалась от настойки опия, чтобы очистить сознание. Она стала медитировать, чего не делала уже год. В ночь перед представлением она, как обычно, пришла в кинозал.
Кушетки были поставлены рядами, ставни на окнах закрыты, дверь плотно затворена. Она ждала до полуночи, а потом выскользнула из комнаты. К тому времени ее товарищи одурели от опиумного дыма, а клоун прерывисто храпел, раскинувшись на трех или четырех стульях возле заглохшего кинопроектора. Аппарат все еще мурлыкал, бобина все вертелась и вертелась, но кадр на стене не менялся – крестьянский сарай, к двери которого прижималось какое-то животное. Может быть, аппарат заглох, когда один кадр сменялся другим.
Никто не видел, как она уходит. Она подозвала рикшу, закрыла занавески и пустилась в долгий путь по Дороге Бурлящего Колодца.
Она направлялась в заброшенный склад на окраине города. Здание было квадратное, без окон, с высокой застекленной крышей. Ветер донес до нее приглушенный вскрик.
Она прошла по коридору, сделанному из полотнищ, мимо занавешенных клеток со зверями. Странные костюмы, блестящие и похожие на звериные шкуры, свисали из упаковочных ящиков. Сам склад оказался огромным открытым пространством, залитым лунным светом. Потолок аркой выгибался в небо, углы тонули в темноте. Эхо здесь терялось в бесконечности, потому что эта огромная пустая арена была не чем иным, как пещерой сознания.
Он стоял на усыпанной опилками арене. На нем был черный котелок и розовато-лиловый фрак. В одной руке он держал рупор, в другой – хлыст. Он стоял, откинув голову и раскинув руки, глядя в небо.
Она подошла к нему и поклонилась. Она сказала ему, кто она такая и почему пришла. Добавила, что она из числа тех, кто дал денег на это представление, но решила не приходить, хотя и жаждет забыть о своих невзгодах. Вот она и пришла одна, чтобы узнать от самого хозяина смысл его последнего представления.
Он разразился мрачным хохотом и стал ходить туда-сюда по арене, взмахивая хлыстом и выкрикивая приказания в рупор. Он говорил о вере, обмане, о масках. Взмахами рук он, как волшебник, вызывал духов исторических личностей, императоров и крестьян, варваров и поэтов. Потом он разразился путаным монологом о любви, о любви реальной и о любви возможной.
Слова срывались с его уст в такт взлетам хлыста, в рупор он бросал вызов воображаемым зрителям. Она поняла – этот человек заблудился в стране диковинных зверей и дикарских костюмов.
Она не знала, откуда взялось охватившее его отчаяние, но, глядя, как он вышагивает по арене, почувствовала, как в ее сознании забрезжило странное видение. Перед ее внутренним взором предстал нагой гигант, свалившийся возле лампы, которая бросала на стену едва различимые бессмысленные образы.
Это видение было так живо, что поразило ее. Почему оно пришло к ней тогда? Что связывало этих двух безымянных людей – безымянного киномеханика и безымянного хозяина цирка?
Она посмотрела на застекленную крышу, заглянула в темные углы склада, долго глядела на крохотную арену, усыпанную опилками. Она слушала возбужденный голос хозяина цирка и слышала внутри себя свой собственный шепот – слова, что она ночь за ночью нашептывала на ухо молчаливому толстяку, а он сидел, нагой и неподвижный, бесстрастный, не дрогнув выслушивая все ужасы, о которых она повествовала, неподвластный кошмарам, в которых она жаждала раствориться.
Она мгновенно сбросила с себя одежду и бросилась к хозяину цирка, остановила его, вырвала у него из рук рупор, хлыст – и сжимала его в объятиях, пока не стихли его всхлипывания и судороги, – и пока он не почувствовал, что обрел в ней благословение Божье, которое утратил давным-давно, благословение, которое и она утратила, как ей казалось, навсегда, не зная до той минуты, что дар вернулся к ней благодаря нагому гиганту; он кивал ей, и кивок его был прощение.
Они любили друг друга до рассвета. Оставив его, она долго брела, размышляя о возвращении в Японию.
В ту ночь она сидела у открытого окна, глядя на звезды. Полночь прошла, уходили часы. Она вспоминала все, что ей пришлось пережить, думала о страданиях хозяина цирка, который в ту самую минуту показывал призраки своего прошлого в ужасных костюмах, отворял клетки диких зверей, открывал представление в цирке смерти. Но в ту же минуту, в то же время она ощутила в своем теле биение новой жизни.
Познав десять тысяч мужчин, она забеременела лишь однажды. Теперь она знала, что это случилось вновь. Благодаря нагому гиганту она вновь научилась любить, она насладилась любовью и теперь понесла сына хозяина цирка.
* * *
Мальчик родился на старой вилле генерала в Токио. В нем явственно сказывалась кровь белых, и поэтому она не могла оставить его у себя. Близилась война с Западом, и было бы небезопасно растить его в Японии. Как ни тяжело ей было расстаться с ребенком, она должна была увезти его из страны, пока еще оставалось время.
Она отправилась к одному человеку, который, пожалуй, мог помочь ей, – к миссионеру, дружившему с братом генерала. Отец Ламеро выслушал ее рассказ и согласился отослать младенца в Америку. Скрывая муку, она отдала ему младенца.
Разразилась война с Западом, закончившаяся для Японии поражением. Перед войной двери в Японии не запирали, но теперь отчаявшиеся люди крали все, что только можно было унести. В ее дом каждую ночь врывалась новая банда умирающих от голода воров, которая тут же сменялась следующей.
Шофер генерала, который стал служить ей в конце войны, предложил нанять одну из этих состоявших из бывших солдат банд, чтобы охранять дом и не пускать в него другие банды. Но у Мамы появилась другая мысль, как всегда, в духе Дао. Она процитировала Лао-цзы.
Когда в империи царит Дао, бешено несущихся жеребцов поворачивают, чтобы своим навозом они удобряли земли.
Но что это значит? спросил капрал.
Это значит, отвечала она, что люди, которые вчера были героями, а сегодня стали ворами, когда-нибудь вновь станут героями. Они и есть бешено несущиеся жеребцы, и, если мы проявим по отношению к ним мудрость Дао, их навоз удобрит будущее.
Навоз? удивился капрал.
У человека бывают выделения нескольких видов, отвечала Мама. В этом доме все еще остаются три или четыре служанки, и я уверена, что поблизости найдутся и другие женщины, которые соскучились по мужчинам за долгие годы войны. Так что не будем нанимать охранников, лучше пригласим этих жеребцов в дом. Сам увидишь.
Капрал боялся, что из этого не выйдет ничего хорошего, но замыслы и поступки Мамы соответствовали Дао, и она это знала. Вскоре начала возрождаться новая Япония, трудолюбивая и искусная, энергичная, процветающая.
Многие старые традиции ушли в прошлое, но ничто не изменилось заметнее, чем нравы и обычаи публичных домов, с которыми Мама познакомилась ребенком, в которых совершенствовалась девушкой и с которыми рассталась молодой женщиной, – изысканное и совершенное знание мужчин, неотъемлемая принадлежность японского борделя, каким бы жалким он ни казался с виду, – по-настоящему уникальные и утонченные ворота в мир, которому не было равных, кроме, пожалуй, путей мистиков, ищущих утешения не в этом мире, а в потустороннем.
Изысканные бордели предвоенных лет сменились блестящими барами лет послевоенных, но потом американские солдаты ушли, и японские мужчины успокоились и начали обдумывать уроки войны и оккупации. Потерпев поражение в попытке завоевать Азию, японские ветераны приняли мир и построили промышленность, чтобы обеспечивать американцев, а, те в свою очередь, одержав победу, теперь вели войны по всему континенту, опустошая огромные территории, восполнявшие потери за счет японских товаров и производств, чтобы восстанавливать разрушенное, – и так Япония достигла процветания, еще двадцать лет назад и не снившееся ни одному милитаристу или ультранационалисту.
Но неожиданный поворот истории, благодаря которому Япония, проиграв войну, обрела больше, чем утратила, не обошелся без потерь. Где-то в лихорадочной неразберихе, по мере победного шествия демократии, исчез традиционный японский бордель, унеся с собой оригинальное восточное искусство любви и одно из редчайших творений – японскую гейшу.
Никто больше не хотел платить деньги за постигшее множество пленительных искусств и уловок тело женщины, за аристократическую улыбку, за тонкие замечания и несравненную остроту ума в игре в палочки. Деловые люди новой Японии были по горло заняты своими нынешними товарами и товарами, которые они вот-вот приобретут, так что, когда приходило время расслабиться, они предпочитали лежать на спинах в массажном кабинете, глядя сквозь пар в потолок, подсчитывать прибыли, подыскивать новые рынки, предаваться одиноким, величавым мечтаниям, пока уверенные руки невидимой женщины не покажутся в клубах пара и не станут ласкать их, быстро доводя процесс до победного завершения.