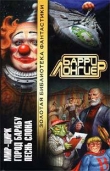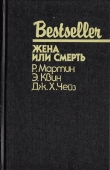Текст книги "Шанхайский цирк Квина"
Автор книги: Эдвард Уитмор
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц)
Эдвард Уитмор
Шанхайский цирк Квина
Предисловие
Наш лучший неизвестный писатель Эдвард Уитмор (1933–1995)
Со времен войны с Японией прошло примерно двадцать лет, когда в Бруклин прибыло грузовое судно, доставившее в Америку самую большую коллекцию японской порнографии, когда-либо появлявшейся на Западе. Владелец коллекции, огромный улыбчивый толстяк по имени Герата, предъявил на таможне паспорт, из которого следовало, что он, коренной американец, родился в начале века и выехал из Соединенных Штатов около сорока лет назад».
Так начинался «Шанхайский цирк Квина»; заканчивался он двести девяносто две страницы спустя похоронной процессией, пышнее которой Азия не знала с тринадцатого века. Год был 1974-й, автор – Эдвард Уитмор, сорокаоднолетний бывший американский разведчик; мы с ним вместе учились в Йеле еще в пятидесятых, но потом наши пути разошлись – его завербовало ЦРУ, а я начал издательскую карьеру в Нью-Йорке. Не стоит и говорить, что мне было приятно, когда мой старый йельский однокашник предложил свой роман издательскому дому «Хольт, Райнхарт и Уинстон», где я тогда возглавлял редакцию художественной литературы. Мне было еще приятнее, когда начали поступать рецензии, по большей части благожелательные. Всех перещеголял Джером Чарин в «Нью-Йорк ревью оф букс»: «"Квин" – по-настоящему сумасшедшая книга, полная загадок, истин, неправд, умственно отсталых гениев, некрофилов, магов, карликов, циркачей, секретных агентов… чудесное переосмысление истории нашего века».
За следующие пятнадцать лет Уитмор написал еще четыре куда более фантастических романа, свой «Иерусалимский квартет»: «Синайский гобелен» (1977), «Иерусалимский покер» (1978), «Нильские тени» (1983) и «Иерихонскую мозаику» (1987). Рецензенты и критики сравнивали его работы с романами Карлоса Фуэнтеса, Томаса Пинчона и Курта Воннегута. В «Паблишере уикли» его назвали «нашим лучшим неизвестным писателем». Джим Хуган в «Харперс мэгэзин» писал, что Уитмор – «один из последних и лучших аргументов против телевидения… Он – писатель выдающегося таланта. Атмосфера может показаться знакомой любителям шпионских романов, но она полностью преображена безудержным юмором автора, его мистическими склонностями и его стереоскопическим восприятием истории и времени».
Эдвард Уитмор умер от рака простаты летом 1995 года в возрасте шестидесяти двух лет, будучи не более известен, чем в самом начале своей короткой, но ошеломительной писательской карьеры. Его романы никогда не расходились тиражом, большим пяти тысяч экземпляров, – в твердом переплете; три из пяти романов были недолго доступны в карманном издании, а «Квартет» был опубликован в Великобритании, Голландии и Германии; на суперобложке Уитмора характеризовали как «виртуоза-рассказчика». На переплете польского издания «Шанхайского цирка Квина» воспроизводился великолепный образец японской эротики.
* * *
Уитмор закончил школу Диринг в Портленде, штат Мэн, в июне 1951 года, той же осенью поступил в Йельский университет и в 1955 году его закончил. Один писатель назвал йельских студентов пятидесятых «безмолвным поколением». Пятидесятые были еще и «годами Эйзенхауэра», затишьем между Второй мировой войной и радикализмом шестидесятых; до массовых волнений в кампусах было еще далеко.
Университеты «Лиги плюща» по-прежнему набирали студентов из престижных школ Новой Англии. Эти сыновья больших родителей с Восточного побережья были ближе к Принстону Ф. С. Фицджеральда и Гарварду Джона П. Маркванда, чем к миру Джека Керуака и Аллена Гинзберга. Они были «джентльменами» и спортсменами, но не обязательно учеными. Получив «джентльменские тройки» в Йеле и других университетах «Лиги плюща», они обычно делали карьеру на Уолл-стрит или в Вашингтоне; становились юристами, врачами или журналистами.
Они развлекали друзей и родственников на йельских стадионах, издавали ежедневную газету «Йель дейли ньюс», юмористический журнал «Йель рекорд» и ежегодник «Йель бэннер», возглавляли студенческую радиостанцию, пели в разнообразных йельских группах и обычно были членами того или иного «братства», а потом и общества старшекурсников.
По тогдашним йельским стандартам Уитмор был невероятно удачлив. Любезный, симпатичный и аккуратный, он встречал мир загадочной улыбкой. Одевался он как бы небрежно, но всегда «в стиле»: твидовый пиджак в елочку, предпочтительно с кожаными заплатами на локтях, репсовый галстук, холщовые брюки и поцарапанные белые ботинки. Словом, типичный «ботинок» (сокращение от «белый ботинок», термин социального одобрения). Он не очень-то занимался спортом, но входил в братство «Дзета пси», объединявшее серьезно пьющих студентов из хороших семей. На предпоследнем курсе он был избран в «Скролл-энд-ки». [1]1
Одно из влиятельнейших обществ студентов-старшекурсников в Йельском университете. (Здесь и далее – прим. перев.)
[Закрыть]
Но по-настоящему известен он был потому, что в 1955 году возглавлял редакционный совет «Йель ньюс» – именно в то время, когда редакторы студенческих газет были не менее популярны, чем капитаны футбольных команд и отличники учебы. В пятидесятые из «Йель ньюс» вышли такие популярные писатели-журналисты, как Уильям Ф. Бакли, Джеймс Клод Томсон, Ричард Валериани, Дэвид Маккаллоу, Роджер Стоун, М. Стэнтон Эванс, Генри С. Ф. Купер, Кельвин Триллин, Гарольд Гулливер, Скотт Салливан и Роберт Семпл. Они оставят свой след в «Нью-Йорк таймc, «Нью-йоркере», «Тайме», «Ньюсуике», «Нэшнл ревью» и на Эн-би-си и напишут много книг.
* * *
Я встретил Теда ранней весной на первом курсе. Мы оба были в «Ньюс» мальчиками на побегушках в весеннем «состязании»; по традиции финалисты этого сурового конкурса и издавали «Ньюс» – так мы и оставались друзьями следующие три года. Многие из нас в газете считали, что Тед намеревается сделать карьеру на Уолл-стрит в «Браун Бразерс Гарриман», престижной инвестиционной компании, где стреляные йельские воробьи из «Скролл-энд-ки» более чем приветствовались и где позже работал старший брат Уитмора. Или что он хотя бы пойдет по журналистской стезе где-нибудь в империи «Тайм» и «Лайф», основанной еще одной «шишкой» из «Йель ньюс», Генри Льюсом.
Но мы ошибались. Он отслужил некоторое время офицером в корпусе морской пехоты, расквартированном в Японии, а сразу после демобилизации был завербован ЦРУ, прошел ускоренный курс японского и больше десяти лет занимался разведывательной деятельностью на Дальнем и Ближнем Востоке, а также в Европе.
В те годы Уитмор иногда возвращался в Нью-Йорк. «Ну и что ты теперь затеваешь?» – обычно спрашивали у него. Некоторое время он издавал газету в Греции. Потом была обувная фабрика в Италии и какой-то «мозговой центр» в Иерусалиме, и даже кратковременный пост в нью-йоркском управлении по борьбе с наркотиками, когда мэром был Джон Линдсей. Потом ходили слухи, будто он пьет или даже на что-то подсел.
Пока он служил в морской пехоте и в ЦРУ, Тед успел дважды жениться и развестись. От первой жены у него было две дочери, с ними он расстался довольно рано. Пока они росли на Восточном побережье, ему не позволялось с ними встречаться. Этого требовало соглашение о разводе. И потом были другие женщины. Их было много, и все талантливые – художницы, фотографы, скульпторы и танцовщицы, но никогда – писательницы.
Ходили и другие сплетни. Будто бы он оставил ЦРУ и живет на Крите в нищете; будто бы он что-то пишет. Потом тишина. Очевидно, белокурый студент не снискал ни чести, ни славы.
Тед вновь объявился в моей жизни только в 1972-м или 1973-м. Я же, проведя два года в аспирантуре на исторической кафедре Йеля и еще год в Вене и Берлине, вернулся в Нью-Йорк поздней осенью 1958-го. Пока Тед работал на федеральные органы, я редактировал книги для «Дж. П. Путнэмсанз», как это издательство тогда называлось. В 1963-м я перешел в «Хольт, Райнхарт и Уинстон», довольно крупный издательский дом, приобретенный Си-би-эс, где и работал, когда Тед лет через десять ненадолго заехал в Нью-Йорк. С виду он был все тот же старый добрый Тед. Пусть слегка помятый – но зато и остроумие, и чувство юмора, и этакий мальчишеский шарм по-прежнему были при нем. Впрочем, он показался мне более внимательным, задумчивым, и при нем была Кэрол, женщина, с которой он познакомился еще на Крите, а теперь, судя по всему, они жили вместе. В нем появилась незнакомая мне прежде замкнутость. А еще он привез с собой рукопись романа и хотел, чтобы я ее прочел. Книга мне показалась чудесной, она была полна потрясающих и экзотических персонажей и просто бурлила жизнью, историей и тайнами Востока.
Роман, который получил название «Шанхайский цирк Квина», прошел еще три редакции, прежде чем мы его опубликовали. Действие происходило в Японии и Китае до и после Второй мировой, а начиналось – в первых двух редакциях – в двадцатые годы в Южном Бронксе, и героями были три молодых брата-ирландца по фамилии Квин. К моменту выхода романа Квин остался только один, и бронкская прелюдия сжалась с восьмидесяти страниц до пары абзацев.
Как я уже говорил, «Квин» имел больший успех у критиков, чем у читателей. Читатели полюбили роман, но их было слишком мало. Однако Уитмор не терял присутствия духа. Меньше чем через два года он снова появился у меня с еще более амбициозным проектом – «Синайским гобеленом», первым томом «Иерусалимского квартета». Действие романа происходило в пору расцвета Британской империи в Палестине середины девятнадцатого века. Из когорты ярких персонажей выделялись: исполинского роста английский аристократ, величайший фехтовальщик, ботаник и исследователь викторианской Англии; фанатичный монах-траппист, нашедший подлинную «Синайскую Библию», которая «отвергала все религиозные истины всех верующих на свете»; О'Салливан Бир, ирландский радикал, бежавший в Палестину, переодевшись монашкой. Мой любимый персонаж – это Хадж Гарун, которому три тысячи лет от роду, эфемерный скиталец по эпохам; ныне он торговец древностями, в линялой желтой накидке и ржавом рыцарском шлеме выполняющий свою миссию – защищать Священный город. За всю историю он сменяет много обличий: во время ассирийского нашествия вырезает из камня крылатых львов, под игом греков держит круглосуточную бакалейную лавку, под властью римлян он официант, а туркам продает гашиш и коз. Персонажи Уитмора – не только создание его великолепного воображения. Когда я впервые оказался в Израиле, в 1977-м, Уитмор работал над новым романом в Нью-Йорке, но он дал мне адреса нескольких человек в Иерусалиме. Одного звали Мохаммед, он держал музей древностей. Мы встретились, и это оказался удивительный чудак – носи он линялую желтую накидку и ржавый рыцарский шлем, был бы как две капли воды похож на Хадж Гаруна.
Естественно, Тед попался на крючок новой жизни в Иерусалиме, в Священном городе. Промежуточный период на Крите, где он жил на скромную пенсию в начале семидесятых, был позади. Тогда он снимал вместе с друзьями дом в Хании, втором по величине городе Крита. За долгую историю этого города его завоевывали римляне, арабы, византийцы и венецианцы – до тех пор, пока в семнадцатом веке он не стал частью Османской империи. Теперь это был кипящий жизнью греческий город, Афины без Парфенона, но с еще более богатой историей. Отличное место для бывшего агента разведки, чтобы передохнуть, оглядеться и решить для себя, что это вообще такое – история, переосмыслить выученное в Йеле (классическая Греция и Рим, христианство, «темные века» и Возрождение) и уяснить мир, лежавший вне кругозора йельского выпускника образца пятидесятых: арабский бунт, всколыхнувший Аравийскую пустыню и Азию, которые, без сомнения, были совершенно незнакомы Теду до того, как в Японии его завербовало ЦРУ.
На Крите он снова начал писать (в Японии, в шестидесятые, он сочинил два неопубликованных романа, один – о японской игре го, а другой – о молодом американце, живущем в Токио), медленно, неуклюже экспериментируя с авторским голосом, стилем и темами, переплавляя свой опыт разведывательной работы в комический эпос «Шанхайского цирка Квина». Но теперь, замахнувшись на «Квартет», он был более уверен в себе; он стал настоящим писателем и нашел предмет, который будет занимать его до конца дней: Иерусалим и мир христиан, арабов и евреев; вера и верования, мистицизм и религиозный (а также политический) фанатизм; европейский империализм девятнадцатого века, войны и терроризм века двадцатого. Но превыше всего – Иерусалим, Город на горе, Священный город. Его романы все так же были полны скандальных персонажей-и насилия, юмор его оставался по-прежнему мрачен и абсурден. Однако появилась и новая безмятежность, понимание тайн жизни. И еще появилась женщина – Кэрол, фотограф, – с которой Тед жил, когда бывал в Нью-Йорке.
Новый роман, наконец опубликованный в семьдесят восьмом, назывался «Иерусалимский покер»; это был второй том «Квартета». Он повествует о двенадцатилетней игре в покер, начавшейся в последние дни декабря 1921 года. За стол садятся трое; ставка – ни больше ни меньше как сам Священный город. Где же и происходить столь важной игре за тайную власть над Иерусалимом, как не в лавке древностей Хадж Гаруна? На самом деле Уитмор не жил в Иерусалиме постоянно (постоянно – в его смысле слова) до того, как начал писать свой «Квартет». Изначально его знания о Иерусалиме были основаны на книгах, а потом – на его бесконечных прогулках по запруженным толпой улицам и кварталам Старого города, где жили всякого рода купцы, торговавшие едой, хлопком, коврами, мясники, кожевники, стеклодувы, ювелиры, серебряных дел мастера и даже торговцы скобяным товаром; там можно было услышать все языки мира и полюбоваться на всевозможные экзотические наряды, какие только есть на Ближнем Востоке. Как я однажды сказал Теду, я бы не удивился, если, проходя по узким переулкам Арабского квартала, мы наткнулись бы на Синдбада-морехода.
В следующий мой приезд в Иерусалим Тед жил с Хелен, художницей-американкой, в просторной квартире в большом каменном доме на территории анклава эфиопской церкви. Их окна выходили в сад, полный цветов и лимонных деревьев. Над одной стеной вырисовывался монастырь цистерцианцев, а за углом была синагога, всегда заполненная ортодоксальными студентами, которые молились день и ночь – или так мне, по крайней мере, казалось. А в саду стояли или тихо читали монахи. Однажды утром я проснулся в шесть в залитой солнцем комнате и услышал, как монахини поют а капелла. Их пение было как пение птиц, и мне показалось, что я в раю.
Вздремнув после обеда, мы обычно отправлялись в Старый город и неизменно заканчивали путешествие в одном и том же кафе, вернее в претендующем на это название маленьком чайном садике, где всегда можно было выпить горячего чаю и съесть липкую булочку. За одним столиком сидел сам владелец, безостановочно перебирая четки и болтая с приятелями – вечно меняющейся группой местных купцов, менял и студентов; там же было несколько откровенно темных личностей. Они все приветственно кивали Теду, который знал о Старом городе не меньше – если не больше – его коренных жителей.
* * *
К 1981-му Уитмор большую часть года жил в квартире в эфиопском анклаве, но в последующие годы снимал и жилье в Нью-Йорке – квартиру в доме без лифта на Лексингтон-авеню, студию на Третьей авеню. И он все время упорно работал. Я ушел от «Хольта» в начале той весны и начал работать в другом издательстве, а редактировать новый роман Уитмора, «Нильские тени», взялась Джуди Карасик. Этот талантливый редактор – вскоре ушедшая из книжного бизнеса, к прискорбию многих работавших с нею авторов, – написала эпилог к «Иерусалимскому квартету», надгробную речь, которую она должна была бы произнести, но не произнесла на похоронах Уитмора, через двенадцать лет после выхода «Нильских теней». Это один из лучших рассказов о совместной работе автора и редактора, которые я знаю. Действие «Нильских теней» происходит в Египте в 1942 году; Африканский корпус Роммеля угрожает захватить Египет и поставить весь Ближний Восток под немецкий контроль. Группа уитморовских персонажей – старые знакомцы и новички – держит в руках судьбу мира. В самом начале Романа Стерн, идеалист-мечтатель из «Синайского гобелена», ставший полвека спустя контрабандистом оружия, погибает от взрыва фанаты, брошенной в дверь захудалого бара. Насилие и мистицизм доминируют в романах Уитмора. В «Шанхайском цирке Квина» он с ужасающей, предельной зримостью описывает разграбление Нанкина, в «Синайском гобелене» – бойню в Смирне в 1922-м, когда турки вырезали десятки тысяч греков: мужчин, женщин и детей. Обозреватель «Паблишерс уикли» назвал «Нильские тени» «одним из самых сложных и амбициозных шпионских романов за всю историю литературы». А критик в «Нейшн» писал: «Уитмор – обманчиво ясный стилист. Будь его синтаксис так же вычурен, как у Пинчона, или так же откровенно грандиозен, как у Набокова или Фуэнтеса, его прошедшие почти незамеченными романы могли бы привлечь то внимание, которого они безусловно заслуживают».
Но продажи не поспевали за критиками. Весной 1985 года Уитмор заканчивал роман, который будет назван «Иерихонская мозаика», – четвертый том «Иерусалимского квартета». Я был в Израиле на проходящей каждые два года Иерусалимской книжной ярмарке. После нее Тед предложил проехать к Иерихону, в тот оазис юго-восточнее Иерусалима, откуда в библейские времена отправлялось большинство караванов – в Левант, Малую Азию, Африку. По пути мы посетили несколько греческих монастырей в Иудейской пустыне. Они вырублены в толще камня у подножия ущелий, которых можно достичь лишь по узким тропинкам, и поэтому нам приходилось оставлять машину на дороге и карабкаться по склонам, больше подходящим для горных коз, чем для писателя и нью-йоркского редактора. И все же, когда мы достигли монастыря, монахи встретили нас чрезвычайно гостеприимно. Уитмор был там частым гостем, и монахам, похоже, нравилось его общество. После того как нам показали их каменные жилища – не более чем пещеры, слегка приспособленные для жилья, – и попробовав ужасной рецины [2]2
Крепкое греческое вино со смолистым привкусом.
[Закрыть](сами монахи ее не пили), мы поехали к Иерихону, где нас ждал типичный обед из сушеных фиг, выпечки, дынь и горячего пахучего чая. Потом мы направились в пустыню Негев. За проведенные там годы Тед завел знакомство с местными бедуинами, и на нескольких стоянках нас приняли как старых друзей. Мы провели ночь в израильском метеорологическом центре, он же гостиница, у набатейских развалин посреди пустыни. Все кругом было утыкано антеннами и датчиками, и, как мы тогда говорили, «люди в штатском» из Лондона, Вашингтона, Москвы и Пекина могли, наверно, слышать в пустыне каждый воробьиный чих. Я еще думал: а что, если Тед не ушел в отставку, что, если он все еще работает на ЦРУ и использует меня в качестве прикрытия? Но такую волю фантазии я давал не в последнюю очередь потому, что начитался Грэма Грина и Джона Ле Kappe, двух любимых писателей Уитмора.
Несколькими месяцами позже Тед прислал мне открытку, в которой просил оставить местечко в перспективном плане для его нового романа. На открытке была нарисована византийская мозаика «Дерево жизни», которую мы с Тедом видели на каменном полу развалин в Иерихоне. Я показал открытку главному художнику издательства «У. У. Нортон», где я тогда работал главным редактором. Он согласился, что это изображение будет замечательно смотреться на суперобложке. Оставалось только получить рукопись.
* * *
«Иерихонская мозаика» оказалась у нас еще до конца года – идеальное завершение великолепного «Квартета». Я считаю, что «Иерихонская мозаика» – самая захватывающая и оригинальная шпионская история в мире. Она основана на событиях, действительно имевших место во время Шестидневной войны, и Уитмор демонстрирует здесь доскональное знание мастерства разведчика, свою любовь к Ближнему Востоку, свою преданность Священному городу и страстное желание мира и понимания между арабами и евреями (да и христианами). Автор показывает, что мы способны преодолеть религиозные, философские и политические разногласия, если будем готовы посвятить себя мудрости, терпению и настоящему пониманию каждого народа и каждой мысли.
Это гуманистическое послание вплетено в ткань шпионской истории, основанной на реальной биографии Эли Коэна – сефарда, пожертвовавшего жизнью (он сумел передать Моссаду сирийские планы и карты обороны Голанских высот) ради спасения Израиля. Герой же Уитмора – сириец, ставший в пятидесятые годы удачливым бизнесменом в Буэнос-Айресе и возвращающийся на родину, чтобы поддержать арабскую революцию. Этот патриот, Халим, становится искренним защитником прав палестинцев, «неподкупным», совестью арабского дела. Но на самом деле Халим – еврей, двойной агент Моссада по кличке Бегун, имеющий задание внедриться в высшие сирийские военные круги. В то же время роман этот содержит глубокие размышления о природе веры – когда арабский праведник, христианский мистик и бывший офицер британской разведки сидят в саду в иерихонском оазисе и беседуют о религии и гуманизме в их разных обличьях.
Немногие критики заметили «Иерихонскую мозаику», а продажи были еще меньше, чем у предыдущих книг «Квартета». Арабы и евреи были вовлечены в кровавое противостояние на Западном берегу реки Иордан, газеты и журналы полнились зловещими фотографиями, телевидение каждый день показывало жуткие кадры и сюжеты. Это было неподходящее время для писателей, воспевающих вечные истины, как бы замечательно они ни писали. Тем не менее один критик провозгласил «Квартет» Уитмора «лучшей метафорой разведки в американской прозе за последние годы».
Вскоре после опубликования «Иерихонской мозаики» Уитмор покинул Иерусалим, эфиопский монастырь и американскую художницу. Он вернулся в Нью-Йорк и первую зиму прожил с Энн – женщиной, с которой познакомился много лет назад: она с ее тогдашним мужем и Тед с его первой женой были близкими друзьями. Летом он переезжал в обветшалый белый фамильный особняк в Дорсете, штат Вермонт. На окнах были зеленые ставни, а перед домом – лужайка размером в акр, окруженная огромными величественными деревьями. Двадцать или около того комнат были распределены по дому в каком-то произвольном новоанглийском викторианском порядке, а мебель оставалась еще со времен его бабушки и дедушки, если не со времен прабабки и прадеда. У братьев и сестер Теда были свои дома, и Тед теперь занимал особняк практически один. Жить там можно было только с мая по октябрь. Но для Теда это была гавань, в которой он мог укрыться и писать.
* * *
Весной 1987 года я стал литературным агентом, а Тед – одним из моих клиентов. Книгоиздательский бизнес в Америке постепенно скупался международными конгломератами со штаб-квартирами в основном в Германии и Великобритании. Коммерция значила для них гораздо больше, чем литература, и мне показалось, что я смогу сделать для писателей больше, если буду представлять их работы дюжине издателей, чем если буду работать на какого-то одного. В конце сентября – начале октября я регулярно навешал Теда в Дорсете. Листопад в Новой Англии – особый период: бодрящие ясные осенние дни, дивно прохладные лунные ночи. Днем мы бродили по лесам и полям южного Вермонта, после обеда сидели перед домом на твердых зеленых адирондакских стульях, с напитками и сигарами. На самом-то деле с напитком и сигарой был один я. Тед бросил пить много лет назад (его «привычка» стала настолько серьезной, что он вступил в Общество анонимных алкоголиков) и теперь выкуривал только одну угрожающего вида черуту вечером. Удобно устроившись на лужайке около Объединенной церкви, в которой его прадед был священником, с видом на деревенскую зелень и Дорсет-Инн, мы беседовали за полночь, не о Йеле или его годах в ЦРУ, но о книгах, писательстве, семье и друзьях. Тед был «паршивой овцой», выпускником Йеля, который ушел в ЦРУ, там выгорел и вернулся домой через Крит и Иерусалим странствующим романистом, книги которого получали пылкие отзывы и менее чем пылко раскупались. Но его семья – а в тот момент скорее «его женщины» – поддерживала его и продолжала в него верить. Он был действительно без гроша, но его старшие братья и сестры обеспечили ему крышу над головой.
Именно в те свои приезды я обнаружил, что его прадед Прентисс был священником пресвитерианской церкви, который в 1860-е приплыл по Гудзону из Нью-Йорка в Трою, а затем поездом и повозкой прибыл в Вермонт. В библиотеке этого белого, беспорядочно выстроенного, обшитого досками дома в Дорсете были целые шкафы выцветших, в кожаном переплете, популярных романов «для продавщиц», принадлежавших перу его прабабки, в которых подробно рассказывалось, как сделаться более привлекательной, найти подходящего мужа. Я понял, что она была Даниэлой Стил своего времени и что своим скромным состоянием семья была обязана скорее ее литературным трудам, чем щедрости паствы.
Мы говорили о новом романе. Ориентировочно звавшийся «Сестра Салли и Малыш Билли», он должен был стать первым «американским» романом Теда. Действие его происходило в Чикаго в «ревущие двадцатые», и главным героем был молодой итальянец, старший брат которого, гангстер, помогает ему купить цветочный магазин. Но происходит перестрелка, старший брат погибает, и Малыш Билли бежит на Западное побережье, где встречает целительницу, в которой есть что-то от Эйми Семпл Макферсон. Реальная Макферсон исчезла на месяц в 1926-м, а объявившись вновь, утверждала, будто ее похитили. За каменным домом, в котором Maлыш Билли и его целительница проводят месяц любви (с самого начала она дает ему понять, что их идиллия должна ограничиться одним месяцем), есть окруженный стеной сад, полный лимонных деревьев и певчих птиц, и хотя дом находится в Южной Калифорнии, на самом деле этот воображаемый сад – в Иерусалиме, между синагогой и монастырем цистерцианцев, у дома, где Тед жил с Хелен, художницей-американкой.
Потом, весной 1995-го, Тед позвонил мне в Нью-Йорк. Может ли он зайти ко мне в офис сегодня? Я предположил, что он принесет мне долгожданный новый роман (со времен «Иерихонской мозаики» уже было два фальстарта). Вместо этого он сказал мне, что умирает от рака простаты. Не соглашусь ли я быть его литературным душеприказчиком? Примерно за год до того Теду поставили диагноз. Время для операции было упущено. Его доктор прописал ему гормоны и прочее лечение, и у него началась ремиссия, – но теперь пошли метастазы. Меньше чем через шесть месяцев, в августе, он был мертв. То были ужасные для него месяцы. И все же в последние недели и дни, когда он то терял сознание, то снова приходил в себя, за ним ухаживали «его женщины», одна из которых, Кэрол, вернулась в его жизнь после почти двадцатилетней разлуки.
После тихой, трогательной службы в Дорсетской объединенной церкви были устроены поминки – на широкой лужайке перед фамильным домом, бывшим «дачей» для Теда в последние десять лет его жизни. Там и сошлись несопоставимые части мира Теда, может быть, впервые: там была его семья, две его сестры и два брата с супругами, племянники и племянницы с собственными семьями (но не было ни его жен, ни дочерей, прилетавших в Нью-Йорк, чтобы проститься с отцом, которого едва знали, на смертном одре), там были соседи, друзья по Йелю и пара коллег из линдсеевской администрации. А как насчет «призраков прошлого»? Не могу ручаться, но восемь йельских «призраков», члены «Скролл-энд-ки» 1955 года, были точно. Энн и Кэрол тоже были. Они стали союзницами, ухаживая за Тедом в те последние горькие дни.
Иерусалим и Дорсет. Прекрасный Священный город на скале, глядящий сверху на выжженную серо-коричневую пустыню. Город с тысячелетней историей, раздираемый неистовой борьбой величайших империй и трех самых стойких, насущных религий, данных человеку Богом. И зеленая долина в Вермонте (заснеженная зимой и по колено в грязи – весной), где между пологих отрогов Зеленых гор угнездился Дорсет: в свое время – одна из колыбелей Революции и американской демократии, а затем – процветающее сообщество фермеров и мелких промышленников; в этом месте время не двигалось с начала двадцатого века. Иерусалиму были посвящены мечты и книги Уитмора, Дорсет же был тихой гаванью, давшей ему возможность мечтать и писать в последние десять лет жизни.
Наконец Тед вернулся домой, в Новую Англию. Это было долгое путешествие: Портленд, Нью-Хейвен, Япония, Италия, Греция, Крит, Иерусалим, Нью-Йорк и вот теперь – Дорсет, штат Вермонт. В пути он завел много друзей, он был не особенно хорошим мужем и отцом и многих разочаровал. Но постепенно обрел свой авторский голос, написал свои романы и влюбился в Иерусалим. Мне хочется думать, что Тед умер, мечтая о своем любимом Священном городе. В некотором смысле он был заодно с каменотесом/средневековым рыцарем/торговцем древностями Хадж Гаруном. Ведь Уитмор был вечно странствующим рыцарем, который «расцвел» в Йеле пятидесятых, «увял» в ЦРУ в шестидесятые, а потом создал из себя чудесного писателя с уникальным авторским голосом. Голос мистика, который впитал лучшее из иудаизма, христианства и мусульманства. Его прадед-священник и его прабабка-писательница могли бы одинаково им гордиться. Дух его мирно покоится в Дорсете, штат Вермонт.
Томас С. Уоллес
Нью-Йорк, июнь 2000