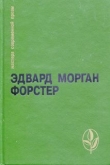Текст книги "Морис"
Автор книги: Эдвард Морган Форстер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 16 страниц)
Вскоре заговорил второй. Спазмы сожаления и раскаяния сотрясали его; он был похож на человека, отрыгивающего яд. Затем, обретя здравие, он начал рассказывать другу все, уже не стесняясь. Он говорил о своей родне… Он тоже был неразрывно связан со своим классом. Никто не знал, что он в Лондоне: в Пендже думали, что он отправился к отцу, отец думал, что он в Пендже – это было трудно устроить, очень трудно. А теперь он должен ехать к отцу, повидаться с братом, с которым плывет в Аргентину. Его брат связан с торговым делом, и брата жена. Алек немного прихвастнул, как все, чье литературное образование недостаточно. Он выходец из уважаемой семьи, повторял он, он не кланялся никому в жизни, только не это, он ничем не хуже любого джентльмена. Но во время своего хвастовства рукой он все крепче сжимал ладонь Мориса. Они заслуживали такой ласки – ощущение было непривычным. Слова оборвались слишком резко, чтобы вновь начать. Алек решил рискнуть.
– Останься со мной.
Морис пошатнулся, и их мускулы сжались. К тому моменту они уже сознательно были влюблены друг в друга.
– Будь со мной в эту ночь. Я знаю место.
– Не могу, у меня назначена встреча, – вымолвил Морис, и сердце его неистово билось. Официальный ужин того сорта, что обеспечивал работу их фирме и который невозможно было пропустить. Он почти забыл об этом ужине. – Сейчас я должен тебя покинуть и переодеться. Но послушай меня, Алек, будь благоразумен. Мы встретимся в другой раз, в любой день.
– Я не смогу больше приехать в Лондон… Отец или мистер Айрс будут ворчать.
– Ну и плевать, что будут.
– Ну и плевать на твой ужин.
Они опять замолчали. Потом Морис промолвил любящим, но упавшим голосом:
– Ладно. Плевать на ужин, – и они пошли вместе под дождем.
XLIV
– Алек, проснись.
Рука дрогнула.
– Время обговорить наши планы.
Он уютно придвинулся ближе, менее сонный, чем делал вид, теплый, мускулистый, счастливый. Мориса тоже переполняло счастье. Он шевельнулся, почувствовал ответное пожатие и забыл, что хотел сказать. Свет струился над ними из внешнего мира, где по-прежнему шел дождь. Незнакомая гостиница, случайное пристанище, защитившее их от врагов еще на какое-то время.
– Пора вставать, мальчуган. Уже утро.
– Тогда вставай.
– Как я могу, если ты меня держишь?
– А ты разве не попрыгун? Я научу тебя прыгать.
Больше в нем не осталось почтительности. Британский Музей это исцелил. Сегодня выходной, он в Лондоне с Морисом, все невзгоды позади, и ему хотелось дремать, убивать время, шалить и заниматься любовью.
Морису хотелось того же самого, что было бы гораздо приятнее, но его отвлекало близкое будущее. Набирающий силу свет делал уют нереальным. Что-то должно быть сказано и условлено. Ради ночи, которая кончалась, ради сна и пробуждения, грубоватости и нежности, смешанных в одно, ради ласкового нрава, ради безопасности тьмы. Повторится ли когда-нибудь эта ночь?
– Что с тобой, Морис? – ибо он вздохнул. – Тебе удобно? Положи голову на меня, как ты любишь… вот так… и Не Волнуйся Ни О Чем. Ты Со Мной. Не Волнуйся.
Да, ему повезло, в том нет сомнения. Скаддер оказался добрым и честным, с кем радостно быть, сокровищем, симпатягой, единственным из тысяч, давно желанным. Но достаточно ли он смел?
– Как хорошо, ты и я, вот так… – Губы настолько близки, что это едва ли речь. – Кто бы мог подумать… Первый раз, как я тебя увидел, я подумал: «Хоть бы мы с ним…» Именно так… «Неужто я и он…» и в том же духе.
– Да, и вот поэтому-то мы должны бороться.
– Больно надо бороться. – Он выглядел раздраженным. – Хватит уже борьбы.
– Но мир против нас. Мы должны сосредоточиться и построить планы, пока не поздно.
– Ну почему тебя всегда тянет сказать что-то этакое и все испортить?
– Потому что это необходимо сказать. Мы не можем позволить себе, чтобы все пошло наперекосяк и чтобы нам опять стало больно, как было в Пендже.
Алек вдруг потер об него тыльной стороной загрубелой от солнца ладони и сказал:
– Это вот больно, верно? Так вот я борюсь. – Это было и впрямь немного больно, и переход к дурашливости явился выражением своего рода обиды. – Не говори мне о Пендже, – продолжал он. – Ох уж этот Пендж, где я всегда был слуга, Скаддер сделай то, Скаддер сделай это, а старая леди, знаешь, что она мне как-то сказала? Она сказала: «Будьте так любезны, не знаю вашего имени, отправьте это письмо» Не знает моего имени! Каждый день целых полгода я приходил к проклятой двери, стоял на крыльце и ждал приказаний от Клайва, а его мать не знает моего имени. Она просто сука. Я сказал ей: «И я не знаю вашего имени». Я правда чуть не сказал. Жалко, что не сказал. Морис, ты не поверишь, как разговаривают со слугами. Не передать словами. И этот Арчи Лондон, с которым ты так любезничал, он тоже не лучше, и ты такой же, и ты. «Эй, поди сюда», и все в таком духе. Ты даже не представляешь, что чуть не упустил меня. Я мог бы не забраться по той лестнице, когда ты позвал, думал, вот, он меня не хочет, и чуть не кипел от злости, когда ты не пришел в лодочный сарай, как я наказывал. Чересчур важный! Посмотрим. Лодочный сарай – такое место, о котором я всегда мечтал. Я о тебе еще ничего не знал, и пошел перекурить, легко открыл замок, заимел свой ключ, кстати сказать… Лодочный сарай, какой оттуда вид на пруд, так тихо, только иногда прыгает рыба, а какую я там приготовил постель!
Он замолчал, выговорившись. Он становился грубоватым, веселым и в чем-то наигранным. Затем его голос потонул в печали, словно правда поднялась на поверхность воды и стала невыносимой.
– Мы еще встретимся в том сарае, – обещал Морис.
– Нет, не встретимся. – Он оттолкнул его, потом вздохнул, с силой притянул к себе ближе и обнял так, словно наступал конец света. – И все равно ты меня будешь помнить. – Он встал с кровати, выглянул вниз из сумерек комнаты, руки его болтались пустые. Он словно хотел, чтобы его запомнили таким. – Я с легкостью мог бы тебя убить.
– Или я тебя.
– Куда подевалась моя одежда? – Он казался растерянным. – Уже так поздно. Я даже не взял бритву. Не собирался оставаться на ночь… Мне надо… Я должен успеть на поезд, чтобы Фред ничего не подумал.
– Пусть думает.
– Представляю, что было бы, если бы Фред нас сейчас увидел.
– Ну так он же не видел.
– А мог бы… Что я хотел сказать: завтра четверг, верно, в пятницу день сборов, в субботу «Норманния» отплывает из Саутгемптона, и прощай старушка Англия.
– Ты хочешь сказать, что мы с тобой больше не увидимся?
– Да, ты понял совершенно правильно.
Если бы сейчас не шел дождь! Влажное утро после вчерашнего ливня, мокрые крыши и Музей, мокро и дома и в лесу. Следя за собой и тщательно выбирая слова, Морис сказал:
– Как раз об этом я и хотел поговорить. Почему бы нам не устроить так, чтобы мы встретились еще раз?
– Ну и как же ты думаешь это сделать?
– Почему бы тебе не остаться в Англии?
Алек стремительно, в ужасе, обернулся. Полуголый, он к тому же казался получеловеком.
– Остаться? – огрызнулся он. – Прозевать пароход, ты что, слабоумный? Такой чепухи я никогда не слыхивал. Опять мною понукать? Не выйдет!
– Это один шанс из тысячи, – то, что мы встретились, больше у нас такого шанса не будет, и ты это знаешь. Останься со мной. Мы любим друг друга.
– Ну и что, это не причина, чтобы делать глупости. Остаться с тобой, но где и как? Что скажет твоя мама, если увидит меня, такого неотесанного и противного?
– Она тебя никогда не увидит. Я не обязан жить дома.
– И где же ты будешь жить?
– С тобой.
– Ах, со мной? Нет уж, спасибо. Моя родня за тебя гроша ломаного не даст, и я их не виню. А как твоя работа, хотелось бы знать?
– Брошу.
– Работу в городе, которая дает тебе деньги и положение? Ты не можешь бросить работу.
– Смогу, если понадобится, – негромко промолвил Морис. – Можно сделать все, если знаешь зачем. – Он посмотрел на сероватый свет, который окрашивался желтизной. Он ничему не удивлялся в этой беседе. Чего он не мог предугадать, так это ее результата. – У нас будет с тобой работа, – проговорил он; наступил момент это объявить.
– Какая еще работа?
– Будем искать.
– Искать и голодать.
– Нет. Денег хватит, чтобы продержаться, пока не найдем. Я не дурак, ты тоже. Мы не станем голодать. Я много об этом думал ночью, когда ты спал.
Наступила пауза. Алек заговорил более вежливо:
– Не будет никакой работы, Морис. Только пропадем оба, неужели не ясно? Да ты и сам понимаешь.
– Не понимаю. Может, да. А может, нет. «Классы». Не понимаю. Зато я знаю, что мы будем делать сегодня. Уберемся отсюда, хорошенько позавтракаем и поедем в Пендж или куда захочешь, увидимся с этим твоим Фредом. Ты скажешь ему, что передумал насчет эмиграции и что вместо этого решил работать с мистером Холлом. Я пойду с тобой. Мне плевать. Я готов встретиться с кем угодно, готов на все. Если они догадаются, пускай. С меня довольно. Скажешь Фреду, чтобы он сдал твой билет. Я заплачу, и это станет нашим первым шагом к свободе. Затем мы сделаем еще одну вещь. Это рискованно, а что не рискованно? Но мы живем один раз на свете.
Алек цинично рассмеялся и продолжал одеваться. Его манеры напоминали вчерашние, хотя он не пытался шантажировать.
– Ты говоришь как человек, которому никогда не приходилось зарабатывать на кусок хлеба, – сказал он. – Заманиваешь меня словами «Я тебя люблю» и все такое, а потом предлагаешь отказаться от карьеры. Ты хоть понимаешь, что в Аргентине меня ждет конкретное дело? Такое же, как у тебя здесь. Жалко, что «Норманния» отходит уже в субботу, но факт остается фактом, мне накупили одежды, есть билет, и Фред с женой ждут меня.
Сквозь похвальбу Морис различал печаль, но что толку теперь было в его проницательности? Никакая проницательность не задержала бы отплытие «Норманнии». Он проиграл. Ему оставалось страдание, которое для Алека могло закончиться очень скоро: когда тот обретет новую жизнь, он забудет свою эскападу с неким джентльменом и своевременно женится. Практичный юноша из рабочего класса, он уже втиснул свое красивое тело в ужасный голубой костюм, из которого выглядывало лишь пунцовое лицо и коричневые руки. Он прилизал ладонью волосы.
– Ну, я пошел, – сказал он и, словно этого было мало, добавил: – Зря мы вообще встречались, если ты такое удумал.
– Тоже верно, – вымолвил Морис, отвернувшись от Алека, когда тот отпирал дверь.
– Ты ведь заплатил за эту комнату вперед? Значит, меня не остановят на лестнице? Не хочу, чтобы напоследок были какие-то неприятности.
– И это тоже верно.
Морис услышал, как хлопнула дверь. Он остался один. Ждал, что любимый вернется. Неизбежное ожидание. Затем его взгляд стал страдальческим. Он знал по опыту, что ожидает его впереди. Вскоре он овладел собой. Встал и вышел, сделал несколько телефонных звонков, объяснился с кем надо, успокоил мать, извинился за вчерашнее отсутствие, побрился, постригся и, как обычно, явился в контору. Его ждала масса работы. Ничего не изменилось в его жизни. Ничего в ней не осталось. Он вернулся к своему одиночеству, как это было до Клайва, как это было после Клайва и как это отныне будет всегда. Его надежды обречены, но не это печальней всего: он видел, что надежды Алека тоже обречены. В чем-то они были как одно существо. Обречена любовь. Любовь – это эмоция, при помощи которой время от времени можно получать удовольствие. Она не способна делать дело.
XLV
Когда наступила суббота, он отправился в Саутгемптон – посмотреть, как отходит «Норманния».
Это было фантастическое решение, бесполезное, недостойное, рискованное, и у него не было ни малейших намерений ехать туда, когда он выходил из дому. Но когда он добрался до Лондона, голод, терзавший его по ночам, стал явственным и потребовал жертвы. Он забыл обо всем, кроме лица и тела Алека, и решился на крайние меры, чтобы увидеть их. Он не хотел ни говорить с любовником, ни слышать его голос, ни дотронуться до него, все это осталось в прошлом, – лишь возвратить его образ, прежде чем тот навсегда исчезнет. Бедный, несчастный Алек! Кто мог его обвинить, разве он сам поступил бы иначе? Но увы, несчастье затронуло их обоих.
Он ступил на корабль точно во сне и очнулся, чтобы испытать новое разочарование: Алека нигде не было видно, стюарды хлопотали и не сразу смогли проводить его к мистеру Скаддеру, несимпатичному мужчине средних лет, торговцу, хаму – брату Фреду. С ним был бородач постарше, вероятно, мясник из Осмингтона. Главной прелестью Алека являлся свежий цвет, что волнами бился об утес его волос. Фред лицом походил на брата, но был рыжеват и смахивал на лисицу, а, вместо ласкового загара, кожа его лоснилась. Фред был о себе весьма высокого мнения, как и Алек, но его самомнение относилось к тому сорту, что проистекает из коммерческих успехов и презирает физический труд. Ему не нравилось, что брата угораздило вырасти таким неотесанным, и он думал, что мистер Холл, о котором он впервые услышал, находится здесь по линии опеки. Это придало ему наглости.
– Лекки пока нет на борту, но его вещи здесь, – сообщил он. – Хотите взглянуть на чемодан?
Отец сказал:
– Времени еще предостаточно, – и посмотрел на часы.
Мать добавила, почти не разжимая губ:
– Он не опоздает. Когда Лекки дает слово, он его держит.
Фред сказал:
– Пусть опаздывает, коли хочет. Я как-нибудь обойдусь и без него, но он пусть не рассчитывает впредь на мою помощь. Чего мне стоило устроить его отъезд…
«Да, место Алека здесь», – размышлял Морис – «Эти люди сделают его более счастливым, чем смогу сделать я». Он набил трубку табаком, который курил уже шесть лет, и наблюдал за угасанием этого романа. Алек не был ни героем, ни богом, он был человеком, тесно связанным с обществом, как и сам Морис. Человеком, для которого море, лесные чащи, свежий ветер и солнце не представляли никакого апофеоза. Не стоило им проводить ту ночь вдвоем в гостинице. Она породила надежды, оказавшиеся несбыточными. Им надо было расстаться сразу после рукопожатия под дождем.
Болезненное наваждение удерживало его в каюте Скаддеров, заставляло слушать их вульгарщину и выискивать в их жестах мимику друга. Он старался казаться любезным, втереться к ним в доверие, но у него ничего не получалось, ибо вся его самоуверенность куда-то подевалась. Его оцепенение прервал чей-то тихий голос:
– Добрый день, мистер Холл.
Он ничего не сумел ответить. Изумление оказалось слишком велико. Это был мистер Борениус. И оба они запомнили ту первоначальную немоту Мориса, его испуганный взгляд и проворное движение, каким он вытащил изо рта трубку, словно курение запрещалось духовенством.
Мистер Борениус скромно представился собравшимся; он прибыл, чтобы проводить юного прихожанина, благо расстояние от Пенджа не столь велико. Они обсудили, каким путем доберется сюда Алек – оказалось, есть некоторый выбор – и Морис постарался улизнуть, поскольку ситуация стала двусмысленной. Однако мистер Борениус остановил его.
– Идете на палубу? – полюбопытствовал он. – Я с вами, с вами.
Они вышли на воздух, под яркое солнце. Вокруг, обрамленные лесом, простирались золотые берега Саутгемптонской бухты. Но Морису казалось, что очарование вечера предвещает несчастье.
– Это очень мило с вашей стороны, – начал священник с места в карьер. Он говорил как социальный работник с социальным работником, но Морис чувствовал в его голосе притворство. Он попытался ответить – две-три обычные фразы спасли бы его – но слова не шли на ум, и нижняя губа у него дрожала, как у обиженного мальчишки. – Тем более мило, что, если я правильно помню, вы разочаровались в юном Скаддере. Когда мы обедали в Пендже, вы признались мне, что он «показался вам немножко свиньей», каковое выражение, будучи применено к человеческому существу, немного меня покоробило. Я не поверил глазам, когда увидел вас здесь, среди его друзей. Уверяю вас, мистер Холл, он оценит ваше внимание, хотя может и не показать вида. Люди вроде него более впечатлительны, нежели представляется стороннему наблюдателю. И к добру, и к злу.
Морис попытался остановить его вопросом:
– А как же вы?
– Я? Почему приехал я? Вы, конечно, посмеетесь. Я приехал, чтобы передать ему рекомендательное письмо англиканскому священнику в Буэнос-Айресе, в надежде, что он примет конфирмацию, когда высадится в Аргентине. Абсурд, не правда ли? Но, не будучи ни эллинистом, ни атеистом, я придерживаюсь мнения, что поведение человека напрямую зависит от его веры, и что если человек «немножко свинья», то причину следует искать в неверных представлениях о Боге. Там, где наличествует ересь, рано или поздно возникает распущенность. А вы, как вы узнали точное время отхода корабля?
– Из… из объявления в газете.
Дрожь пробегала по всему его телу, и одежда прилипла к коже. Казалось, он опять школьник, опять беззащитен. Он был уверен, что пастор догадывается, или, даже, что волна прозрения уже позади. Человек мирской ничего и не заподозрил бы – например, мистер Дьюси – но этот человек, будучи лицом духовным, обладал особым чутьем и мог распознавать невидимые эмоции. Аскетизм и благочестие имели свою практическую сторону. Они могли породить интуицию – понял Морис, слишком поздно. В Пендже ему казалось, что бледный пастор в сутане никогда не сумеет постичь мужскую любовь, однако теперь он знал, что у человечества нет тайн, которые, под ложным углом, не рассмотрела бы церковь, что религия гораздо проницательнее науки и что, всего лишь прибавив к интуиции здравомыслие, она могла бы стать величайшим изобретением на свете. Сам лишенный религиозного чутья, Морис и в других его прежде не встречал, поэтому потрясение оказалось страшным. Он боялся и ненавидел мистера Борениуса, ему хотелось его убить.
И Алек – когда он сюда придет, он тоже угодит в ловушку; они ведь люди маленькие, им нельзя рисковать – они не того полета, что, к примеру, Анна и Клайв – и мистер Борениус, зная это, накажет их всеми средствами, что в его власти.
Голос возобновился. До этого была минутная пауза на случай, если жертва вздумает ответить.
– Да. Откровенно говоря, мне отнюдь не легко с молодым Скаддером. Когда он уезжал из Пенджа прошлый вторник – к родителям, по его словам, впрочем, до них он добрался только в среду – я имел с ним крайне неприятный разговор. Он упрямился. Он мне перечил. Когда я завел речь о конфирмации, он ухмылялся. Факт состоит в том – я бы об этом не упомянул, если бы не ваше милосердное участие в этом юноше – факт состоит в том, что он виновен в излишней чувственности. – Последовала пауза. – К женщине. В свое время, мистер Холл, всякий начинает узнавать эти ухмылки, это упрямство, ибо блуд простирается гораздо дальше непосредственного поступка. Было бы это просто поступком, я первый не наложил бы на него анафемы. Но когда целые нации пускаются в разврат, они неизбежно заканчивают отрицанием Господа, так я полагаю, и пока все сексуальные нарушения, а не только некоторые, не станут уголовно наказуемы, церковь не отвоюет Англию. У меня есть причина думать, что он провел ту ночь в Лондоне. Но утверждать наверняка… Должно быть, это его поезд.
Он спустился ниже, и Морис, совершенно разбитый, поплелся за ним. Он слышал голоса, но не понимал их; один из них мог принадлежать Алеку – только это имело для него смысл. «И опять все пошло кувырком», – пульсировало в мозгу, как летучая мышь, летящая в сумерках. Он вновь оказался в той курительной комнате у себя дома, с Клайвом, который говорил: «Я больше не люблю тебя, прости», и он чувствовал, что жизнь его будет кружить годичными циклами, всегда оканчивающимися одним и тем же затмением. «Подобно солнцу… это отнимает год…» Он думал, что с ним беседует дед; затем туман в голове рассеялся, и перед ним стояла мать Алека.
– Это не похоже на Лекки, – пробурчала она и исчезла.
А на кого похоже? Пробили склянки, просипел гудок. Морис взбежал на палубу; к нему вернулись способности, и он необыкновенно отчетливо смог разглядеть толпу людей, разделяющихся по признаку: эти остаются в Англии, те отплывают, – и он знал, что Алек остается. День рассветился великолепием. Белые облака проплывали над золочеными водами и лесами. В центре живой картины бесновался Фред Скаддер, поскольку его ненадежный братец опоздал на последний поезд; женщины протестовали, теснясь на сходнях, а мистер Борениус и старый мясник на что-то сетовали членам экипажа. Какими ничтожными они стали на фоне прекрасной погоды и свежего воздуха.
Морис сошел на берег, пьяный от возбуждения и счастья. Он наблюдал за маневрами парохода, и вдруг корабль напомнил ему похороны викинга, взволновавшие его, когда он был мальчишкой. Ложная параллель, и все-таки судно казалось эпическим, оно уносило прочь его смерть. Пароход отчаливал, Фред собачился, но вот корабль вырулил в пролив и под ликующие крики наконец-то отошел, жертвенный, величавый, оставляя за собой дымок, тающий на закате, и борозду, расходящуюся и пропадавшую у лесистых берегов. Долго смотрел он ему вслед, затем развернулся в сторону Англии. Путешествие его почти завершилось. Он направлялся в свой новый дом. Он воспитал в Алеке мужчину, и теперь был черед Алека воспитать в нем героя. Он знал, что это за призыв, и каков будет его ответ. Они должны жить вне классов, без родни и без денег; они должны трудиться и не разлучаться до самой смерти. Но Англия принадлежала им. И это, помимо общения, было их наградой. Ее воздух и ее небо принадлежали им, а не тем боязливым миллионам, что владели лишь душными коробками, но никак не своими душами.
Он лицом к лицу столкнулся с мистером Борениусом, который утратил всякое ощущение происходящего. Алек его окончательно доконал. Мистер Борениус полагал любовь между мужчинами немыслимой, поэтому он не мог истолковать того, что случилось. И он сразу стал обыкновенным человеком, исчезла вся его ирония. В прямой и глуповатой манере он обсуждал, что могло приключиться с юным Скаддером, а потом пошел навестить друга в Саутгемптоне. Морис крикнул ему вслед:
– Мистер Борениус, посмотрите на небо – оно горит огнем!
Но священник не видел проку в небе, горевшем огнем, и спешно ретировался. В своем возбуждении Морис чувствовал, что Алек где-то рядом. Конечно, он не мог быть здесь, он был где-то еще, в блеске и великолепии, где его еще надо было найти. Без малейшего промедления Морис отправился в лодочный сарай, что в Пендже. Этот адрес вошел в его кровь, он был символом и надежд Алека, и его угроз, а также символом обещания, которое он сам дал в последнем отчаянном объятии. Этот адрес был единственным путеводным знаком. Он выехал из Саутгемптона так же, как приехал туда – инстинктивно, – и почувствовал не просто то, что все на сей раз кончится хорошо, но и то, что иначе закончиться не может и что во вселенной наконец-то все стало на свои места. Маленький местный поезд исправно выполнял свои обязанности, роскошный горизонт еще пылал, а также пламенеющие облачка, что продолжали пламенеть и после того, как главное великолепие потухло, и ему хватило света, даже чтобы добраться пешком от станции в Пендж по тихим полям.
Он вошел в поместье через пролом в дальнем конце ограде и который раз поразился, насколько заброшенна усадьба, сколь непригодна она для того, чтобы определять стандарты и управлять будущим. Близилась ночь, кричала птица, шуршали звери, а он спешил, пока не завидел серебро пруда и чернеющее на его фоне место назначения, пока не послышался плеск воды.
Он добрался, или почти добрался. По-прежнему уверенный, он возвысил голос и позвал Алека.
Ответа не было. Он позвал еще.
Тишина и надвигающаяся ночь. Он просчитался.
– Вполне возможно, – подумал он, и мгновенно взял себя в руки. Что бы ни случилось, ему нельзя отчаиваться. Хватит уже, что он отчаивался после Клайва, и все без толку, а пасть духом в этой серой, заброшенной части сада, означает сойти с ума. Надо быть сильным, надо сохранять спокойствие и верить – в этом его единственная надежда. Однако внезапное разочарование показало ему, как он истощен физически. С самого раннего утра он все бегал и бегал, его опустошали всяческие эмоции, и сейчас он буквально валился с ног. Через некоторое время он решит, что делать дальше, а пока у него раскалывается голова, каждая частичка в нем или болит, или ни на что не годна, он должен отдохнуть.
Лодочный сарай представлялся самым подходящим для этой цели местом. Он вошел внутрь и обнаружил своего любимого спящим. Алек лежал поверх сбитых подушек, едва различимый в последнем тлении дня. Пробудившись, он не выразил ни удивления, ни беспокойства, и, прежде чем заговорить, начал ласкать руку Мориса между своих ладоней.
– Значит, ты получил телеграмму, – сказал он.
– Какую телеграмму?
– Утром я послал телеграмму тебе домой, сказал, чтобы ты… – Тут он зевнул. – Прости, я немного устал, то одно, то другое… Я сказал, чтобы ты приезжал сюда безо всяких отговорок. – И, поскольку Морис молчал, он просто не мог говорить, Алек добавил: – Теперь мы не должны расставаться, и хватит об этом.