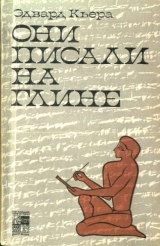
Текст книги "Они писали на глине"
Автор книги: Эдвард Кьера
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
Глава тринадцатая
ЧТЕНИЕ, ПИСЬМО И АРИФМЕТИКА
Сложное искусство письма на глине требовало долгого обучения. Я склонен думать, что ассирийским писцам для овладения мастерством письма нужно было учиться не меньше, чем современным школьникам для приобретения навыков чтения и письма. Как и в наше время, дети могли или поступать в школу, или заниматься с частным преподавателем; по-видимому, большинство будущих писцов выбирало второй путь. Школы находились при храмах и потому были весьма удалены одна от другой. Писцы же, у которых можно было учиться, встречались повсюду, даже в небольших городах. Как в средние века опытный ремесленник брал себе какого-нибудь мальчика в ученики и обучал его своему делу, так и большинство писцов держали при себе нескольких юнцов, стремившихся стать писцами. Но отношения между учителем и его учеником были более тесными, чем в последующее время. Писец «усыновлял» ученика, и такие отношения продолжались до тех пор, пока молодой человек не становился полноправным писцом. Как-то, изучая группу документов, я был озадачен тем, какое количество людей называет себя «сыновьями такого-то, писца». Наконец я нашел объяснение: молодые люди были не сыновьями, а учениками писца, которому родители отдали их на воспитание и обучение. Перед нами не столь уж редкая картина для древности: мастер занят своей работой, а группа находящихся при нем учеников овладевает ремеслом по ходу дела. Частного наставничества было вполне достаточно для подготовки писцов к обычной повседневной деятельности. Они заучивали формулы всевозможных документов и вполне могли написать под диктовку частное письмо.
Для получения более широкой подготовки необходимо было посещать школу. Можно сказать, что частное наставничество соответствовало курсу средней школы и позволяло «выпускникам» вступать в практическую жизнь. Но только школы, располагавшиеся поблизости от крупных храмов, имели условия для изучения науки и литературы. Здесь ученик начинал с самых азов клинописной грамоты и продолжал обучение до тех пор, пока не становился жрецом или ученым, с точки зрения древних.
В руинах городов мы находим древние «учебники», по которым ученики изучали язык. Это были глиняные таблички, весьма неудобные для того, чтобы носить их с собой. Но хотя древние пособия для обучения письму были, вероятно, не столь всесторонними и удобными, как современные учебники, принцип, по которому их составляли, был такой же. Я помню, в начальной школе у нас были прописи по чистописанию; в них чередовались строки, заполненные тщательно выписанными каллиграфическими образцами, и пустые, где мы должны были воспроизводить эти образцы. Существуют подобные древние пособия; единственное их отличие от современных заключается в том, что учителя выводили образцы не через строчку, а размещали их на левой половине таблички, правая же оставалась чистой, и ее заполнял ученик. Можно представить себе, как ученик после долгих усилий воспроизвести текст несет свою работу учителю на проверку. Многие знаки тут же подчеркиваются и исправляются: в одном оказались лишние клинья, в другом не хватает клинышка; иногда знаки сползают с линии или так лепятся друг к другу, что невозможно их разобрать, тогда как другие отстоят далеко друг от друга, и слова получаются разорванными. Мы видим эти ошибки и могли бы исправить, как это делал древний учитель.
Когда пропись заполнена и проверена, учитель готовит каллиграфический образец для следующего ученика. Он просто проводит палочкой по работе первого ученика и сглаживает написанное так, что все знаки исчезают. Табличку можно вновь заполнять. Разумеется, после многократного использования табличка приходила в негодность – либо высыхала, либо становилась слишком тонкой. Иногда их выбрасывали в мусорную корзину, откуда спустя многие века они осторожно извлекались археологами. Или же учитель отрезал правую ученическую сторону таблички и давал свою пропись для копирования ученикам, которые уже не нуждались в том, чтобы образец был рядом с чистой строкой. До нас дошло немало таких половинок табличек. Ученик ставил каллиграфический образец перед собой, брал кусочек глины, делал из него табличку и старался по мере способностей точно воспроизвести написанное.
Мы всегда можем прочесть письмо ученика, если рядом есть пропись учителя. Но это не так просто, когда такой прописи нет. Среди самостоятельных ученических упражнений, которые мы находили, попадались столь безобразно написанные, что дешифровщик мог определить лишь несколько отдельных знаков. Несомненно, учитель допустил ошибку, поверив в силы ученика и позволив ему работать самостоятельно, тогда как тому следовало еще долго выполнять более простые задания.
Эти школьные таблички – написанные, заглаженные и вновь покрытые знаками – представляют собой самый ранний тип палимпсестов. Существуют школьные таблички, особо заслуживающие такого названия. Ученик брал комок глины и, не утруждая себя изготовлением обычной прямоугольной таблички, скатывал в руке шарик, затем выравнивал одну сторону, прижав шарик к ровной поверхности, и писал на ней. Выполнив задание, он снова превращал табличку в шарик, вновь выравнивал одну сторону и приступал к следующему упражнению. Так он мог работать весь день, причем писчий материал сохранял свои первоначальные качества. Мы нашли большое количество подобных «линзообразных» табличек; сначала они немало смущали археологов, которые не могли понять их назначения, тем более что и содержание таких табличек было самым различным.
Учитель располагал в школе всевозможными типами текстов. В качестве легкого упражнения он давал ученикам для копирования список знаков, чтобы те практиковались в их написании. Это соответствовало нашему обучению буквам алфавита; единственное различие состояло в том, что знаков было намного больше и на изучение их требовалось больше времени. Следующим шагом было копирование подобного же списка знаков с указанием их фонетического или идеографического значения. Далее шло переписывание отрывков из словарей, содержавших названия всех камней, животных, городов и имена богов. Овладев этими первоначальными знаниями, ученики переходили к литературным текстам. Теперь им для точного воспроизведения давался отрывок из эпоса или какой-нибудь псалом.
Само собой разумеется, что материал из храмовых школ очень для нас важен: ведь для упражнений, как правило, брались классические сочинения и разного рода руководства, хранившиеся в больших библиотеках. Трудность для ассириологов заключается в том, что школьные тексты представляют собой выбранные и скопированные отдельные «страницы» повествования и, таким образом, не имеют ни начала, ни конца. Ученик обычно прекращал переписывать текст, когда уставал или когда кончались уроки. Многие фрагменты различных рассказов вводили в заблуждение исследователей, которые не догадывались, что перед ними лишь «страничка» из книги, а не законченное повествование. Однако учащиеся копировали примерно одни и те же тексты, и мы часто находим отрывки одного рассказа на многих школьных табличках; иногда эти фрагменты перекрывают друг друга. Один ученик мог начать копировать текст там, где кончил другой, а третий мог переписать вторую половину работы первого и первую половину работы второго. Можно отметить и другую легко объяснимую особенность школьных текстов: честолюбивые ученики обычно начинали переписывать книгу с самого начала. Разумеется, весьма скоро они уставали, и в результате у нас имеются бесчисленные ученические копии первой «главы» всех важных сочинений. Списков с последующими «главами» сохранилось меньше, а конец можно прочесть лишь по фрагментам библиотечного экземпляра сочинения.
Судя по тому, что один и тот же текст упражнения написан с помощью разных знаков, ученики писали и диктанты. Так как один звук можно было передать многими знаками, встречаются заметные расхождения в написании текста; такие таблички оказываются очень полезными для нас, служа подтверждением того, что все использованные для передачи того или иного звукосочетания знаки имели примерно одинаковое фонетическое значение.
Помимо письма, учащиеся овладевали и арифметикой; четыре действия – сложение, вычитание, умножение и деление – несомненно доставляли древним ученикам не меньше мучений, чем современным. Все это являлось подготовительной стадией обучения, за которой следовало изучение более сложных предметов.
Источником наших сведений об основных учебных пособиях того времени служат прежде всего сами храмовые библиотеки, содержавшие всю классику, и затем несовершенные копии этих текстов, выполненные учениками в школе. В более поздний период к ним добавляются царские библиотеки. В Вавилонии, как и в других древних странах, политическая власть была тесно связана с религией. Даже сейчас, в XX веке, мы еще не окончательно отделались от «божественного права монархов». Однако уже в те давние времена политическая власть постепенно начинала освобождаться от контроля храмов. Тогда, как и сегодня, приходилось бороться за то, чтобы правительство было свободно от влияния религии. Даже когда цари прочно сидели на троне и осуществляли достаточно эффективный контроль над страной, они обычно старались сохранить хорошие отношения со жрецами, делая большие пожертвования в храмы, освобождая их от налогов и помогая им по мере сил. Пусть меня обвинят в цинизме, но я уверен, что жрецы за такое доброе отношение обеспечивали благочестивому царю добрые предзнаменования богов для всех его начинаний. Тем не менее борьба шла, хотя и скрытно; с ростом царского престижа весьма благоразумно было бы со стороны более мудрых царей попытаться ограничить влияние жрецов в сфере образования. Если у храмов были библиотеки, следовало завести их и царям. Нам известно, что некоторые поздние ассирийские цари, те самые, которых обычно изображают безжалостными разрушителями, немало сделали для поощрения искусства и наук. Известно, что они посылали своих писцов по всей стране для сбора всех важных сочинений, хранящихся в храмах.
У нас имеется одно царское письмо; имя царя в нем не указано, но, вероятно, это был знаменитый Ашшурбанапал. Содержание письма настолько интересно, что я приведу здесь некоторые отрывки из него:
«Слово царя к Шадуну: у меня все хорошо, будь счастлив. Когда ты получишь это письмо, возьми трех этих людей (называются имена) и ученых из города Борсиппа и посмотри все таблички, какие есть у них дома, а также те, что хранятся в храме Эзида».
Далее царь приводит список сочинений, которые он особенно хотел бы найти, и заканчивает письмо так:
«Разыщи ценные таблички, которые есть в ваших архивах и которых в Ассирии нет, и пришли их мне. Я написал чиновникам и хранителям… и никто не утаит ни таблички от тебя. Если ты узнаешь о какой-нибудь табличке или серии табличек, о которой я тебе не писал, но которую ты сочтешь полезной для моего двора, разыщи ее, возьми и пришли мне».
Не приходится сомневаться в том, что писцы исполнили повеление царя со всем усердием; в развалинах Ниневии действительно было найдено огромное число текстов, происходящих из библиотеки этого древнего монарха. Но поздние ассирийские цари не просто собирали и копировали сочинения, обнаруженные в древних библиотеках; они сделали больше. После того как они скопировали тексты, написанные по-шумерски, они велели перевести весь этот огромный материал на живой разговорный язык. Древние шумерские повествования были «изданы» в первозданном виде и снабжены построчным переводом на ассирийский. Для выполнения такой работы потребовалось много времени и большое число ученых. Царские дворы этой эпохи представляли собой столь же выдающиеся центры культуры, как дворы покровителей наук эпохи Возрождения. При всей своей учености переводившие встретили немало трудностей, работая над древними текстами, так как шумерский язык уже тысячу лет был мертвым языком. О достижениях современной науки говорит тот факт, что сегодня мы можем в некоторых случаях исправить сделанные тогда переводы.
В настоящее время нам хорошо известна только одна царская библиотека, библиотека Ашшурбанапала, которая, к счастью, была открыта на заре археологического изучения Месопотамии. Ученые получили такое количество двуязычных текстов, что сразу смогли приступить к дешифровке шумерского письма и изучению шумерского языка. Хотя библиотека Ашшурбанапала – да и та не целиком – остается пока единственной, найденной нами в Месопотамии, есть основания полагать, что другие великие цари, как, например, Саргон Ассирийский, не уступали в этом отношении Ашшурбанапалу. Раскопки других царских дворцов, производившиеся много лет назад, тоже давали большое количество табличек, но о ценности этих покрытых значками «кирпичиков», как их называли археологи, тогда не догадывались. Кажется, их бросали в отвалы, где они и лежат до сих пор, ожидая, покуда повторные и более научно организованные раскопки спасут их от забвения.
Трудно сказать, были ли ассирийские библиотеки открыты для публики. Возможно, что да; хранившиеся в них своды законов, несомненно, были доступны для судейских. Разумеется, лишь ничтожный процент населения мог воспользоваться книгами из библиотек. И все же, я надеюсь, когда-нибудь будет найдено доказательство того, что и публичные библиотеки не такое уж новшество, как принято думать.
Глава четырнадцатая
ВОСКРЕШЕНИЕ НАРОДА
Сведя воедино все материалы, найденные в разных частях страны, мы можем реконструировать повседневные обычаи древних людей и тем самым как бы возродить их к жизни. Однако в этой главе речь пойдет не о таком воскрешении, а о внезапном выступлении на сцену народа, само название которого было до сих пор практически неизвестно. Появление этих людей сопровождалось столь обильной и подробной информацией, что, хотя они только-только попали в поле зрения историков, о некоторых сторонах их жизни мы знаем больше, чем и тех же аспектах жизни греков или римлян.
Во время моего пребывания в Ираке мисс Гертруда Белл, тогдашняя управляющая Музеем древностей, рассказала мне о своеобразных табличках, которые начали появляться на местных рынках; их содержание поставило ученых в тупик. Благодаря одному любителю-археологу удалось установить, откуда они происходят, и мисс Белл предложила мне начать в том месте раскопки в надежде на то, что удастся найти еще какое-то количество подобных документов. Мы начали раскопки, правда, не совсем в указанном месте и тотчас же обнаружили великолепную виллу, несомненно резиденцию древнего магната. В последние дни работы мы неожиданно наткнулись на небольшую комнату, в которой хранился древний архив. Более тысячи табличек лежа-ли россыпью на полу, однако удалось установить, что первоначально они хранились в прямоугольных корзинах и содержались в полном порядке. Многие таблички остались целы; три или четыре дня мы занимались извлечением их из земли и упаковкой для перевозки. Доставив таблички в Америку, мы приступили к их изучению и вскоре выяснили, что перед нами полный архив четырех или пяти поколений одного семейства древнего города Нузи [23]23
Нузи (совр. Йорган-тепе) расположен в горах на берегу р. Алхем, правого притока р. Тигр.
[Закрыть]. В течение последующих четырех лет раскопки на этом месте продолжались, и на свет было извлечено еще около трех тысяч табличек, принадлежавших другим семьям и храмовому архиву.
Эта группа табличек имела одну специфическую особенность. Написаны они были по-ассирийски, но явно людьми, которые не очень хорошо знали язык и потому допускали ошибки в правописании и грамматике. Кроме того, в текстах часто встречались иноязычные слова, и практически все упомянутые люди носили иноземные имена. Далее, контракты заключались на основе обычаев и законов, весьма отличавшихся от законов и обычаев в других районах страны. Открывалась картина жизни других обитателей Месопотамии, не ассирийцев и не вавилонян. Археологи еще не находили семейных архивов, которые могли бы сравниться с архивами из Нузи по количеству документов и продолжительности охватываемого периода. Тщательное изучение документов и обнаруженное среди них письмо одного известного царя позволило датировать всю группу текстов приблизительно XV–XIV вв. до н. э. Записи касались в основном торговых сделок и продажи недвижимости; исследуя их, мы можем проследить историю возвышения и падения большой семьи Техиптиллы.
О «доме Техиптиллы» можно долго рассказывать. Основатель его, унаследовав изрядное число домов, полей и садов, расположенных как в пределах города, так и в соседних поселениях и деревушках, начал энергично расширять эти владения. Нам недостаточно хорошо известны морально-этические нормы, существовавшие в этом обществе, и потому не станем спешить с вынесением суждения о действиях этого древнего «капиталиста». Во всяком случае, можно сказать, что его методы обогащения были законными и соответствовали букве закона даже в тех случаях, когда законные средства использовались для обхода существовавших постановлений. Прекрасное доказательство того, что Техиптилла был вполне «современным» человеком!
Сыновья и внуки Техиптиллы старались продолжать его дело, но постепенно их влияние и престиж стали ослабевать. Вторжение врагов, возможно ассирийцев, оказалось, по-видимому, последней каплей, и семья практически перестала существовать. Нападение врагов, должно быть, действительно было серьезным: из сохранившихся документов мы узнаем об ущербе, нанесенном не только данному семейству, но и другим богатым землевладельцам города. Приводится количество лошадей, крупного рогатого скота и овец, угнанных врагами, а тот факт, что в позднейших документах местные названия месяцев вытесняются ассирийскими, говорит в пользу того, что город, возможно, лишился независимости.
Тем не менее жители Нузи еще не были окончательно покорены: имеется свидетельство о вторичном набеге. На этот раз захватчики сожгли дотла все дома, а по дворам остались лежать непогребенные тела убитых. Мы не можем сказать наверняка, какой народ учинил этот разгром, так как не осталось никаких документов. Однако нам известно, что разрушение Нузи произошло в конце того бурного периода, когда народы данного региона боролись за преобладание. В любом случае, кто бы ни погубил Нузи, дело было сделано настолько основательно, что на месте разрушенного города много столетий никто не селился.
Очень интересно – и в то же время грустно – прослеживать по документам методы, применявшиеся Техиптиллой и другими богатыми землевладельцами для получения земли, принадлежавшей бедным земледельцам. Очевидно, местные законы запрещали земледельцам продавать свою землю. Вызвано это было, вероятно, не филантропическими побуждениями, а здравым соображением: чтобы земледельцы могли платить налоги, они должны иметь средства к существованию и землю для возделывания. Крупные землевладельцы не нарушали закон, но весьма хитроумно обходили его. С незапамятных времен в Вавилонии и Ассирии существовал обычай усыновлять молодых людей, которые будут заботиться о своих новых родителях, когда те достигнут преклонного возраста. Предположим, бездетная чета не может больше справляться с работой в поле. Они усыновляют молодого человека и оговаривают условия, согласно которым они отдают ему все свое имущество, а он до конца их жизни должен снабжать их определенным количеством зерна, маслом и необходимой одеждой. Сколько они получали этого зерна, масла и шерсти, всегда зависело от ценности того, что они передавали усыновленному. Если «сын» выполнял условия контракта, наследство переходило к нему. На деле это представляло собой раннюю форму того, что теперь называют пожизненной рентой… Богатые землевладельцы из Нузи ухватились за этот обычай и стали заставлять бедных земледельцев усыновлять их, с тем чтобы получить либо долю наследства наравне с родными детьми земледельца, либо даже все наследство. Если они не обещали выплачивать ренту, то выдавали единовременно значительную сумму, называвшуюся подарком.
Эта система применялась очень широко: нам известен случай, когда одного человека усыновили триста или четыреста бедняков. О том, что над ним не тряслись как над единственным сыном, говорят документы судебного разбирательства, дошедшие до нас среди других табличек из Нузи. «Отцы» обвиняли своего «сына» том, что он претендовал на большее, чем было условлено, и не выполнял своих обязательств. Документы обычно поддерживают фикцию «усыновления», но иногда писцы забываются и используют слова, которые недвусмысленно указывают на истинное положение дел. Такая практика, по всей вероятности, оказалась очень удобной; встречаются довольно часто документы, говорящие о групповом усыновлении. Пять или шесть земледельцев усыновляют одного человека и завещают ему свое имущество. Каждый получает «в подарок» некую сумму денег, зерно и тому подобное, в соответствии со стоимостью «завещанного» имущества, и остается на своей земле, обрабатывая ее для своего «ребенка». Бедняги, разумеется, отказываются от всяких прав на владение землей. В результате в стране сложилась еще худшая система батрачества, чем та, которую закон желал предотвратить. А так как усыновление нельзя было аннулировать, то институт усыновления пользовался большой популярностью у крупных землевладельцев.
Часто, однако, земледельцы отказывались подчиниться такой практике и, отчаянно нуждаясь в деньгах, брали в долг под залог своих полей. Здесь мы встречаемся с определенным видом заклада, ипотекой, с той только разницей, что поле, которое предоставлялось в залог, сразу переходило в руки заимодавца. По окончании условленного срока, обычно от пяти до тридцати лет, хозяин имел право выкупить свое поле, уплатив ту же сумму, какую он взял. Проценты не взимались, так как в течение всего того времени, пока поле находилось в закладе, заимодавец обрабатывал его и получал с него урожай.

Э. Кьера не раскопках в Нузи

Царица Ура Халдейского и ее золотые украшения

Золотой шлем воина из Ура

Захороненные вместе со своим господином в «царской гробнице» в Уре

Причал, построенный при Навуходоносоре

Реставрация сосудов из бесчисленных черепков

Раскопки ворот в Хорсабаде

Древний шумер

Современный араб

Современная копия древней глиняной таблички,исписанной и заверенной печатью

Древняя пряха

Современная пряха

Большая табличка – «гроссбух». Датируется временем Авраама

Надписанный глиняный гвоздь

Открытие закладной надписи

Богиня-мать, одно из самых широко распространенных и почитаемых божеств

Женщина музыкант

Современные иранские музыканты

Вавилонская башня (современная реконструкция)

Древний план-чертеж

Бог Ашшур в крылатом солнечном диске

Символическое изображение бога Ашшура

Древняя школа

«Ученическая тетрадь»

Основание колонны при входе в сирийский дворец

Ассирийские писцы-секретари, пишущие под диктовку

Модели печени, сверху вниз: из Вавилонии, Малой Азии, Этрурии

Демон-хранитель
Передав поле в залог, земледелец, которому и так-то было трудно прокормить свою семью, редко мог выплатить взятую в долг сумму. Тут перед ним возникала дилемма: дать истечь положенному сроку и потерять поле или же вновь заложить его хоть за какие-то деньги? Какой-нибудь богатый человек мог выплатить первую задолженность и дать еще немного денег первоначальному хозяину в том случае, если одолженная сумма составляла только часть настоящей стоимости поля. Нередко второй заем под то же обеспечение предоставлял первый заимодавец, будучи уже абсолютно уверен, что поле останется за ним. Все эти сделки записывались и заверялись свидетелями, в чем можно видеть своего рода приближение к современной практике продажи векселей. Возможно, еще ближе аналогия с перепродажей залоговых квитанций.
Если усыновление или повторные ссуды по каким-либо причинам не устраивали крупного землевладельца, он мог воспользоваться третьим способом, позволявшим обойти закон, обменом. Обмен не был запрещен, но при сохранении буквы закона осуществлявшийся обмен был на деле не чем иным, как продажей. Большое и хорошее поле можно было обменять или на маленькое, или на поле, непригодное для обработки. Такие поля стоили, конечно, неодинаково, и землевладелец выплачивал разницу наличными. Хороший дом обменивался на лачугу, и разница, выплачивавшаяся деньгами, составляла практически полную цену продаваемого имущества.
При неурожаях, а они в стране с очень незначительным количеством осадков случались часто, мелкие земледельцы могли спастись от голодной смерти, только уступив свое имущество. Если такового у них не имелось, им приходилось продавать в рабство либо своих детей, либо самих себя; при этом составлялся документ такого же типа, как на заклад дома или поля. Иногда они продавали крупным землевладельцам своих дочерей, которых те могли выдать замуж по своему усмотрению. Так называемые брачные контракты безжалостно откровенны: «Покупатель может взять женщину себе, может дать ее одному из своих сыновей или своему рабу. Если первый муж умрет, она может быть выдана за второго, третьего, четвертого и пятого, но из дома покупателя она не выйдет». Некоторые родители, рискуя получить за дочь меньшую сумму, выговаривали условие, что она не может быть дана в жены рабу; жена раба сама становилась рабыней, и ее дети также были бы рабами.
Однако из этого не следует, что женщины находились в жалком и униженном положении. У них были же гражданские права, что и у мужчин, и даже рабыни не теряли их окончательно, так как появлялись в суде и имели свои печати-«подписи». У женщин из состоятельных классов не было причин завидовать своим мужьям. Они самостоятельно вели различные дела; например, мы обнаружили, что жена Техиптиллы, продолжая семейные традиции, много раз удочерялась мелкими землевладельцами. Она, по-видимому, предпочитала групповое удочерение и одним движением руки, или, точнее, тростниковой палочки, приобретала сразу десять-пятнадцать приемных отцов. Если женщин из бедных семей брали замуж только для того, чтоб они рожали детей, то благородные дамы старались оговорить в брачном контракте свои особые права: «Если у такой-то будут дети, муж не может брать вторую жену. Но если у женщины детей не будет, она даст служанку мужу и будет иметь детей через нее. Детей этой рабыни муж вырастит как детей законной жены». Здесь мы видим близкую параллель к истории Авраама и узнаем, что, согласно этим обычаям, он не имел права изгонять Агарь и Измаила [Бытие 16, 1 – 16; 21, 9—14].
Из нузийских документов мы также узнаем, что обладание домашними богами давало право на получение сыновней доли отцовского наследства; это вновь возвращает нас к библейскому рассказу о Рахили и Иакове. В этой связи нужно сказать, что среди документов из Нузи попадается немало имущественных распоряжений и завещаний; в большинстве случаев мужья оставляют все свое добро женам. Те, в свою очередь, делят имущество между детьми, которые, находясь во власти матери, должны ей повиноваться, иначе рискуют лишиться своей доли наследства.
Среди многочисленных табличек из семейных архивов есть немало судебных документов, содержащих протоколы процессов, которые закончились благоприятно для крупных землевладельцев. Они очень любопытны. В них приводятся вопросы судей к свидетелям и ответы последних. Затем следует решение суда. Проигравший либо должен был уплатить определенную сумму денег выигравшему процесс, либо становился рабом последнего до тех пор, пока не заплатит. Мелкие земледельцы весьма рисковали, обращаясь в суд со своими жалобами; шансов добиться справедливости было мало, и большинство таких истцов кончали тем, что попадали в рабство. Я очень внимательно просмотрел эти документы, стараясь установить, пытались ли судьи следовать закону и быть беспристрастными. Увы, совершенно очевидно, что они этого не делали. Состоятельные землевладельцы держали свои архивы в полном порядке на протяжении нескольких поколений и часто могли предъявить оформленный должным образом документ, подтверждающий их право на владение; это и решало исход тяжбы. Беда заключалась также и в том, что у землевладельцев были собственные писцы и, кроме того, в их распоряжении находилась группа людей, всегда готовых выступить свидетелями на их стороне. Учитывая то обстоятельство, что мелкие хозяева обычно не умели читать, ничего не могло быть проще, чем поставить при записи договора другие цифры или меры площади, объема и т. д.; подлог обнаружился бы только через многие годы.
И все же во многих случаях крупный землевладелец, несмотря на свой прекрасный архив, не мог предъявить необходимого документа. Ясно, что тот документ, который у него был, говорил не в его пользу. Тогда он просил другую сторону представить своих свидетелей, что часто было невозможно сделать, так как оспаривавшаяся сделка была заключена за два поколения до того. Даже если каких-то свидетелей и находили, все равно оставались способы решить дело в пользу землевладельца. После того как свидетели обеих сторон излагали под присягой противоречивые версии, им предлагали доказать правоту их показаний перед богами. Это был какой-то вид ордалии, вероятно испытание водой, которое напоминало средневековую водную ордалию, когда считалось, что утонувший говорил правду, а спасшийся был отвергнут богами и должен быть казнен. Свидетели страдали бы в любом случае. Должно быть, лица, проводившие ордалию, были пристрастны, так как истец и его свидетели всегда отказывались от испытания. В документах мы читаем: «Так как такой-то и его свидетели побоялись предстать перед богами, они потеряли свое дело и должны уплатить» и т. д.
Такое отсутствие справедливости в суде можно объяснить только тем, что судьи сами происходили из состоятельных классов и все вакансии в их рядах заполнялись людьми того же круга. Местный царь, который сам располагал ограниченной властью, вероятно, имел право запретить назначение нового судьи, но он редко бывал достаточно силен, чтобы воспользоваться этой привилегией.
Среди судебных документов мы находим такие, которые показывают нам, как писцы осуществляли запись процесса. Дело, разбиравшееся, возможно, в течение часа, нужно было уместить на табличке, чтение которой заняло бы в десять раз меньше времени. Соответственно, перед нами не стенографический отчет о процессе, а его краткое изложение. В один прекрасный день писец взял кусок глины и начал записывать очередное судебное разбирательство. Прежде чем он дошел до конца, он сообразил, что табличка маловата и он не может записать на ней всех необходимых показаний. Тогда он бросил ее, взял другую, побольше, и начал все сначала. Хотя вторая версия, казалось бы, должна была повторять ту, что он написал только что, версии резко отличаются друг от друга. Расхождения в передаче прямой речи настолько значительны, что если б не сам предмет разбирательства и фигурировавшие в деле цифры и имена, можно было подумать, что речь идет о двух разных делах. Воздадим хвалу современным стенографисткам, которые могут по крайней мере утверждать, что зафиксировали действительно сказанные слова!








