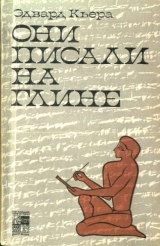
Текст книги "Они писали на глине"
Автор книги: Эдвард Кьера
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
Глава восьмая
СКАЗАНИЯ ЦАРЕЙ
До сравнительно недавнего времени нам казалось, что мы знаем всю древнюю историю. Главным источником сведений о древности являлась Библия, а ее главными действующими лицами были евреи. Народы Палестины и Сирии, такие, как филистимляне, амореи, хетты и т. д., представлялись варварами, стоявшими на пути богоизбранного народа.
Конечно, был еще Египет. Во-первых, он упоминался в Библии; во-вторых, храмы, пирамиды и Сфинкс тоже напоминали о былой славе Египта. Несомненно, страна являлась колыбелью цивилизации.
Были также вавилоняне, и Навуходоносор сыграл опасную для себя роль, явившись божьим орудием наказания евреев. Но разве не был он принужден как впавший в неистовство безумец питаться полевой травой за то, что причинил Израилю?
Потом были еще ассирийцы, тоже послужившие бичом божьим, – роль, для которой они подходили как нельзя лучше. Прежним историкам, как многим людям и сегодня, ассирийцы казались лишь безжалостными завоевателями.
Наконец, говорила эта версия древней истории, появилась Греция, а с ней началась новая эра. Здесь, по существу, родились искусства и философия впервые стала занимать человеческие умы. Развилась новая цивилизация, которая позднее была перенесена в Рим, а из Рима распространилась по всему свету.
Эта схема истории настолько проста, бескомпромиссна и во всех отношениях удовлетворительна, что кое-где она держится и по сей день и по ней продолжают обучать подрастающее поколение. Но вот дешифрованные египетские письмена стали рассказывать историю по-иному. В схеме начали заполняться большие лакуны. Затем, спустя еще полстолетия, наступил кризис: заговорили вавилонские таблички, что повело к радикальным переменам в реконструкции прошлого. Многочисленные документы исторического характера появлялись не только на территории Вавилонии и Ассирии, но и в сопредельных странах. Теперь стало очевидно, что значительную часть древней истории нужно не только написать заново, но и полностью переосмыслить.
Что мы можем узнать о политических событиях, происходивших в древности, такого, что помогло бы нам в этом переосмыслении? Достаточно много; если рядовые граждане тщательно записывали все свои важные сделки, то можно ожидать, что и правители, следуя общей тенденции, сохраняли для будущих поколений полный рассказ о своих деяниях. В общем можно сказать, что ни один ассирийский или вавилонский царь никогда не упускал случая поведать грядущим поколениям о своих добрых делах. Ради престижа они заходили так далеко, что их даже можно обвинить в тщеславии.
Если царь построил дворец или восстановил храм, он составлял об этом подробный отчет и включал его в летопись всех своих благочестивых подвигов. Такие строительные надписи, как мы их называем, обычно записывались на небольших бочковидных цилиндрах из глины, но иногда использовался и более дорогой материал. Делалось несколько копий надписи, которые помещались в основание возводившегося здания, точно так же, как мы оставляем закладные надписи под краеугольным камнем. Эта практика хорошо известна, и археологи всегда ищут закладные камеры, потому что содержащиеся в них надписи дают интересную информацию о раскапываемом здании.
Но на этом царь не останавливался в своем стремлении сохранить славную репутацию, на которую он, по его мнению, имел право. Если при строительстве применялись обожженные кирпичи, на них перед обжигом ставился штамп с надписью приблизительно следующего содержания: «храм бога такого-то, построенный царем таким-то, царем великим, царем Шумера и Аккада». Это самые обычные храмовые надписи, попадающиеся при раскопках царских городов или же городов с храмами, достойными внимания царя. Археологи находят их так много, что, отобрав несколько образцов для музеев, остальные выбрасывают в отвал.
Во время раскопок Ура Халдейского сэр Леонард Вулли, который возглавлял экспедицию, отдал рабочим распоряжение сохранять все кирпичи с надписями до тех пор, пока их не посмотрит специалист. Если надпись оказывалась новой или чем-то интересной, кирпичи у рабочего забирали, а ему давали бакшиш, что-то около четырех центов. Конечно, рабочие очень заботились о том, чтобы не пропустить подобные кирпичи, и настаивали на изучении своих находок. Так вот, один из ранних царей Ура – Ур-Намму вел широкое строительство, но для великого множества кирпичей он использовал одну стереотипную формулу со своим именем. Поэтому кирпичи с его клеймом ничего не стоили и не приносили рабочим вознаграждения. Расхаживая по раскопам и рассматривая надписи, мы почти всякий раз произносили «Ур-Намму», что в переводе на язык землекопа означало просто «бакшиша не будет». Забавно было наблюдать за реакцией рабочих. Они обзывали Ур-Намму всевозможными прозвищами, которые здесь нельзя повторить. Царь, наверное, очень бы удивился, узнай он, какие «похвалы» стяжал от далеких потомков за свои труды.
Но, как мы уже сказали, большая часть крупных сооружений в древней Вавилонии возводилась из необожженных кирпичей. Понятно, что на таком кирпиче, да еще уложенном на глиняном растворе, надпись сделать невозможно. Цари придумали иной способ: надпись, которую они поместили бы на обожженном кирпиче, или ее сокращенный вариант, наносили на небольшие глиняные гвозди (конусы). Их обжигали и втыкали в стены под слой раствора на расстоянии примерно метра друг от друга. В будущем другой царь, разбирая стену, нашел бы эти гвозди и узнал бы, кто из его предшественников построил или восстановил данный храм.
Разумеется, все эти предосторожности принимались отнюдь не в расчете на археологов, которые придут через три или четыре тысячи лет, но можно представить, как рады современные ученые надписям, найденным под углами зданий, в основании стен или в самих стенах. Они избавляют от необходимости проводить весьма сложные и кропотливые изыскания, результаты которых к тому же всегда бывают не очень определенными. Зная время разрушения зданий и их восстановления, нетрудно реконструировать историю города. Можно даже проследить судьбу какого-либо божества, установив, когда был построен или восстановлен его храм. Иногда последовательность перестроек храмовых стен видна так же четко, как в геологических образованиях, да еще каждый слой содержит точное указание на время своего появления. В силу названных причин мы охотно прощаем древним царям явное отсутствие у них скромности.
Мы также признательны им за те подробные рассказы о военных походах и прочих делах, которые они оставили нам. Эти записи сделаны на полых глиняных призмах с шестью, семью или восемью гранями, причем на каждой плоскости старались уместить как можно больше текста. Иногда на глиняных цилиндрах – тоже полых – повторяется та же надпись в три или четыре колонки. Их изготавливали в большом количестве, поэтому работа царских писцов, вероятно, была ужасно однообразной, так как им приходилось многократно переписывать одну и ту же надпись. Эти большие призмы и цилиндры помещались в краеугольные основания царских дворцов, дабы служить напоминанием о великих подвигах правителей; копии их хранились в царских библиотеках. О некоторых царях мы уже получили всю необходимую информацию; что касается деятельности других, то здесь нам придется подождать, пока археологи не обнаружат соответствующие сооружения.
Царские надписи имеют лишь один недостаток: они не всегда сообщают нам о том, что бы нам хотелось узнать. Вполне естественно и понятно, что древние цари старались представить себя в наилучшем свете. В такой стране, как Ассирия, окруженной горами, где жили враждебные племена, готовые ринуться вниз на беззащитные равнины, царь, по-видимому, должен был похваляться воинской доблестью и тем, что держал врагов в страхе, предоставив своим подданным возможность наслаждаться миром. Неудивительно, что ассирийские летописи – это рассказы о походах и сражениях. На самом деле мы знаем, что некоторые из ассирийских царей вовсе не были полководцами, а один из них, называющий себя великим воином, в действительности даже оказался трусом! [14]14
Автор, очевидно, говорит об одном из Саргонидов, скорей всего – об Асархаддоне (681–669 гг. до н. э.), отличавшемся крайней мнительностью и суеверностью. Возможно, однако, что имеется в виду отец Асархаддона – Синаххериб (704–681 гг. до н. э.) или его сын – Ашшурбанапал (669–631/29 гг. до н. э.), которые приписывали себе подвиги своих полководцев, хотя часто не принимали личного участия в военных походах.
[Закрыть]В то же время ассирийские цари довольно редко сообщают нам об основанных им библиотеках, прорытых каналах и неустанных трудах которые они предпринимали для блага своего народа. И все же мы знаем, например, о возрождении интереса к литературе во времена правления Саргона (721–705 гг. до н. э.), хотя именно этот царь разорил Самарию, увел в плен многих ее жителей и заселил город людьми из других областей империи. Мы знаем теперь, что Саргон покровительствовал искусствам и на нем же лежит ответственность за «самаритянскую проблему», за возникновение той ненависти и вражды, которые продолжались до наступления христианской эры, так что потребовалось все мужество Христа, чтобы пренебречь условностями и вступить в разговор с женщиной из презренного города [15]15
Автор имел в виду евангельский рассказ о встрече Иисуса с женщиной из Самарии, во время которой она сказала: «Как Ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки? Ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются» (Иоанн 4, 4–30, 39–42).
Самаряне противопоставляются иудеям и в других новозаветных книгах, см.: Лука 10, 29–37; 17, 11–19.
[Закрыть].
Напротив, в другой стране, менее открытой для вражеских вторжений, на военные доблести не особо обращали внимание. Так, например, Навуходоносор, великий парь и великий завоеватель, обходит полным молчанием свои военные успехи; зато подробно рассказывает о том, какие храмы он построил и реставрировал и как одарил их. Создается впечатление, что он стремился поведать потомству лишь о своем благочестии [16]16
Вавилонский царь Навуходоносор II (605–562 гг. до н. э.) вел успешную борьбу с египтянами и местными князьями в Сирии. В 597 и 587 гг. до н. э. вавилонские войска брали Иерусалим; после многолетней осады был захвачен Тир.
[Закрыть].
Следует помнить, что эти царские надписи достоверны лишь до определенной степени, так как нельзя ожидать от человека, что он будет тратить время и средства на то, чтобы поведать миру о своих поражениях. Пусть это делает противник! Он же будет говорить о своих победах или же поведет свой рассказ таким образом, что поражение покажется победой. Иногда бывает достаточно взглянуть на карту, чтобы восполнить некоторые явные умолчания и восстановить фактическое положение дел. Если «царь» города Чикаго «выиграл» первое сражение под Нью-Йорком, второе – под Филадельфией, а пятое – под Питтсбургом, совершенно очевидно, что на самом деле его армия отступает. Просто он не решается сказать правду. Если царь уничтожил «половину» армии противника в первой битве, столько же – в третьей, нанес тяжелые потери в четвертой и все же он продолжает вести кампанию, значит, что-то в этих сообщениях не соответствует действительности!
И все же эти недомолвки, ошибочные и даже лживые утверждения не лишают царские надписи научной ценности. Их необходимо интерпретировать, преодолевая все трудности и опасности, но в этом нет ничего нового, и такая работа сейчас проводится весьма успешно. А если оглянуться вокруг себя, посмотреть на политических деятелей, президентов, диктаторов и почитать их официальные заявления, то только и сможешь сказать, что ассирийцы и вавилоняне писали свою историю точно так же, как мы пишем свою сегодня!
Древние не вели летосчисления от какого-либо важного события, как это делаем мы, отсчитывая время от приблизительной даты рождения Христа. Для них, разумеется, не существовал 5 г. н. э. или 1055 г. до н. э. Каждый год у них получал свое название по какому-нибудь знаменательному событию, случившемуся в этот или в предшествующий год. Мы встречаем такие названия, как «год, когда был построен храм Мардука в Вавилоне» или «год, когда был прорыт царский канал».
Запомнить эти даты было, конечно, невозможно. Поэтому писцы составляли списки датировочных формул каждого царя; так мы располагаем списком датировочных формул, которые ввел Хаммурапи: первый год его правления назывался «год, когда Хаммурапи стал царем», второй – «год, когда Хаммурапи изготовил трон для бога города Вавилона» и т. д. вплоть до 43-го года, года его смерти. Таким образом, мы не только узнаем сколько лет правил тот или иной царь, но и последовательность важнейших событий, происшедших в его правление.
Помимо списков датировочных формул существовали списки царей. В этих списках одна за другой перечислялись различные династии и назывались все цари каждой из них с указанием, сколько лет они царствовали. Трудно переоценить важность подобных списков для реконструкции древней истории Востока. Но, хотя эти списки вполне надежны в том, что касается имен царей и количества лет их правления в пределах одной династии, им нельзя верить в другом – часто, согласно им, одна династия следовала за другой, тогда как на самом деле они были более или менее одновременны. Поэтому нельзя суммировать общие сроки правления ряда династий для того, чтобы узнать время, когда правила предшествовавшая им династия.
Кроме того, если для более поздних исторических царей списки указывают правильное количество лет царствования, то царям глубокой древности приписываются совершенно невероятные сроки правления. Некоторые из ранних полумифических царей правили, согласно спискам, по 72000 лет! Здесь прослеживается близкая параллель долгожительству древнееврейских патриархов. Было бы бесполезно сравнивать, имена ранних мифических царей Вавилонии с именами патриархов, но сравнение двух этих списков и встречающихся в них чисел может кое-что дать. Едва ли разумно пытаться обойти трудность, представляя дело так, что у патриархов, мол, годы были менее продолжительны, чем у нас, и потому-де де Мафусаилу было примерно лет семьдесят. Если мы сделаем такой подсчет для Мафусаила, о котором сказано, что он прожил 969 лет, то какой результат получим для царя, правившего 72000 лет? Несомненно одно – ни вавилоняне, ни древние евреи не могли называть несколько дней годом.
Есть другое, более удачное объяснение: древнееврейские историки, стараясь заполнить лакуну между правильной, по их мнению, датой сотворения мира и временем, от которого у них имелись достаточно надежные данные, обнаружили, что у них для этого не так уж много имен. И, не желая выдумывать и вводить какие-либо новые имена и лица, они просто «растянули» сроки жизни патриархов так, чтобы общее количество лет соответствовало нужному числу. Древние евреи не могли представить, что их ранние герои отстояли от них так уж далеко, и потому они поместили их в сравнительно близкое прошлое. Другое дело вавилоняне, окруженные со всех сторон наидревнейшими памятниками; они пользовались более точными масштабами. Им тоже пришлось «растягивать» немногочисленных действующих лиц, чтобы закрыть лакуну, но «растягивать» значительно сильнее, чем евреям. И здесь опять-таки было бы ошибкой отвергать самую раннюю часть царских списков как абсолютно недостоверную из-за слишком большой продолжительности жизни, приписываемой древнейшим царям. Гораздо лучше будет попытаться понять, чем это вызвано, и использовать переданную нам информацию, насколько это возможно.
К царским надписям, замурованным в стенах древних сооружений, спискам датировочных формул и царским спискам следует добавить еще один вид источников – царскую переписку, т. е. письма, которые они посылали своим чиновникам, указывая им, как поступать в тех или иных случаях. Здесь мы видим царя, стоящего у кормила правления, в большинстве случаев старающегося проявить все, на что он способен. И эти же письма позволяют нам, между прочим, увидеть, как жили его подданные.
Глава девятая
СКАЗАНИЯ ЖРЕЦОВ
У обитателей Вавилонии и Ассирии, как и у остальных древних народов мира, существовали домашние культы. Глава семьи был жрецом, а глиняные фигурки божеств и маленькие модели жилищ этих богов составляли обязательную принадлежность каждого дома. Домашним божествам приносили жертвы и в определенные дни совершали обряды, участие в которых принимали только домочадцы. Несомненно, домашние божества, считавшиеся демонами-хранителями семьи, играли важную роль в религиозной жизни древних жителей Месопотамии. Великие боги пантеона, которым поклонялись в храмах, защищали все государство в целом и были слишком величественны и важны, чтобы заботиться об отдельном человеке. Конечно, люди посещали храмы, как по обязанности, так и из желания расположить к себе столь важные силы.
Очень хотелось бы иметь полное представление о домашнем культе. К сожалению, об этом у нас есть лишь отрывочные сведения, почерпнутые из семейных контрактов. Мать раздаст своим детям маленькие обиталища богов, описывая каждое из них и особо отмечая их сохранность. В завещании отец оставляет старшему сыну домашних богов, предупреждая его, однако, что он должен позволять другим детям приходить в дом и приносить им жертвы. Очевидно, домашние обряды должны были совершаться, как и прежде. Так как участие в домашних обрядах могли принимать только члены семьи, допуск к подобным обрядам означал, что человека признают членом данной семьи со всеми вытекающими из этого обязанностями и правами.
Вавилонские таблички проливают также столь желанный свет на некоторые библейские эпизоды. Все помнят, как Рахиль украла «идолов», домашних богов своего отца [Бытие 31, 19–35]. Когда пропажа былая обнаружена, все подверглись столь тщательному обыску, что Рахили едва удалось спасти свою добычу, применив хитроумную уловку. Почему же нужно было так беспокоиться из-за каких-то двух грошовых терракотовых статуэток? Таблички дают на это ответ: если зять овладевал домашними богами тестя, он считался настоящим сыном и получал свою долю при наследовании. Украв домашних богов, Рахиль надеялась сделать своего мужа непосредственным членом семьи отца, и он, соответственно, мог на законном основании потребовать долю наследства. Речь, таким образом, шла не о двух фигурках, а о весьма значительной доле имущества.
В настоящее время мы не можем восстановить в подробностях домашний культ, так как до сих пор встречались лишь случайные упоминания о нем. Но об общественном культе можно составить вполне ясное представление. Религиозная литература Вавилонии и Ассирии настолько обширна и разнообразна, что, пожалуй, не имеет себе равных. Здесь и псалмы, и молитвы в честь богов и обожествленных царей. Некоторые из этих псалмов и молитв исполнялись в храмах и представляли собой литургические произведения: особо оговаривалось что должны делать жрецы, а что простые участники богослужения. Многие псалмы содержат указания на то, на какую мелодию или под аккомпанемент какого инструмента их нужно исполнять. Сохранилось немало повествований о великих богах и эпических поэм о полубожественных героях древности. Были найдены также рассказы о сотворении мира, древние космологии, мифы, многие из которых весьма любопытны с философской точки зрения.
Удивительно, но почти вся известная нам литература была записана в течение столетия или двух крайне трудного для жителей Месопотамии времени – после 2000 г. до н. э. Мирные шумеры были полностью покорены менее культурными, но более сильными в военном отношении пришельцами-амореями. Хаммурапи быстро расправился с многочисленными городами-государствами и создал огромное царство. «Великий администратор» намеревался объединить свою империю, введя законы и сделав свой родной язык (входивший в семью семитских языков) официальным во всех подвластных ему владениях. Это нанесло шумерской цивилизации смертельный удар. И хотя можно только сожалеть о падении одной из величайших цивилизаций древности, нужно отдать должное Хаммурапи за то, что он по крайней мере хотя бы понимал, какой нанесен урон культуре. Он высоко ценил шумерский язык и хотел, чтобы его преемники не допустили гибели связанных с шумерским языком великих культурных ценностей. Но он знал и то, что язык этот умирает. Побудил ли к тому сам царь или же шумерские ученые, но всех вдруг охватило горячее желание записывать все, что следовало бы сохранить для потомства. До того времени большую часть псалмов и сказаний изустно передавали бродячие музыканты. Если бы эту древнюю традицию удалось поддержать, то даже при условии, что шумеры растворились бы среди иноплеменников, их культура могла быть спасена. Случилось так, что смертельный удар, нанесенный шумерской цивилизации, оказался сигналом для начала активной литературной деятельности. Храмовые школы и библиотеки Вавилонии стали наполняться литературными произведениями самого резного рода. Как долго продолжали еще странствующие певцы ходить из дома и дом, распевая свои песни и забавляя людей, за что получали подарки и знаки одобрения, мы не можем сказать, но во всяком случае мы знаем, что имена некоторых из них «попали в печать», чего при других обстоятельствах никогда бы не случилось. В конце текста некоторых песен писец делал приписку «из уст такого-то». Это может служить объяснением того обстоятельства, что в одном и том же повествовании, записанном в разных местах, иногда обнаруживаются весьма значительные расхождения. Они обязаны своим происхождением индивидуальности певца, который, обладая хорошим воображением, мог привнести в разработку древней темы что-то свое, личное.
Описанное выше положение дел представляет известную трудность для тех, кто пожелал бы заняться исследованием религиозной литературы. Мы знаем, что ни одна из записей этих песен не может быть датирована много позднее 2000 г. до н. э. Древние писцы, по-видимому, хорошо потрудились, спасая то, чем они располагали, так как за последовавшие почти две тысячи лет не было сделано каких-либо серьезных дополнении В древних библиотеках начали находить старые шумерские оригиналы тех преданий, которые мы раньше считали ассирийскими. Но хотя мы и знаем, что такие-то произведения были записаны к 1900 г. до н. э., остается вопрос – насколько они сами старше записей? Некоторые из них, несомненно, на протяжении многих столетий передавались из уст в уста. Другие явно уступают им по времени и относятся приблизительно к тому периоду, когда были записаны. Каждое сочинение следует датировать, основываясь на внутренних свидетельствах, какого-либо общего правила здесь нет.
Кроме того, повествования подвергались правке редактора. Нет сомнений в том, что эпизоды или варианты рассказа, которые не отвечали вкусам слушателей, опускались. Подвиги местного божества обычно выставлялись на первый план в том городе, где этому божеству поклонялись. Это по-человечески понятно; современный эстрадный артист, если он достаточно сообразителен, всегда в какой-то мере приспосабливает свои шуточки к тому месту, где дается представление. К счастью, мы располагаем копиями псалмов, происходящими из разных городов, и можем определить, что в них оставалось неизменным, а что могло изменяться в большей или меньшей степени.
Сопоставление религиозных текстов дело далеко не легкое. С деловыми документами у ассириологов трудностей нет: каждый контракт достаточно ясен сам по себе и становится еще понятней при сличении с бесчисленными документами того же типа. В царских анналах имя какого-либо царя, географическое название или ссылка на известное событие сразу дают ключ к пониманию того, что за надпись перед нами. Но в религиозной литературе таких примет нет. Прежде всего здесь нет четкого разграничения между различными типами текстов: какой-нибудь псалом в одном месте – произведение лирическое, а в другом – включен в монотонное молебствие. Гимн в честь божества мог рассказывать о его подвигах и перекликаться с мифами и космогониями. Древний миф путем очень незначительных переделок мог быть приспособлен для прославления местного царя и, в сущности, превратиться в новое произведение. Часто при чтении одного псалма встречаешь отголоски других, точно так же, как слушая современную музыку, узнаешь мотивы и отрывки более старых, почти забытых мелодий.
Но и это еще не все; пространные литературные сочинения, естественно, записывались на многих табличках, и иногда бывает довольно трудно расположить их в правильном порядке. В таких случаях древние писцы старались облегчить свою и, между прочим, нашу задачу. Внизу каждой таблички они писали «табличка номер такой-то, серии такой-то» и прибавляли первую строчку следующей таблички. С помощью таких пометок они могли располагать таблички по порядку одну за другой, как мы расставляем книги на полках.
Увы, таблички мы получаем не с библиотечных полок. Не только сами таблички часто разбиты на фрагменты, но и целые библиотеки теперь страшно перепутаны. Перед современным исследователем, желающим возродить древнюю литературу Вавилонии и Ассирии, стоит нелегкая задача. Он должен изучить каждый фрагмент и по содержанию попытаться определить, к какому сочинению он относится. Затем он должен просмотреть весь опубликованный материал подобного рода, чтобы установить, дает ли его фрагмент что-нибудь новое, заполняет ли какую-нибудь прежнюю лакуну. Это все равно, как если бы все книги латинских авторов были разодраны постранично, затем б ольшая часть страниц порвана на клочки, вся масса бумаги как следует перемешана и, наконец, небольшая порция выдана человеку, собирающемуся восстановить их. Конечно, он отличил бы «Энеиду», но сколько отрывков из Цезаря он приписал бы другим авторам?
И все же эта работа не столь уж безнадежна, как может показаться. Если современная книга считается интересной, она становится бестселлером и выходит многими изданиями. Если древнему эпосу или псалму придавали большое значение, то его списки изготавливались но многих городах. Если какой-то его части нет в собрании Восточного института при Чикагском университете, то, возможно, завтра она будет найдена в музеях Филадельфии, Лондона или Берлина. Если набраться терпения и проявить настойчивость, потребуется не так уж много времени, чтобы собрать все основные произведения этой почтенной литературы. Лет через сто, мне кажется, нам будет недоставать лишь многочисленных песен, имевших узко местное хождение, да отдельных строк, ну может быть «страницы» или «полстраницы» из какого-нибудь большого эпического произведения [17]17
К середине 60-х годов, по расчетам крупного американского ассириолога А. Л. Оппенхейма, нам была известна приблизительно четвертая часть древнемесопотамских произведений, составлявших основу литературной традиции.
[Закрыть]. Как сейчас открытие нескольких утраченных стихов из какой-либо новозаветной книги вызвало бы широчайший интерес в ученом мире, так, вероятно, лет через сто или двести привлечет внимание ученых заявление какого-нибудь востоковеда о том, что найденная им новая табличка заполняет последнюю лакуну в знаменитом «Эпосе о Гильгамеше». Сегодня нам трудно надеяться на это. Мы – пионеры в этой области, и, если мы сможем добавить что-то существенное к уже известному, мы будем удовлетворены, даже зная, что еще осталось много пробелов. Даже на этой ранней стадии изучения многие короткие повествования были собраны полностью из фрагментов, рассеянных теперь по музеям всего мира. Однажды мне очень повезло. В Пенсильванском университете я изучал отрывок медицинского текста, а позднее, работая в музее в Константинополе, я нашел недостающую часть того же текста, причем от той же таблички!








