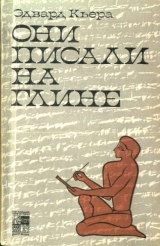
Текст книги "Они писали на глине"
Автор книги: Эдвард Кьера
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц)
Глава вторая
ВЕЧНЫЕ КНИГИ
Глина – материал практически неразрушающийся. Если она хорошего качества и обожжена, то прекрасно сохраняется даже в самых неблагоприятных условиях. В руинах почти любого древнего города находят сосуды из глины всевозможных сортов, обожженные различными способами, при разной температуре; нередко черепки посуды – единственное, что позволяет датировать древние развалины. Состав глины, глазурь, форма сосуда, вид обжига, которому он подвергся, – все это содержит совершенно определенные указания для археологов.
Свойства обожженной глины общеизвестны, но не все знают, что таблички и сосуды могут сохраняться сколь угодно долгое время, даже если они и не прошли обжига. Для этого, конечно, нужна хорошая глина. Вавилонские писцы хвалили отмученную [2]2
Хорошо промытая глина.
[Закрыть]глину, без которой они не представляли своей цивилизации. Известно, что глину специально промывают; некогда такой обработке должна была подвергаться глина, предназначавшаяся для изготовления тонкой керамики или важных табличек. Процесс был прост: глину засыпали в воду и размешивали. Все легкие частицы – дерево, солома, листья – всплывали и их было нетрудно удалить. Мелкие камешки, песок или другие примеси тонули и немедленно оказывались на дне. Когда воду спускали, оставался слой чистой, без каких-либо примесей глины.
Но обычно обходились даже без этой нехитрой очистки. Почти каждый год реки сами оставляли вдоль берегов значительные отложения глины. Легкие примеси уносила уходящая вода, или они скапливались в мелких лужах. Камни и песок неизбежно оказывались внизу. Однажды я наблюдал, как несколько рабочих ходили по только что обнажившемуся берегу и соскребали руками верхний слой глины, складывая ее в небольшие кучки, чтобы потом забрать домой. Эта глина явно предназначалась для посуды, так как табличек больше не делают. Более грубую глину можно было собрать позже, подмесить в нее мелко нарубленную солому и использовать для изготовления кирпичей.
Необожженный кирпичик из хорошо замешенной глины может пролежать в сыром грунте тысячи лет; при этом он не только сохранит свою форму, но и вновь станет твердым, если его высушить. Так обычно бывает и с вавилонскими табличками. Необожженную клинописную табличку можно чистить жесткой щеткой, нисколько не опасаясь повредить ее поверхность. Вся прилипшая грязь, кроме соли, отчищается. Если соляная корка покрывает значительную площадь и делает невозможным прочтение текста, нужно лишь как следует обжечь табличку. После обжига ее можно опустить в воду, обработать кислотами или даже прокипятить, и она опять станет такой же чистой, с четкой надписью, какой была в тот день, когда ее изготовили.
У глины есть одна особенность – при высыхании она значительно уменьшается в объеме. Хранившиеся в сосудах прекрасно высушенные таблички, попав во влажную землю, постепенно впитывают влагу и разбухают. Им становится слишком тесно в сосуде, но разорвать его они не могут и поэтому расширяются, заполняя все щели и пустоты, так что в конце концов их форма меняется до неузнаваемости. Археолог, который найдет подобный сосуд, поступит благоразумно, если не будет пытаться извлечь таблички прежде, чем они высохнут и вновь сожмутся. Даже после этого бывает трудно вынуть деформированные документы. Тогда можно разбить сосуд. Ущерб будет не столь велик, так как сосуд можно склеить, и уж во всяком случае, археологическая ценность содержимого несравненно больше, чем сосуда. Многие таблички, погребенные в руинах древнего города, могут оказаться деформированными, в особенности если они находились рядом с твердыми предметами. Но даже и деформированные, они почти всегда поддаются прочтению.
Хуже, когда таблички, лежащие во влажной земле, оказываются на пути мелких грызунов или земляных червей. Многие черви, жившие, быть может, тысячу лет назад, оставили свои следы. Одни черви во время подземных странствований, натыкаясь на табличку, находят глину слишком грубой нишей и обходят препятствие, проедая себе дорогу, пока не дойдут до более мягкого грунта; другие проходят табличку насквозь, не страшась того, что встретили дополнительную трудность. Мы, бывало, называли таких червей, портивших наши таблички, подлинными книжными червями. Я восхищался теми, которые проходили табличку насквозь, оставляя за собой ровное отверстие. Причиненный ими ущерб невелик – один-два знака на каждой стороне таблички. Менее решительные, ощупывавшие всю поверхность таблички в надежде найти место помягче, оставляли длинный след, уничтожая целые строки. Я предпочитаю тех, кто прямо идет к своей цели, не отступая перед трудностями, даже если это всего лишь земляные черви.
Археологи, работающие в Ираке, придерживаются разных взглядов на то, как лучше обращаться с найденными табличками, – ведь их так легко повредить. Я, когда впервые начал раскопки, испробовал несколько способов, но порекомендовать могу только один. Найденную табличку надо немедленно очистить от грязи, прежде чем трогать ее руками. Если табличка в таком состоянии, что ее можно взять в руки, ее следует осторожно завернуть в тонкую бумагу, а затем – в более плотную. Маленький сверток, на котором делаются все необходимые отметки о месте находки, времени и т. д., нужно отнести в дом и оставить дней на пятнадцать, не меньше, медленно просушиваться в тени. Так как табличка при этом уменьшится, пакетик станет слишком просторным. По прошествии пятнадцати дней табличку можно поместить в окончательную упаковку, так как к этому времени она примет свои первоначальные размеры. Ни при извлечении из культурного слоя, ни во время хранения в пакете табличку нельзя держать на солнце, иначе она будет высыхать слишком быстро и развалится на куски. Соблюдение же этих простых предосторожностей сохранит каждый документ. Впоследствии, если это покажется целесообразным, его можно обжечь.
Иногда вавилоняне сами обжигали свои документы. Так, они подвергали обжигу некоторые наиболее важные деловые контракты, чтобы предохранить их от разрушения. То же можно сказать и о библиотечных табличках, которые предназначались для частого пользования. Но, к сожалению, в большинстве случаев таблички остались необожженными – и поэтому раскопки в Ираке всегда приходится вести с особой осторожностью.
Исследователь, безусловно, будет вознагражден за любое проявление бдительности. Подумайте только: почти всё, что было написано, даже неважное или выброшенное за ненадобностью, ждет вас где-то в руинах древнего города. Представьте себе, что сегодня вы бросили письмо в мусорную корзину, – где оно будет завтра? А письмо, которое бросили в мусорную корзину четыре тысячи лет назад и наутро отправили на свалку, и поныне находится там и, возможно, в один прекрасный день будет извлечено на свет!
Глиняные таблички, содержащие всевозможные записи, стали появляться в большом количестве с начала III тысячелетия до н. э. и продолжали накапливаться до наступления христианской эры. Таким образом, мы располагаем непрерывным рядом письменных свидетельств, касающихся всех сторон жизни общества в течение этих веков. По ним можно проследить изменения, происходившие в религиозных верованиях, социальных условиях, обычаях и повседневной жизни. В самом деле, по ним мы можем восстановить и когда-нибудь восстановим в мельчайших подробностях картину древней цивилизации. Работа с самого начала принесла поразительные результаты. В этой книге я постараюсь дать представление о том, что мы уже узнали и что мы можем ожидать в будущем.
Глава третья
ХОЛМ СЕМИ ГОРОДОВ
Современное название страны, территория которой приблизительно совпадает с территорией древней Вавилонии и Ассирии, – Ирак. Это название воскресло несколько лет назад [3]3
Арабское государство Ирак возникло после первой мировой войны на территории трех прежних вилайетов Османской империи (Мосульского, Багдадского и Басорского).
[Закрыть], воскресло потому, что его никак не назовешь новым. В переводе оно означает «побережье», «прибрежная страна», и, если иметь ввиду берега рек, «омывающих» эту страну, такое название подходит как нельзя лучше.
Границей Ирака на востоке служит горная цепь, отделяющая его от Ирана, или Персии; на севере ряд горных кряжей отделяет Ирак от Армении и Малой Азии. К западу и к югу лежат степи и пустыни. Таким образом, Ирак хорошо изолирован от соседних стран. Земля здесь плодородная, вполне пригодная дли земледелия, точно специально была создана, чтобы стать колыбелью великой цивилизации.
В древности караваны, отправлявшиеся в Сирию и Палестину, должны были преодолеть более 500 миль по безводной пустыне. Путь был трудным и опасным; иногда приходилось избирать окольный маршрут и идти вдоль подножия гор на севере, где была вода. Конечно, сегодня условия изменились. Через пустыню из Дамаска в Багдад можно проехать на автомобиле часов за пятнадцать. А если вылететь на самолете рано утром из Каира, то можно обедать в Багдаде!
Почему же название Ирак так подходит этой стране? Весьма банальное изречение гласит, что без Нила не было бы Египта; периодические разливы реки приносят плодородие ее прибрежным полям. В еще большей мере подобное утверждение относится к Ираку. В то время как земля Египта, за исключением части дельты, существовала бы и без Нила – правда, столь же пустынная, как Сахара, – большей части Ирака вообще не было бы, не будь двух великих рек, Тигра и Евфрата. Значительная часть страны образовалась из наносов, принесенных этими реками с северных гор. Процесс отложения наносов и приращения земли начался с незапамятных времен и продолжается по сей день. В древности у каждой реки было свое русло, но с тех пор как в нижнем течении реки слились в одну, было намыто столько отложений, что побережье залива ушло на 90 миль от места их слияния. Древние города, некогда стоявшие на берегу моря, оказались теперь довольно далеко от него; новообразованная часть страны, появившаяся уже после падения великих цивилизаций, естественно, не хранит никаких следов древней жизни: ни черепка, ни обломка таблички.

Египетский метод орошения, применяемый и в Ассирии
Большая часть страны, образованная отложениями реки, совершенно плоская. Так как реки не были стеснены горами или дамбами, то во время разливов они часто меняли свои русла и прокладывали себе путь левее или правее прежнего течения. Это также содействовало выравниванию поверхности. Отложения рек представляли собой превосходную почву для обработки, поэтому с древнейшей эпохи поселения людей располагались вдоль рек, особенно там, где периодические разливы удобряли поля, подобно Нилу, удобрявшему почву Египта.
Древние вавилоняне вскоре, однако, поняли, что вовсе не обязательно ждать разливов и ставить свое будущее в зависимость от капризов рек. Они научились управлять водой в соответствии со своими нуждами. Были прорыты большие каналы, которые связывали обе реки и их важнейшие притоки. От большого канала отходили каналы поменьше, по которым вода поступала туда, где ее ждали, а от них уже – небольшие ирригационные канавы, покрывавшие всю страну паутиной из ручейков. Вес это не только помогало наиболее целесообразно распределять воду, но и уменьшало опасность разрушительных наводнений. Тигр и Евфрат создали эту страну; теперь же им предстояло сделать землю плодородной.
Рытье больших каналов требовало огромного числа людей и было очень дорогостоящим предприятием, которое обычно осуществлялось правительством, т. е. царями. Монархи похвалялись своими добрыми делами, и каналы считались вечными памятниками отеческой заботы о людях и мудрости правителя, проведшего их. На самом деле строителем был бедный люд, обязанный лично участвовать в строительстве либо платить налоги. Точно так в наши дни происходит строительство современных автомагистралей или гигантских плотин – честь создания приписывается одному человеку, но счет оплачивают налогоплательщики.
О каналах, как и о современных автомагистралях, приходилось все время заботиться. Артели рабочих постоянно прочитали их. Наместники провинций или чиновники высокого ранга несли личную ответственность за поддержание ирригационной системы в порядке. Второстепенные каналы находились под наблюдением местных властей, а забота о мелких каналах лежала на землевладельцах, через чьи земли они проходили. Если в результате прорыва происходила потеря воды или страдали соседние поля, хозяин участка нес за это ответственность: он должен был возместить все убытки, понесенные из-за его небрежности.
Крупные города стояли либо на берегу реки или ее притока, либо вблизи больших каналов, по которым могли ходить небольшие суда с грузами. Каналы, таким образом, имели тройное назначение: по ним распределялась вода, они обеспечивали урожай и служили торговыми путями.
Пролетая над Ираком, можно очень отчетливо видеть следы древней оросительной системы. Вдоль каналов группируются и руины старинных городов. Меня много раз спрашивали: как археологи находят древние города? Как они узнают, что копают именно в том месте, где когда-то стоял древний город? Вопрос следовало бы поставить иначе: может ли у кого-нибудь, кроме слепца, возникнуть трудность при выборе места раскопок? Здесь каждый глиняный холм – город. Я еще не нашел в Ираке такого места, за исключением новообразованной дельты, где в поле зрения не попадали бы сразу два-три города, явственно выступающих на фоне горизонта. Археолог думает не о том, как найти город, а о том, какой из множества окружающих его городов избрать для раскопок.
Даже в области археологии существует специализация, и у каждого ученого, ведущего раскопки, есть своя определенная цель. Он не станет копать наугад, просто из любопытства – а что из этого получится. В стране, где цивилизация просуществовала много тысяч лет, археологам поневоле приходится специализироваться в более или менее узкой области. Человек, прекрасно разбирающийся в памятниках эллинистического периода, почувствовал бы себя совершенно беспомощным, возьмись он раскапывать доисторическое [4]4
Эллинистический период – для Месопотамии время от завоевания Азии Александром Македонским до прихода парфян, т. е. 331–126 гг. до н. э.
Доисторией некоторые зарубежные ученые называют тот период истории человечества, когда еще не существовало письменности, т. е. до конца IV тысячелетия до н. э.
[Закрыть]поселение. Поэтому каждый археолог постарается тщательно осмотреться, прежде чем начать работу.
Для человека, умеющего читать всевозможные следы и признаки, неудача почти исключена. В древности моды тоже менялись, хотя и не так быстро, как в наши дни. У одного и того же народа посуда, скажем, становилась со временем лучшего качества и все более украшенной, или наоборот. С появлением металлов древние художники перестали смотреть на глиняные сосуды как на благодатный материал для воплощения своих чувств и идей. Они сосредоточили внимание на изделиях из меди и бронзы и совершенно забросили керамику. Она была, так сказать, сдана на кухню и использовалась для самых обыденных целей. Вот почему кое-где мы замечаем, что посуда раннего периода была очень изящна, а в более позднее время стала грубей и худшего качества. У одной и той же культурной группы встречается керамика, различная по стилю. Это объясняется переселениями народов: пришельцы приносили с собой и новые моды. Поэтому человек, который может правильно интерпретировать несколько черепков разбитой посуды, получает верный ключ к пониманию того, когда и кто обитал в данном месте. Затем опять-таки, не все металлы стали использоваться одновременно: бронза появилась позднее, чем медь, а железо – позднее, чем бронза. Таким образом, и обломки металла помогают датировке. Как и все остальное, изменялось письмо: маленький фрагмент надписи, даже если он не содержит сведений исторического характера, можно датировать по виду знаков. Как мы видим, если человек знает свое дело, у него имеется достаточно способов найти именно то, что ему нужно.
Разумеется, разгуливая по вершине холма, можно заметить лишь следы последней цивилизации, существовавшей на этом месте. Если верхний слой относится к персидскому периоду [5]5
Т. е. 539–331 гг. до н. э.
[Закрыть], это отнюдь не означает, что все находки с этого холма будут датироваться тем же временем. Чем глубже копаешь, тем находишь более древние поселения.
Здесь необходимо ответить на один вопрос, который часто задают археологам: как это так получается, что иногда на одном и том же месте находят несколько го-подов? Как могут разные города накладываться один на другой, так что греческий город оказывается наверху, вавилонский – в середине, а шумерский – в самом низу? Недоумение, вызывающее подобные вопросы, нетрудно объяснить; в значительной мере оно возникло по вине самих археологов, поторопившихся объявить об открытии «Холма Семи Городов». Однако понять, как может получиться такой холм, не сложно.
Когда в Риме смотришь на древний Форум, сразу замечаешь, что древние слои лежат на несколько метров ниже уровня современной улицы. Но так как это все тот же Рим, можно сказать, что новый город наложился на старый. Уровень города со временем повышается, и то, что видишь в Риме, можно наблюдать в любом другом древнем городе.
На Востоке это видно лучше, чем где бы то ни было. Людям приходилось селиться на плоской равнине, которую в любой момент могли затопить разливавшиеся реки. Элементарная осторожность заставляла создавать невысокие глиняные холмы, чтобы хотя бы немного поднять основания домов над уровнем равнины. Так начинался холм. Дома строились из необожженного кирпича и обмазывались глиной. Крыши обычно крыли тростником или соломой, а сверху обмазывали слоем глины, которая не пропускала дождевую воду. Ежегодно, по окончании сезона дождей, наружную обмазку стен нужно было обновлять. Крыши также покрывали свежим слоем глины. Но вся глина, смытая с крыш и стен домов, оставалась на улице; естественно, уровень улицы постепенно повышался. Далее, в древних городах отходы не убирались: некто съедал устрицу, а выброшенная на улицу раковина так там и оставалась. Если в доме что-нибудь перестраивали и ломали стену, все кирпичи этой стены оказывались на улице. Помню, как-то раз, идя по Багдаду, я вынужден был постоянно обходить лужи строительного раствора и кучи кирпича, выброшенного из домов прямо на улицу, где их никто не убирает. К этому всему следует добавить, что постройки из сырцового кирпича весьма недолговечны. По прошествии определенного времени стены начинают оседать; поддерживать их в порядке оказывается дороже, чем снести и возвести на том же месте новые. Но новый дом, выстроенный на развалинах старого, будет стоять чуть выше, чем прежний. Так постепенно повышается уровень улицы.
Иногда непредвиденные события самым решительным образом ускоряют этот медленный процесс. Большой пожар может за ночь смести целый район города. Враг может разрушить поселение и покинуть его, а может и отстроить его заново либо на следующий год, либо через много лет. Город, таким образом, оказывается на какое-то время без жителей, но затем вновь в нем селятся люди, те же, что жили там прежде, или другие. В любом случае и при новых обитателях слои отложений будут расти, а холм будет становиться все выше. Иногда старый город, расположенный на вершине искусственного холма, все разрастается и уже как бы «переливается через край». Тогда у подножия холма на равнине возникает новое поселение; этот внешний город точно так же начинает медленно расти и подниматься.
Даже на самой вершине таких искусственных холмов уровень не всегда одинаковый. Может быть так, что на одной стороне «телля» – так называют холмы, скрывающие руины городов, – располагался обширный, хорошо вымощенный двор, там культурный слой почти не будет расти, в то время как на противоположной стороне мог стоять царский дворец с высокими толстыми стенами. Развалины одного такого сооружения уже образовали бы холмик на вершине большого холма.
В современном Ираке и сейчас есть немало городов, которые стоят на развалинах целого ряда прежних поселений. Назову лишь два из них – Эрбиль и Киркук. Чтобы попасть в верхнюю часть Эрбиля, нужно долго подниматься по крутым скатам и лестницам. Оттуда открывается изумительный вид на окружающую равнину. Высокие стены не дают расплываться глине и защищают Нижний город; холму Эрбиль суждено еще многие годы быть хорошо укрытым от воздействия дождей и непогоды. В Киркуке старый холм сохраняет свой первоначальный облик, но во многих местах дожди так размыли края телля, что находящиеся на вершине дома могут обрушиться.
В местах размывов на древнем холме археолог может получить наглядную картину расположения культурных слоев. Опытный исследователь читает ее подобно тому, как геолог легко читает сходную повесть, наблюдая обнажения пластов различных пород. Тут видишь обожженные кирпичи, которыми некогда была вымощена мостовая, – они торчат из глины и образуют прямую линию, ясно указывающую границу одного из слоев; там и тут попадаются целые и разбитые сосуды, некоторые остались на своем месте, другие сместились. Затем идет небольшой слой строительного мусора, состоящего из битых кирпичей, черепков посуды, морских раковин и разного сора. Вновь ряд кирпичей, образующих прямую линию: более поздняя мостовая, под которую был подсыпан слой строительного мусора. Над этой мостовой толстый слой пепла и углей: немое свидетельство пожара, уничтожившего все строения. Далее слой чистой земли, возможно, нанесенной ветром, указывает на перерыв в истории города – несомненно, он был покинут жителями на какое-то время. Выше вновь видим остатки основания новой стены, а над ней, вероятно, третью мостовую.
Если это крупный город и в нем находилась резиденция царя, мостовые будут выложены кирпичами, на которых трафаретом оттиснуто царское имя. В таком случае перед археологом встает меньше проблем: он будет знать, что «мостовая А» датируется, скажем, 2000 г. до н. э., а та, что сразу над ней, назовем ее «мостовая Б», – 1767 г. до и. 9. Все предметы, найденные над нижней мостовой, вероятно, будут относиться ко времени между 2000 и 1767 гг. до н. э.
Таким образом, в одном и том же городе точно не идентифицируемое первоначальное население могло смениться шумерами, которые оставались тут какое-то время, а затем, в свою очередь, были изгнаны или растворились среди других народов. Перед нами может оказаться сначала неизвестное поселение, затем – шумерский город, потом город вавилонян, и далее могут идти слои персидской, эллинистической, парфянской, сасанидской и мусульманской эпох. Над всем этим могут находиться остатки средневекового города, а на самом верху может стоять современный город: «Холм Семи Городов». Это один и тот же город, менялись только его жители.
Многие из старых городов пришли в запустение уже в очень давние времена. Таблички, относящиеся приблизительно к 1500 г. до н. э., говорят о древних развалинах, причем упоминают о них лишь для того, чтобы уточнить местоположение полей или наделов. Если б можно было заглянуть еще на тысячу лет раньше, к людям 2500 г. до н. э., мы бы также увидели древние покинутые города, которые стояли рядом с населенными городами того времени. Невозможно сказать, когда впервые появились телли.
Современный археолог хорошо знает, чего хочет. Если его интересуют древнейшие цивилизации, он совершил бы большую ошибку, начав раскапывать город, основанный в седой древности и просуществовавший до прихода эллинов: ему пришлось бы много лет раскапывать слои и заниматься вещами, которые его мало занимают и к изучению которых он, возможно, не готов. Если ему нужен очень ранний город, он должен найти город, оставленный в глубокой древности. Тогда он может, начав работу, сразу выйти на интересующий его материал. И наоборот, было бы неразумно исследователю эллинистического периода начинать раскопки телля, который не был обитаем при греках. Чем больше копал бы он, тем дальше уходил бы от интересующего его периода.
Вот почему осторожные археологи тщательно изучают телли, прежде чем вонзить лопату в грунт. Если они умеют «читать» керамику, знают письменность и имеют общее представление о цивилизациях различных исторических эпох, едва ли они допустят ошибку. Но если предварительная работа была проделана плохо, результаты раскопок могут оказаться безуспешными.








