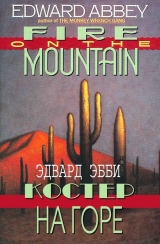
Текст книги "Костер на горе"
Автор книги: Эдвард Эбби
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 9 страниц)
1
Рассиялась Новая Мексика. Этот живительный свет давал каждому камню и дереву, облаку и горе такую мощь и ясность, что казались они противоестественными. И вместе с тем по-домашнему знакомыми, страною мечты, землею, известной мне сызначала.
Мы ехали на пикапе моего деда, держа от Эль-Пасо направление на север, к Пекарскому поселку и к ранчо старика. Начинался июнь, сверкающее солнце пустыни, отражаясь от стального капота, било в глаза и приходилось то и дело зажмуриваться. Прямо-таки чувствовалось, как яростный сухой жар, словно в духовке, отнимает влагу у твоего тела; с тоскою подумывал я о канистре холодной воды, притороченной к решетке сбоку капота и потому недоступной. Вот бы дедушка остановился на минутку, успели бы попить, но я был слишком важен и глуп, чтоб просить об этом, в свои двенадцать лет хотелось выглядеть крепче, чем на самом деле.
Когда резь в глазах отошла и я снова смог открыть их, я поднял голову и стал следить за шоссе, оградой, телефонной линией. Они накатывали и накатывали, все прямые и параллельные, нам навстречу. Струи горячего воздуха вились над асфальтом, оттого дорога вдали казалась прозрачной и текучей, но иллюзия исчезала со скоростью нашего приближения.
Глядя вперед, я заметил грифа, который поднялся от зайца, раздавленного на проезжей части, и парил неподалеку в ожидании, пока мы проедем. За спиной этой черной птицы с белой каймой на крыльях вздымалось небо Запада, бескрайнее, багрово-голубое, плыло над солонцами, над буграми песка и гипса, к горам, стоявшим у горизонта подобно каравану пурпурных кораблей.
Эти горы были совсем рядом и в то же время невероятно далеко, рукой подать– и вне границ воображения. Меж нами лежало пустынное пространство, с редкими деревцами, камнями и промоинами, в которых вода случается не чаще, чем дождь, редкий в здешних местах. Третье лето подряд приезжаю я в Новую Мексику и каждый раз, глядя на этот по-лунному безжизненный ландшафт, спрашиваю себя: что тут такого есть? И снова заключаю: нечто тут есть, а может, и все есть. По-моему, пустыня похожа на рай. И всегда так будет.
Справа метнулась тень грифа. Дедушка тронул меня за колено своей тяжелой морщинистой рукой.
– Видал зайца, Билли?
– Да-да. Десятый задавленный заяц на дороге, считая от Эль-Пасо.
– Значит, вскорости доберемся домой. В среднем по зайцу на пять миль. Нынче. А лет десять назад на всем пути от Пекарского до Эль-Пасо хорошо, если один попадался.
Старик, сутулясь под потолком кабины, поглядывал сквозь очки на шоссе, стелившееся встречь подобно шраму земли. Семьдесят лет, и скорость держит семьдесят миль в час. В этом плоском и безлюдном краю скорость, пожалуй, умеренная. А ссутулился он, поскольку кабина низковата. Грузовичок почти совсем новый, по ширине кабина вместит и четверых, но по высоте и одному тесно. Да еще добавьте целый фут на дедову шляпу, снять ее он себе не позволяет, ибо считает, что это неприлично. Рулем он правил кончиком левого указательного пальца.
– Дедушка, а заяц сродни крысе.
– Слыхал. Надо в целом смотреть. Устроено все так, что гриф помогает равновесию в природе, минуту назад мы в том убедились. Это вещь всем нужная. А ты все нужные вещи захватил?
– Да-да. – Я глянул в заднее окошко, чтобы удостовериться, что мой чемодан по-прежнему лежит в кузове. Там он и был, неразлучный спутник от самого Питсбурга.
– Пригодится, – сказал дед. – Завтра нам предстоит работенка. Ты, я и Лу поедем на гору, поищем коня и льва. Согласен?
– Целиком согласен, дедушка. И Лу с нами?
– Обещал.
Меня пронзила радость. С Лу Мэки я не виделся девять месяцев – девять месяцев заточения в школе далеко на Востоке! И скучал по нему. Не могу представить себе человека замечательней, думаю о нем часто и решаю, каким стать, когда вырасту. Стать Лу Мэки Вторым.
– Мы сегодня увидимся? Он уже на ранчо? – Повернувшись к дедушке и ожидая его ответа, я обнял объемистый кувшин, наш подарок Лу, выбранный этим утром на рынке в Хуаресе. Рядом стоял еще кувшин, дедов подарок самому себе. А в ногах у меня – новенькие сапоги на высоких каблуках с такими острыми носами, что и дверь насквозь пробьешь. Первые в моей жизни настоящие ковбойские сапоги.
– Постарается, сказал, быть к вечеру. Твой Лу занятой теперь человек, Билли. Женился, торговым посредником стал, автомобиль завел здоровенный, четыре фары спереди, шесть сзади, триста пятьдесят лошадиных сил. Важничает. Ты, Билли, его не узнаешь.
Я помолчал, усваивая новости.
– Какая может быть разница, – заговорил я. – Лу с чем угодно справится. А что жениться он собирался, я это знаю. Он в прошлом году предупреждал меня. Мы все это обсудили; я говорил тогда, что все лучшим образом должно получиться.
– Чтоб по второму разу не пришлось, в этом смысле?
– Да-да.
– Ну, в этом году постоянно видеться с ним у тебя не получится. Но он обещал наезжать к нам на ранчо при первой возможности, так что не расстраивайся. – Он легонько похлопал меня по плечу. – Прибивайся ко мне, Билли. Лето у нас впереди хлопотное. Ты, мальчик, мне понадобишься.
Я сделал глубокий вдох, гордо и решительно.
– Готов на все, дедушка. Не боюсь никаких трудностей. – Открыв ящичек под ветровым стеклом, я заглянул туда: полуприкрытый бумагами, спичками, инструментами, здесь лежал старый револьвер в кожаной кобуре.
– Но держи-ка свои хваткие рученьки подальше от этой пушки. Чтоб при нужде не копаться мне у тебя под подушкой, слышишь, Билли?
– Да-да. – Мое смущение выдали щеки. Прошлым летом я позаимствовал револьвер, не сказав старику, и прятал его на ночь в постели.
– Не беспокойся, мы завтра постреляем для практики. Пожалуй, ты уже достаточно подрос, чтобы привыкать обращаться с оружием.
«Еще бы, дедушка», – подумал я, уставясь на бесконечное шоссе. Мы миновали еще одного сбитого зайца.
– Дедушка, а ты кого-нибудь хоть когда-то застрелил?
Старик ответил не сразу:
– Покамест нет.
– A Лy застрелил кого-нибудь?
– Это у него спроси. Он на войне был. Поспрошай при случае, он все тебе сам расскажет. У него вроде и медаль какая-то есть. Потормоши его малость.
– Медаль эта за то, что людей застрелил?
– Война есть война. Все законно. Расскажи, чем этот год в школе занимался.
– Да ничем, дедушка. Закончил свою школу. Теперь меня посылают в среднюю.
– Тебе как, хочется?
– Папа постоянно говорит, какую кучу денег это стоит, так что пусть уж мне хочется. Он считает, мне надо стать инженером. А мама считает, что врачом.
– Сам-то кем быть желаешь?
– Не знаю, дедушка. Мне бы тут остаться, с тобой и с Лу. Разводить бы коней.
– А то и самому конем быть.
– Как это?
– Шучу, Билли. – Он похлопал по моей новой соломенной шляпе,– Как шляпа тебе?
– Годится, только жестковата.
– Обломаем. – И добавил: – Ты со своими родителями обходись помягче. Они для тебя на все готовы.
– Да-да.
– Вот многие ли родители отпустят сынишку, чтоб в одиночку путешествовал через всю страну и проводил лето с ветхим стариком? Не думал про то?
– Понятно. Только б они... не так бы нервничали. А то по любому поводу нервы.
– Это, так сказать, лихорадка ответственности. Лекарств не имеется. Глянь на коров или на курицу, с ними то же самое. Оно входит в планы природы. Смотри-ка!
Кукуль-придорожник сорвался с куста и перебежал шоссе у нас под носом, вытянув клюв, шею и хвост, только лапок не разглядишь. Еще раз поперек дороги метнулся и пропал за обочиной.
– Отменный тебе пример, – начал объяснять дед. – Кукуль – кукушка пустыни. Вот сейчас она могла бы перебраться через дорогу – куда безопасней. А не желает. Слишком просто. Лучше рискнуть головой, чем от своего нрава отказаться. Что с такой птицей поделаешь?
– А у зайцев, наверное, тоже так, дедушка?
– Нет, у зайцев в ходу другое правило – они не испытывают судьбу, они самоубийство совершают. Выпрыгнут прямо под фары, глаза вылупят. Ни гордости, ни благородства, ни соображения. Придорожник азартную игру затевает, но с соображением это делает и никогда не пострадает. Живет он одиноко, думать самому за себя приходится. У зайцев не так.
Вид на север заметно изменился. Там, где шоссе встречалось с горизонтом, появились, совершенно внезапно, водонапорная башня, полоска голубого дыма, рядок тополей, прямоугольники домов и складов. Проехали автостоянку и бездействующую бензоколонку, кучку лачуг из толя, новый солидный мотель, универсам и кафе и, сбавив скорость, прибыли в Пекарский поселок. Дедово ранчо лежит в двадцати милях отсюда, прямо на запад, подле самых гор; что ж, мы почти дома.
Старик остановил пикап перед заведением Хайдука, а это – сочетание магазинчика, почтового отделения и автобусной остановки. Смолк мотор, и было удивительно тихо, лишь доносился стон проигрывателя в соседнем баре. Уставшие, мы вылезли из грузовичка под ярко палившее солнце. Я полез за канистрой на передке капота.
– А если лимонаду? – спросил мой старик, и я согласно кивнул. – Зайдем в магазин.
Вошли в прохладное помещение, к сумраку которого не сразу смогли привыкнуть.
– Снабди мальчика бутылкой лимонаду, – услыхал я дедов голос.
– О да, мистер Воглин! – Вертлявая фигура хозяина выплыла из темноты передо мной, с открывалкой в руке. – Привет, Билли. Рад снова свидеться. Открой холодильник и сам себя обслужи. Бесплатно.
– Спасибо, – пробормотал я.
– Мне какая-нибудь почта есть? – спросил дедушка.
– Пришла парочка этих... государственных писем, тут они, – отвечал Хайдук, ныряя в почтовое отделение четвертой категории, устроенное в углу магазина. – Как же, мистер Воглин, сегодня мне на глаза попадались... минуточку... куда-то завалились... да вот они. Одно от командования инженерных войск, другое из окружного суда. Как Вообще-то дела?
Я отыскал холодильник и вскрыл бутылку лимонада, сделал большой глоток и стал оглядываться в поисках уборной. Неблизкий ведь путь от Эль-Пасо до Пекарского.
– Ты про то не хуже меня знаешь, – отправляясь к нужной двери, услышал я дедушку. – Вот десять центов, дай бутылку содовой.
– Теперь содовая по двадцать, мистер Воглин, если навынос.
– Навынос берем, Хайдук.
Дедушка ждал меня снаружи, на жаре, с бутылкой в руке.
– Ну вот и Билли. – Письма торчали из кармана его рубахи, невскрытые. – Зайдем по соседству пива попить.
Мы зашагали. Тут подъехал рейсовый автобус Альбукерке – Эль-Пасо, остановился на секунду перед магазинчиком, водитель дал сигнал и бросил сверток газет на порог Хайдуку. Ни один пассажир не сошел и не сел, автобус заурчал себе дальше на север, следующая остановка Аламогордо, через тридцать миль. Я крепко сжал в руке бутылку и нахлобучил поглубже шляпу, когда мы входили в пустынный затененный простор бара «Колесо фургона». Здесь некогда людей убивали.
Тщедушный ковбой, примостясь на одном из табуретов у стойки, разглядывал нас, когда мы входили, и моргал от потока свежего воздуха и солнечного света.
– Закрой-ка дверь, Джон, – сказал он моему деду. – И так мухи донимают. Что там снаружи, все еще жара?
– Выйди – и проверишь, – ответил дед. У мексиканца-бармена он заказал банку пива.
– Я выйду, когда солнце спрячется, – заявил ковбойчик, елозя на табурете. Словно индеец, он так и не выучился сидеть на стуле. – Алло, Билли-малыш, – это он мне, – какие у тебя-то дела в этом уголке ада? Ты почему не в школе, к которой приписан?
– Июнь, – объяснил дедушка, – время каникул. Билли приехал провести еще одно лето на нашем ранчо. Кабы явился ты на дневной свет, Банди, научился бы различать, что зима, а что лето.
– Зима, – Банди глубокомысленно уставился в потолок, – лето. Ох, помню я, какие они, Джон. Когда-то видал.
– Ну, еще раз повидай, – заметил дед, – ты там снаружи им пригодишься.
«Колесо фургона» – хороший бар, мне всегда нравился – простором, сумраком, тишиной, всегдашней прохладой, даже в самые жаркие дни июля и августа. Больше всего мне нравилась роспись во всю стену, огромная примитивная картина, двадцать футов на десять, изображающая Ворью гору на фоне беспорочного голубого неба, три общипанных черных грифа вьются над всадником посреди Белых песков. Конь еле волочится по песчаному бугру, свесив голову и прикрыв глаза. Человек в седле сидит мешком, на рубахе темная полоска крови, стрела торчит из его спины, безвольно болтается левая рука, едва сжимая ружье. Художник дал своему произведению такое название: «Суд пустыни, или Сорок миль до надежды».
Я выпил свой лимонад и рассматривал эту картину, пока дедушка небрежно вел беседу с ковбойчиком.
– Слыхал я, ты объявил войну целому государству – Соединенным Штатам, – сказал Банди.
– Нет, это они мне войну объявили.
– А ну как государство в защите нуждается. Лу на чьей стороне?
– Считай, на моей.
– Значит, государству помогать надо. Уж не пойти ли мне добровольцем? Как лето кончится, ясно, и жары такой жуткой на улице не будет. По-твоему, Джон, куда мне записаться – в пехоту? В простую или в морскую? Или на флот? Или в авиацию?
– Банди, от тебя голова разболится. – Старик допил пиво и обернулся ко мне. – Идем, Билли.
Мы с дедушкой снова оказались среди обжигающего послеполуденного сияния. Жарко было, как в котле. Пошли к грузовичку, сели в кабину.
Остановились у нового универсама на краю поселка, старик купил там муки и фасоли, и мы поехали на юг, потом повернули к западу на двадцатимильную грунтовую дорогу, которая ведет к ранчо.
Пейзаж передо мной был очень похож на стенопись в баре «Колесо фургона». На западе поднимался сломанный зуб Ворьей горы (высота– десять тысяч футов над уровнем моря), ее украшало облачко. Севернее – горы Сан-Андрес, белые бугры гипса заполняли все пятьдесят миль до основания хребта, южнее Органные горы тянулись до приграничной безлюдной пустыни и Старой Мексики. Два грифа парили высоко в голубизне, жадные их глаза не упускали ничего из творившегося внизу, утроба, клюв, когти были сторожко напряжены из-за голода.
Добрались мы до ограды, потом и до ворот скромного дедова королевства. Он остановил пикап, я вышел отворить ворота и придержать их. Старик въехал, я закрыл и запер ворота, опять взобрался на сиденье.
Мы ехали по солонцовой глади на дне древнего озера, зной налетал упругими волнами, сквозь потоки жары и света очертания гор казались сдвинувшимися со своих мест и плывущими в желтом сияющем небе. В этих краях без фантазий и миражей не обойтись.
Затем мы пересекли глинистые холмы, напоминавшие гигантские ульи, песчаниковые башни и утесы, самосаженный цветник из юкки с десятифутовыми цветочными стрелками. Дорога сбежала в широкую промоину, мы запрыгали по мягкому горячему песку и вверх на другую сторону, мимо зарослей ивы и тамариска, где гурт дедовых мордастых герефордов прятался в тени, ожидая заката, когда можно будет подняться и продолжить поиск пропитания. Кабина грузовичка наполнилась мелкой пылью, ее слой лег на передний ящичек, и я написал на нем: Билли Воглин Старр.
Мы и не пытались беседовать в дороге, ибо пикап дергался как мустанг, ревел мотор, едкая соль садилась на глаза и зубы. Дед смотрел прямо вперед из-под своей потрепанной шляпы и не выпускал руль. Я поглядывал по сторонам, насыщая глаза, мысли и сердце красотою этих суровых мест. Крутая сторона, что называется. Корове надо полмили протопать, чтоб найти клок травы, и пять миль, чтоб сделать глоток воды. Будь ранчо моим, я бы продал рогатый скот и развел бы тут диких лошадей и бизонов, койотов и волков, и пусть ее пропадает мясная промышленность.
Вот и последний подъем, впервые открылась глазу центральная усадьба ранчо – в миле впереди и тысячей футов выше. В кольце тополей стояли вкруг главного дома ветряк и цистерна с водой, там и сям навесы, корали, сарай, барак и другие постройки поблизости, все они располагались на ровном пространстве над высохшим руслом, именовавшимся рекою Саладо, где густая струйка едва вилась меж берегов.
Дедушка затормозил, выключил мотор и посидел немного, оглядывая свой дом, и выражение его обветренного продубленного лица было печально и тревожно.
– Все выглядит как всегда, дедушка, – сказал я. – Как в прошлом году и еще годом раньше. Как положено.
Он распрямился, закусил сигару, протянул большую мускулистую руку и положил ее мне на плечо.
– До чего я рад, Билли, что ты приехал.
В этот миг я готов был отринуть свой иной дом, покинуть мать, и отца, и сестренку, и всех своих приятелей и провести оставшуюся жизнь в пустыне, завтракать кактусами, пить кровь в час коктейля, дозволяя яростному солнцу прожигать мою шкуру и душу. С радостью бы я променял родителей, школу, диплом колледжа и карьеру на одну надежную верховую лошадь.
– Если ты позволишь, я обратно не поеду. Никогда не вернусь. Буду жить тут и работать на тебя до конца своей жизни.
Старик рассмеялся.
– Хороший ты парень, Билли. – Он обнял меня за плечи. Мы рассматривали ранчо еще с минуту, потом дед поднял руку и показал на Ворью гору: – Вон где мы будем завтра. Надо искать меринка. Заночуем в старой хибаре, и я покажу тебе львиные следы. – Он включил зажигание, мотор заработал.
В этот момент я заметил хвосты трех реактивных самолетов, тянущиеся с севера, эти белые полосы сверкали на чистом ясном голубом небе.
– Три реактивных, дедушка, – показал я ему. – Видишь, там, высоко-высоко? – По-моему, были они даже красивей, чем грифы.
Старик не разделил это мое впечатление.
– Вторженцы, – пробормотал он, и улыбка сошла с лица. Снова улетучилось его хорошее настроение. Больше мы и не разговаривали, пока ехали к усадьбе. Поставив машину под деревья, дед молча пошел в дом, не обращая внимания на собак, которые прыгали на нас с радостным лаем. Волчица – крупная немецкая овчарка – кинулась мне на грудь и облизала лицо своим влажным языком, а пара щенков, которых я прежде не видал, скакали и кувыркались вокруг словно одурелые.
Вид, запах и звук всего здешнего был мне чуден; толстые деревья со стволами, подобными ногам гигантских слонов, и купами пронизанных светом, шепчущихся, зелёных-зеленных листьев; ветряк со стоном и звоном поворачивался и качал отменную холодную воду из скалы; верховые лошади фыркали над поилкой в корале; дойная корова мычала, куры беспокойно кудахтали; обиженный крик грудного ребенка доносился из мазанки, в которой жили Перальты. А лучше всего было зрелище главного дома с его толстыми саманными стенами и с квадратными оконцами, похожими на бойницы форта.
По высоким ступеням мы поднялись на длинную веранду, прошли под выставкой оленьих рогов и подков, попали в прохладу и темень. Я сразу почуял знакомый аромат тушеной фасоли, перечного соуса и свежевыпеченного хлеба и понял, что вновь я дома.
Из сумрака горницы навстречу нам вышла Крусита Перальта, дедушкина кухарка и экономка. Полная, коричневая, как седельная кожа,красивая, Крусита вскричала от восторга, когда увидела меня, и обняла будто собственное дитя, чуть не задушив на своей объемистой груди.
– До чего здорово, Билли, что ты приехал! Ах, как вымахал всего-то за год, мне, гляди, по шею стал. Скоро-скоро подрастешь да вытянешься, настоящий мужчина будешь, выше своего дедушки. И не такой грозный, надеюсь. Поцелуй меня еще разочек, Билли! Спорю, ты голоден, как волк. Столько ехал, да все один, как взрослый.
Я ухитрился, наконец, высвободиться из ее удушающего захвата и подтвердил, что голоден и буду рад чего-нибудь поесть.
– Ты займись-ка прежде младенцем,– сказал ей дедушка. – Снова он не спит. Потом придешь и накормишь нашего мальчика. Он ничего не ел от самого Эль-Пасо.
Крусита заспешила в свое жилище. А мы со стариком вышли из темноты в кухню, где он угостил меня водой со льдом в высоком стакане, а себе смешал лед, ром и воду. Побалтывая свой напиток, он сел к столу и меня пригласил сделать то же. Долгий путь по пустыне вымотал нас. Освежившись, мы, все-таки усталые, в молчании сидели и ждали возвращения Круситы.
Я налил себе из кувшина второй стакан и, водя взглядом по сторонам, посасывал кубик льда. Все по-прежнему: чугунок фасоли на печке, кастрюльки в ряд на стене, герани на подоконниках в банках из-под томата, большие холодильник и морозильник из нержавеющей стали, которые работают от газовых баллонов, стоят в углублении за печкой, куда их старик поставил сколько уж лет назад. Ему не нравилось и не требовалось электричество, но нравилось класть лед себе в напитки. Холодильник, пикап и зубочистку признавал он тремя великими достижениями современного человечества.
Вернулась Крусита, подала нам по тарелке с горой жареной фасоли, жареного мяса, жареной картошки с яйцами, щедро заправив все красным перечным соусом. Вместе с тарелками появились толстые ломти свежевыпеченного ею хлеба, масло, варенье, молоко и кофе. С отличным аппетитом взялся я за еду, которую предвкушал в течение полутора суток и двух тысяч миль в поезде. Ел, вытирая набегающие слезы, прочищал нос, выпил всю воду и все молоко, что было на виду, и подбавил жгучего соуса себе в фасоль.
Поев, дедушка откинулся на стуле, закурил.
– Где Элой? – спросил он, подразумевая Элоя Перальту, мужа Круситы и своего работника.
Крусита налила деду вторую чашку кофе.
– Сказал, поедет к северному краю, мистер Воглин. Хочет там зачинить дырку в заборе, которую джипы пробили.
– Ох уж эта мне солдатня, – заворчал старик. – Ей-богу, еще раз – и охоту на них устрою.
– Что случилось? – полюбопытствовал я.
Дед посмотрел на меня отрешенно, занятый своими мыслями. Потом выражение его лица смягчилось.
– Видишь ли, им нравится охота на зайцев, этой, понимаешь, солдатне из центра испытаний. Больше, догадываюсь, им делать нечего, вот и гоняются за насмерть перепуганными зайцами и насквозь таранят мой забор. Второй раз в этом году. Уж коли так им невтерпеж без войны, пусть поищут ее себе где-нибудь за морем и оставят нас, мирных жителей, в покое.
Снаружи донеслось стенание дойной коровы. Крусита мыла посуду, ополаскивая ее кипятком из чайника, гревшегося на плите.
– Что за корова, – сказала она, – вечно хочет доиться, когда я занята. Пускай обождет.
– Она через забор скакнет, – заметил дедушка.
– Сперва домою посуду, будь неладна эта корова.
– А может, теленок сбежал. Его еще не отбили?
– Недельки две пусть пососет, – отвечала Крусита.
Вновь замычала корова. С громким стуком Крусита расставила посуду на сушилке и выпорхнула из кухни. Мы поглядели ей вслед
– Крусита что хочешь умеет, верно, дедушка?
– Добрая она. Меня, прямо скажем, избаловала. Как она управляется и со всеми своими детишками, и с Элоем, и с коровой, и с курами, и со мной, даже подумать страшно. – Он неторопливо попыхивал сигарой, уставясь в потолок.
Жена его умерла пятнадцать лет назад в больнице в Аламогордо. Глядя на взгрустнувшего старика, я не мог понять, о том ли он сейчас задумался. Что-то волнует его глубоко, это было ясно. Хотелось задать вопрос, но я знал, что, когда сочтет нужным, он сам мне все расскажет.
Сумерки тихо заполняли комнату, солнце садилось за щербатый край горы.
Дед поднялся со стула.
– Пошли на крыльцо. Сейчас Элой должен объявиться.
– А когда Лу приедет?
– В точности не знаю; сказал, что где-то к вечеру.
Распахнув затянутую сеткой кухонную дверь, мы вышли на просторную веранду, которая закрывала и погружала в тень западную и южную стены дома. Солнечный свет столбами выбивался в небо из-за Ворьей горы, золотя снизу кучевые облачка, чистые и аккуратные, плывущие по невидимой воздушной плоскости. Поближе к нам сине-черные и хорошо видимые против света козодои взмывали и затем пулей кидались на насекомых, роившихся над коровьими тропами вдоль русла реки. Летучие мыши кружились в сумерках над коралем и цистерной, издавали странные звуки, напоминавшие мне треск плохого контакта в электропроводке. У мексиканцев на Юго-Западе заведено отлавливать летучую мышь, пока она спит днем, и прибивать ее живую к двери сарая, чтобы отпугивать ведьм. В Новой Мексике ведьм много, и добрых, и злых, им доверять нельзя, есть у них слабость шутить над скотом местных жителей. Сам я в ведьм не верил, но знал, что тут они водятся.
– Прибывает сеньор Перальта, – сказал я, заметив, как лошадь со всадником приближается шагом из-за ив, растущих над почти безводной рекой. Элой Перальта, единственный дедов постоянный работник на ранчо, был хороший человек, хорошо делал все, за что ни возьмется, и был готов трудиться 364 дня в году за 150 долларов в месяц плюс кров и стол для него с семьей. Он подвергался эксплуатации, конечно, но то ли не понимал этого, то ли не придавал этому значения. Ему, похоже, доставляло радость натягивать колючую проволоку, ковать лошадей, клеймить телят, вести споры с моим дедом, а выйдя из себя и отказавшись от места – да, и такое бывало, – знать, что всегда можно вернуться на следующий день.
– Увольняюсь! – возопил он, показавшись из вечерней мглы на уставшей, в пене лошади. – Исусе и пресвятая дева! – Он осадил коня у ступенек крыльца и посмотрел на нас, улыбка осветила его лицо седельного цвета, когда он углядел меня. – Билли, мальчик мой! Приветствую тебя по случаю возвращения на бесплодный, выжженный, проеденный, никчемный, запущенный клочок земли Воглина!
Он вынул ногу из стремени, закинул ее на шею лошади. Этот конь, старый Разлапый, стоял и отдыхал, гоняя хвостом оводов. Я ответил на приветствие. Затем наступило короткое молчание, пока Перальта рассматривал закат и снимал репьи со штанины.
– Лучше иди к себе и поужинай, Элой, – сказал ему дед. – Не хочу выслушивать все прямо сейчас.
– Ах, не хотите слушать! – сердито нахмурился Перальта. – Позвольте, мистер Воглин, а не лучше ли нам податься в Нью-Йорк какой-нибудь или в Пенсию – как она там, Билли, зовется? Пенсильванию, а? Не желаю я на этом треклятом клочке работать.
– Иди домой, жуй и помалкивай, – устало произнес дедушка.
– Ага, помалкивать. И глаза закрывать в довершение? Авось поможет. – Он все обирал колючки с джинсов. – Сегодня-то они, мистер Воглин, не за зайцами гонялись.
– Нет? А за кем же?
– Откуда мне знать, что оно такое. Длинная такая штука, белая, блестящая, спустилась, будто стрела, и ну гореть. А три джипа да эти, в желтых касках, за ней в погоню ударились, как сумасшедшие.
– Опять ограду порвали?
– Нет, забор там я починил. Зато на этот раз они нашли ворота и бросили их настежь, две-три коровы сбежали. Полдня охотился я за ними. А попробовал заговорить с теми дикарями, к себе и не подпускают, потом на меня джип погнали, коня напугали и орали мне: «Мотай отсюда, мотай отсюда! – Перальта изображал тех людей в желтых касках, размахивая руками и подвывая, – Мотай, мотай, поганый мексиканец».
– Так тебя и обзывали?
– Вроде, – замялся он.
– А ты их как обзывал?
Перальта опять замялся, глянул на меня.
– Никак я их не обзывал, поганых гринго. Может, расслышали меня, поди знай. Ушел оттуда коров искать. Потом большой грузовик явился, красные фары и сирена вот такая, – он закинул голову, сдвинул шляпу на затылок и завыл на небо, подражая сирене, потом прервал вытье. – Одна надежда, коровы завтра найдутся.
– Элой, при мальчике не стоило так высказываться.
– Согласен и прошу прощения.
– Иди ужинай. Слезь с бедного коня. Бог ты мой, глянь на его копыта, снова две подковы потерял!
– Мистер Воглин, на эти ножки подков не напасешься. Ему сковородки, видать, надо ставить. – Перальта помахал мне и двинулся к коралю, рой оводов заплясал вслед за лошадью.
– Скажи Крусите, я комнату мальчику сам подготовлю, – крикнул ему в спину старик, и Перальта кивнул в ответ. – Пойдем-ка соснем, Билли, – обратился ко мне дедушка. – Завтра нам еще до рассвета трогаться.
Взяли из пикапа мои вещи и подарки, вернулись в дом. Старик повел меня через громадную горницу с циновками на полу, мимо похожего на пещеру камина с уложенными в ожидании огня дровами, под старинными ружьями и охотничьими трофеями, украшающими стены. Далее мы шли мимо дедова кабинета. Дверь была открыта. Я кинул взгляд на бюро с кипами бумаг, расчетных книг и писем. Над столом – фотографии моего старика и трех его дочерей: моей матери, живущей в Питсбурге; Марианы, живущей в Аламогордо; Изабеллы, живущей в Финиксе. Все трое замужем, у всех свои дети и свои проблемы. Выше висел писанный маслом портрет Якоба Воглина, дедушкиного отца, сурового бородатого голландца, основавшего это ранчо еще в 1870-е годы, сначала он обманом его добыл, а потом отстаивал, борясь с апачами, с Южно-Тихоокеанской железной дорогой, со скотопромышленной компанией «Доброй ночи», с Первым национальным банком Эль-Пасо, с федеральными властями Соединенных Штатов, – то были бесконечные войны, депрессии, налоги.
Мимо кабинета мы прошли застеленным ковровой дорожкой коридором к спальням. Первые две были заперты, третья открыта, и мы туда повернули. В этой самой комнате я спал оба предыдущих лета, а в остальное время ею пользовались дедовы дочери, изредка его навещавшие. Поэтому спальня носила следы женского пребывания – обои с цветочками, розовые и нежно-зеленые покрывала, парчовые портьеры и прямо-таки балетные «пачки» на окнах, все это отбирало свет и воздух.
– Нравится тебе комната, Билли?
– Очень милая, – не сразу ответил я.
– Нет у тебя удушья?
– Да-да.
Помолчали.
– Вот что, – сказал дед, – ты переспи тут ночь. А вернемся из поездки в горы, уберем одну из комнат в старом бараке, выгоним скорпионов и змей, устроим тебя в лучшем виде. Как на это смотришь?
– Да-да.
– Что?
– По-моему, хороший замысел, дедушка,
– Отлично, так и поступим. А теперь посмотрим, что тут за дамская кровать. – Он отвернул угол зеленой настилки и обнаружил чистые простыни, пахнущие мылом, ветром и солнцем, уже расстеленные. – Молодец наша Крусита, раньше нас тут побывала, храни бог ее доброе сердце.– Дедушка развернул стеганое одеяло, лежавшее в ногах.– Все, Билли, раздевайся и в постель, а завтра – в путь. .Сколько ты в седло не садился?
– Девять месяцев.
– Девять месяцев! Да, нужно хорошенько выспаться. – Он собрался уходить, но задержался у керосиновой лампы, стоявшей на тумбочке. – Хочешь, зажгу тебе лампу? – В комнате был полумрак.
– Нет, дедушка, мне не нужно.
– Отлична Ты умывался, зубы чистил?
– Да.
– Когда же?
– Утром в поезде.
Дедушка на миг задумался.
– Отлично. Ну, спокойной ночи, Билли.
– Спокойной ночи.
Он вышел, закрыл дверь. В одиночестве, тишине и темноте, чуя непривычность комнаты и земли, куда я попал, я ощутил подступающую тоску по дому, но чтобы не предаваться ей, разделся, положил новую соломенную шляпу на комод и поставил свои новые сапоги рядышком на полу у самой кровати. Чувствовал себя усталым, но спать не хотелось. Открыл окно, стал смотреть на серп молодой луны и слушать голоса лягушек-быков – их песня была для меня слаще соловьиной.








