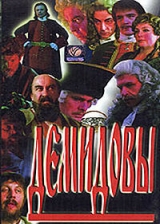
Текст книги "Демидовы"
Автор книги: Эдуард Володарский
Соавторы: Владимир Акимов
Жанры:
Киносценарии
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
ВЛАСТЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ ПЕТРА ПЕРВОГО НА РУССКИЙ ПРЕСТОЛ ВЗОШЛА ЕКАТЕРИНА. ПОСЛЕ ЕЕ СМЕРТИ ИМПЕРАТОРОМ СТАЛ ДЕВЯТИЛЕТНИЙ ПЕТР, СЫН КАЗНЕННОГО ЦАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ.
Одинокий возок катил по бесконечным российским просторам, переваливаясь на ухабах, покрывался дорожной пылью, чернел под дождем. Двое конных гвардейцев сопровождали его. А в возке – бывший первый сановник империи Петра, светлейшим князь Ижорский Александр Данилович Меншиков с малолетним сыном и двумя дочерьми. Князь сильно постарел за эти несчастливые для него годы.
На столе в кабинете Акинфия Никитича Демидова стоял макет каменной башни, окруженной высокими кирпичными стенами. Акинфий внимательно разглядывал его. Зодчий Ефим Корнеев и двое бородатых каменщиков переминались у стола.
– Стены будем класть в полтора аршина, – говорил Корнеев, – и втрое больше обычного. Потому как в том месте много подземельной воды.
– Ты в ней силу уральскую покажи. Нашу, железную! И чтоб я с нее весь Невьянск видеть мог.
– Уж и не знаю, как на вас угодить, Акинфий Никитич.
– Угождать не след, делать с талантом надо! – прищурился Акинфий.
Дверь в кабинет приоткрылась, заглянул приказчик Крот:
– Гости пожаловали, Акинфий Никитич.
Во дворе дома Демидовых, у распахнутых ворот конюшни, стоял грязный возок и рядом с ним – опальный князь Меншиков с детьми. Позади два гвардейца держали под уздцы лошадей. Камзол на Меншикове сильно поношен, черную треуголку держал в руке, выражение лица конфузливое, растерянное.
– Князь, дорогой… какими судьбами? – Акинфий сбежал с крыльца, стиснул Меншикова сильными руками.
…Потом они сидели в столовой и два лакея подавали блюда, меняли серебряные приборы, наполняли кубки, а затем вновь неподвижно застывали у дверей. Евдокия держала на коленях трехлетнего сына. Рядом с отцом восседал тринадцатилетний первенец Прокопий.
Акинфий взглянул на жену, и Евдокия, а за ней тут же и Прокопий поднялись. Как по команде, встали дочери и сын Меншикова. Вышли.
– Э-эх, время-времечко, – вздохнул Акинфий, разливая водку в кубки. – Седые мы с тобой уже, князь.
– Нда-а, годы катятся, аки камни с горы, – горестно покачал головой Меншиков. – Кто я был и кто теперь есмь? Свои крепости имел…
– С моими пушками, – улыбнувшись, пошутил Акинфий и выпил.
– Орденов – не знал уж куда вешать. И ведь все заслуженное! Великий Петр Лексеич старания мои отмечал. И на тебе! В Сибирь сослали, как варнака какого… Жену в дороге схоронил. Не перенесла унижении. – Меншиков трубно высморкался в платок, вытер повлажневшие глаза. – Вот какова на Руси благодарность за труды ревностные! Придет новый монарх и тебя за твои старания – в морду. Так-то, Демидыч, на ус мотай. Уж коли меня смяли, тебя и подавно раздавят.
– Тебя смяли, это верно… – раздумчиво проговорил Акинфий и вдруг спросил в упор: – А кто ты такой был-то?
– Как кто? – опешил Меншиков. – Я – правая рука императора был. Второй человек в государстве!
– А чего полезного ты для государства сделал? Казну обворовывал? Взятки брал? Ордена себе вешал? – Акинфий спрашивал спокойно, даже с некоторой ласковостью в голосе, но злая усмешка кривила губы.
– Да ты что-о, сучий хвост! – придушенно выкрикнул Меншиков и грохнул кулаком по столешнице. – Ты с кем разговариваешь?
– Ты охолонись маленько, Александр Данилыч, охолонись, – ласково продолжал Акинфий. – Подумай лучше, с кем разговариваешь. У меня двадцать заводов, Данилыч. Нынче вот двадцать первый закладывать буду. Я – хозяин на Урале. А ты кто? Меня сомнут, в России железа не будет! Пушек не будет! Якорей! Моим железом со всей Европой торгуют! – Акинфий тяжело задышал, сжал кулаки. – А тебя вон смяли, и никому от этого не холодно, не жарко. Доходное место освободилось, другой на ем теперича воровать будет.
Сломленный судьбой властелин не отвечал, сидел, сгорбившись. Акинфий одним махом опорожнил кубок, спросил:
– Куда путь-то держишь, Данилыч?
– В Березов… – не сразу отозвался Меншиков. – Сослали навечно.
– Ты того… не обессудь за слова злые, – вздохнул Акинфий. – Чего заслужил, то и получил. Нешто деньгами тебе помочь? По старой дружбе.
– Не надо, – Меншиков резко поднялся, взглянул с ненавистью. – Прощай, Акинфий Демидов. Дай бог больше не видеться!
– Так и думал, что откажешься, – улыбнулся Акинфий. – Что ж, дай бог не видеться…
ПОСЛЕ СМЕРТИ ПЕТРА И НА ПРЕСТОЛ ВСТУПИЛА АННА ИОАНОВНА. НАСТУПИЛИ ГУБИТЕЛЬНЫЕ ВРЕМЕНА БИРОНА.
Под вечер Акинфий наблюдал, как каменщики возводили стены башни. Работа спорилась. Прозвонили колокола в церкви. Из завода шли закопченные кузнецы, плавильщики, горновые. Проходя мимо Акинфня, торопливо снимали шапки, кланялись. Вдруг истошный крик послышался издали:
– Хозяи-и-ин!
Вдоль заводского пруда, мимо баб, полоскавших на берегу белье, карьером летел приказчик Крот. Перемахнул через плотину и прямиком к Акинфию. Глаза у него выпучены, рот перекошен от крика:
– Хозяин! Нашли место! Пантелеевское место нашли!
– Ты что разорался на всю округу, дубина?! – рявкнул на него Акинфий.
– Нашли место… – задыхаясь, бормотал Крот, – жилу серебряную и пометки Пантелеевские. Ох, и богатая жила, хозяии-ин!
– Кто нашел?
– Углежог. Платошкой кличут. Лес под уголь валил и наткнулся.
– Он никому про жилу не сказывал?
– Да вроде, никому… Правду сказать, там неподалеку еще углежоги работали… – раздумывая, отвечал Крот.
– Н-ну-у, хорошо-о… – Акинфий вытер мокрый лоб, огляделся по сторонам. – За добрую весть сто рублей тебе жалую, Крот.
– Премного благодарствую, хозяин.
– А вечером ко мне того углежога приведи. Или ист, я сам к нему наведаюсь. Где живет, знаешь?
Поздним вечером Акинфий в сопровождении Крота направлялся к жилищу углежога Платона. Шли узкими улочками. По обе стороны – покосившиеся, ветхие хибары с подслеповатыми оконцами. Свиньи нежились в лужах, бродили козы.
Крот толкнул скрипучую дверь.
– Хозяин дома?
В глубине потрескивала лучина, воткнутая в стену рядом с иконой. Деревянная люлька на веревках подвешена к потолку. Нещадно дымила печь.
Когда гости вошли, с лежанки растерянно поднялась, кутаясь в драный платок, Марья. Акинфий долго, не веря своим глазам, приглядывался к ней – постаревшей, с глубокими, печальными глазами.
– Марья… – шепотом спросил Акинфий, и ужас охватил его. – Это ты, Марья?
– Я… Здравствуйте, Акинфий Никитич…
Крот с удивлением смотрел то на хозяина, то на Марью. Акинфий обессиленно прислонился к стене.
– Ну-к, Крот, выйди, – негромко приказал он.
Приказчик молча повиновался. На пороге обернулся.
– Марья… – Акинфий шагнул к ней, будто слепой, протянув вперед руки. – Марьюшка… Как же это, господи!
Они обнялись и долго стояли неподвижно, боясь шевельнуться.
– Давно ты здесь? – шепотом спросил Акинфий.
– Дочке уже шесть годов минуло…
– Что ж не объявилась, не показалась?
– Зачем? Чтоб твоя Евдокия меня опять отравой опоила?
– Ох, Марья, Марья… – простонал Акинфий. – Что ж за жизнь такая подлая?
– То не жизнь, Акинфушка, то – люди… На беду мы с тобой встренулись, чует сердце…
Акинфий запустил руку в карман, достал пригоршню серебра, стал совать Марье. Монеты падали на пол, позванивали. Марья стояла, не шевелясь.
Вильгельм де Геннин прибыл в Невьянск ранним утром. Из кареты следом за ним выбрался и бывший поручик Преображенского полка Василий Татищев.
– Вот, Акинфий Никитич, это его превосходительство Василин Татищев, – улыбнулся до Геннин. – Будет тут начальником от бергколлегии.
– Ну что ж, – усмехнулся Акинфий. – Прошу отобедать. Стол давно накрыт.
– Нет, нет, Акинфий Никитич, сперва показывай свои владения.
– Воля ваша, Вильгельм Иваныч…
…Они обошли завод, кузни, осмотрели две домны. Повсюду видели они изможденных людей в лохмотьях – впалые щеки, провалившиеся глаза, пот от непосильной работы. И повсюду прогуливались здоровенные, мордастые парни в заломленных на затылок шапках, с нагайками в руках.
В горной избе де Геннин остановился возле целой связки плетей, висевших на стене, покачал головой:
– И много ты ими пользуешься, Акинфий Никитич?
– В меру. Без строгости в нашем деле нельзя.
…Спустились в шахту. Согнувшись, пробирались по узкому штреку, каменистые своды нависали над головой. Где-то громко журчала вода, слышался звон железа, удары кайла. Надсмотрщик с фонарем завел их в забой – в тесной нише при чадящем свете коптилок били кайлом породу несколько человек, ноги у всех в кандалах. Другие на тачках отвозили руду.
Татищев присел на тачку, спросил у изможденного парня:
– Ну… и как тут работается?
– А вы у хозяина спросите. Ему видное, – с хрипом ответил тот.
Мимо, поскрипывая тачками, согнувшись в три погибели, проходили рудокопы, искоса поглядывая на господ.
– Нет, ваша милость, Василий Никитич, – говорил Акинфий за обедом Татищеву, – я сам простым кузнецом был и что такое тяжелая работа, знаю. И лупцевал меня отец чуть не каждый день. Только на пользу сие учение пошло.
– Стало быть, ты хочешь меня уверить, что человек без плетей работать не будет, – усмехнулся Татищев.
– Я не зверь, я человек, – угрюмо ответил Акинфий. – Иной раз от жалости сердце болит нестерпимо. Но в пашем деле не как сердце велит поступать надобно, а как голова приказывает.
– По закону надобно, Акинфий Никитич, дорогой, – сказал Татищев. – По закону. Без жестокосердия.
– Значица, я выхожу жестокосерд! – тяжело задышал Акинфий. – Что цепи надел и плетьми секу! Хорошо, я зверь, а ты, генерал, – ангел! Может, ты заместо них в рудник пойдешь? Кайлом махать да руду на тачке таскать. Не-ет, генерал, ты не пойдешь! Да и кто ж туда по своей охоте идти согласится? Стало быть, ядер не будет, пушек, других надобностей. И как же тогда быть?
– Конь тяжелый воз потянет, ежли его кормить и беречь. Так и с работным людом надобно. – Де Геннин с удовольствием выпил вина.
– Да-а… – помолчав, вздохнул Татищев. – Что Демидову законы, когда ему судьи знакомы.
– Это ты про что?
– А вот про что. У тебя сейчас двадцать заводов, а подать в казну платишь такую ж, как у тебя дюжина заводов была. Себя государственным человеком мнишь, а казне не додаешь.
– Кому те деньги идут? – спросил Акинфий, устало закрыв лицо руками.
– Что значит – кому? – удивился Татищев. – Доходы казны распределяются согласно государственной надобности
– Кому идут деньги? – упрямо повторил Акинфий.
– Не понимаю тебя, – нахмурился Татищев.
Акинфий вскочил, с грохотом отодвинул тяжелый стул. Вышел и тотчас вернулся с кожаным портфелем. Рванул ворот, выпростал гайтан с крестом и ключиком.
– Вы в Питербурхе думаете, мы навроде медведей, окромя лесов, ни хрена не знаем, – бормотал Акинфий, отпирая портфель. – Не… Нас тоже не в дровах нашли…
Вынув нужную бумагу и далеко отставив от себя, пробежал глазами:
– Слушай, что казна истратила за летошний год… На строительство Питербурха 256 313 рубликов, на содержание двора матушкиного 2 мильона 500 тыщ. Но матушка-то ладно, бог ей судья… Слушан дало: артиллерия российская – 370 тыщ, а конюшни светлейшего герцога Бирона – мильон с тремя рублями. Это так?
– Это не твое дело, – не скрывая недовольства, сказал Татищев. – Твое дело исправно платить подать.
– Ага, – кивнул Акинфий. – А лошадки немецкие мои денюжки на дерьмо переводить будут? Нет, генерал, я уж лучше двадцать первый завод поставлю. – Не выдержал, сложил кукиш, сунул Татищеву: – Вот конюху немецкому!
– Остерегись, Демидов. – Татищев встал. – Я дворянин и я присягал…
– И я дворянин, – поднялся Акинфий. – Мне Петр Великий сие звание даровал! И я россиянин!
А башню все строили. Росли степы. Акинфий взобрался по лесам на верхнюю площадку. Отсюда открывалась далекая панорама на весь Невьянск, на заводы, пруды, нагромождение черных домишек, на серебряную гладь воды с парусными лодками.
Акинфий вдохнул полной грудью, улыбнулся. Следом на площадку, пыхтя, взобрался зодчий Ефим Корнеев.
– Тута две малых мортиры поставить надобно, – глянул на него Акинфий. – Ядер горку да пороху положить…
– Пошто, Акинфий Никитич? – удивился зодчий. – По ком палить?
– Было бы чем палить, Корнеич, а по ком – завсегда сыщется.
…В камере под башней был сооружен сыродутный горн с клинчатыми мехами. Там трудились трое мастеровых.
Когда зашел Акинфий, они вытаскивали из горна крипу отлитого металла.
– Гляди, хозяин, – улыбаясь и утирая мокрое бородатое лицо, проговорил мастеровой Иван Детушкин. Он ловко подхватил полупудовую крипу железными щипцами, сунул в бочку с водой. С шипением поднялось облако пара. Через секунду Акинфий держал в руках кусок серебристого металла, ощупывал его, ковырял ногтем.
ПЛАВИЛЬНЫХ ДЕЛ МАСТЕР ИВАН ДЕТУШКИН. ПОТОМКИ: ВНУК СЕРГЕЙ НИКОДИМОВИЧ – ТОЖЕ ПЛАВИЛЬНЫХ ДЕЛ МАСТЕР; ПРАВНУК ИГНАТ САВВИЧ – ГОРНОВОЙ НА ВЕРХ-ИСЕТСКОМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ, ЧЛЕН РСДРП С 1903 ГОДА, ПОГИБ В 1919 В БОЯХ С КОЛЧАКОМ; ПРАПРАВНУК МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ ДЕТУШКИН – СОВЕТСКИЙ УЧЕНЫЙ-АТОМЩИК.
– Чистое серебро, хозяин, – гудел Детушкин. – Без примесей. Хоть рубли отливай!
– Тихо, Детушкин, – Акинфий вскинул на него лихорадочно заблестевшие глаза, – про рублики никому ни полслова. Руду мы эту вам сюда по ночам доставлять будем, и уголь також, и припас съестной. А платить я вам чистым серебром буду.
Трое мастеровых молчали, соображали. Страх медленно закрадывался в души. Акинфий бросил слиток на каменный пол, раздался мелодичный звон. Подмигнув мастеровым, хозяин вышел, старательно прикрыв за собой окованную железом дверь. За дверью стоял чубатый стражник с саблей и пистолетом за поясом.
На столе Акинфня лежала громадная карта-чертеж Урала и ближних мест. Вокруг стола сгрудились бородатые мастера.
– Думка у меня такая, господа мастера. До зимы заложить еще четыре завода: Кыштымский, Уткинский, Иргинский и Верх-Исетский. Окромя того, рудознатцы мои нашли богатые медные жилы в краях Алтайских.
– Вон куды добрался Демидов! – присвистнув, сказал мастер Гудилин,
– Дай срок, мы во все пределы распространимся! Была б охота к делу сему.
При этих словах Акинфий покосился в сторону сына. Прокопий сидел в стороне и явно скучал. Был он статен и красив с виду, в дорогом атласном кафтане с брильянтовыми пуговицами. Дорогие перстни сверкали на холеных руках.
– А на молотовых фабриках, – гудящим басом сказал Гудилин, – горн будем класть восемь аршин в длину и в ширину четыре аршина.
– Десять длина надо и шесть – ширина, – на ломаном русском языке возразил высокий рыжий швед с трубочкой в зубах.
– Эх, хватил! – обиделся Гудилин. – Отродясь таких больших не строили! В твоей Чухляндии строили?
– В моя Швеция нет, а сдесь надо.
УЛАФ СТРЕНБЕРГ, АРТИЛЛЕРИСТ, УНТЕР-ОФИЦЕР ШВЕДСКОЙ КОРОЛЕВСКОЙ АРМИИ. ПОСЛЕ ПЛЕНА ОСТАЛСЯ НАВСЕГДА В РОССИИ. ПОТОМКИ: ВИКТОР УЛАФОВИЧ СТРЕНБЕРГ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ЗАВОДАМИ; ПРАВНУК ИВАН ИВАНОВИЧ СТРЕНБЕРГ, ГЕНЕРАЛ ОТ АРТИЛЛЕРИИ, ПОГИБ В
ПЕРВУЮ МИРОВУЮ ВОИНУ В ГАЛИЦИИ; ПРАПРАВНУК ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВИЧ СТРЕНБЕРГ, СОВЕТСКИЙ УЧЕНЫЙ В ОБЛАСТИ МЕТАЛЛОГЕНИИ.
– Видал, у него в Швеции нету, а здесь он хочет! – хлопнул себя по коленям Гудилин.
– Надо думат вперед. Сколько железа будет дафать завод сегодня, а сколько зафтра, – пыхтя трубкой, невозмутимо отвечал Стренберг. – Кажется, так учил император Петр?
Акинфий задумался.
– И что это за земля такая – Швеция, – задиристо бубнил Гудилин. – Все командовать норовят.
– Швеция – ошен хороший земля, – простодушно улыбнулся Стренберг.
– Вот и вали туда! Поди, соскучился по родине-то?
– Здесь мой родина, – качнул головой швед. – Россия…
– Фу ты, ну ты! А Швеция как же?
– И Швеция родина. У меня теперь два родина, я ошен богатый…
– У нашего Емели семь пятниц на неделе! – хмыкнул Гудилин.
Бородатые мастера слушали перепалку, улыбались.
– Стренберг дело говорит, – сказал Акинфий. – Затея сия вдвое дороже станет, зато опосля фабрику перестраивать не придется.
Сыну Прокопию окончательно надоели эти скучные разговоры, и он, поднявшись, направился к двери.
– Ты куды, Прокопий? – недовольно глянул на него Акинфий.
– В дорогу собраться, батюшка, – зевнул сын. – Завтрева в Питербурх выезжать спозаранку.
Акинфий помрачнел, отвернулся. Прокопий вышел.
– Не шибко сынок-то к нашему делу радеет, – сочувственно вздохнул мастер Гудилин.
Ранним осенним утром Акинфий и Евдокия провожали сына в Санкт-Петербург. Они стояли у кареты, запряженной четверкой сытых коней. Кучер уже восседал на козлах.
– Веди себя пристойно, – напутствовал Акинфий. – Без меры не бражничай, учись наукам прилежно… Ну, дай обниму тебя, – он прижал сына к груди, шепнул: – Вести об себе почаще присылай, а то мать шибко тоскует.
– Ладно… – нехотя обронил Прокопии и подошел к матери.
Дворовая челядь стояла поодаль, умилялась барскому прощанию. Приказчик Крот поигрывал нагайкой, улыбался чему-то.
Карета тронулась. Евдокия утирала слезы, махала вслед рукой. Акинфий стоял, невесело опустив голову.
Ночью он проснулся, будто от толчка. Осторожно встал с постели, начал торопливо одеваться, стараясь не шуметь. Евдокия не спала, следила за мужем из-под прикрытых век. Акинфий оглянулся на нее, вышел из спальни.
Во дворе он открыл конюшни, заседлал коня, вывел его, взобрался в седло…
…Марья вздрогнула, очнулась от сна, услышав негромкий стук в дверь. Поднялась, накинула платок на голые плечи, пошла открывать. Отодвинула щеколду и охнула, увидев в голубом проеме двери черную высокую фигуру. Шагнула, обняла сильно.
– Марьюшка… Кровинка моя! Казни меня, как хошь, не могу без тебя! Сердце разрывается, Марья! Один я! Оди-ин, как перст, и не к кому прислониться!
– Акинфушка… горе ты мое злосчастное…
…В глухой ночи дробно рассыпался перестук копыт. Акинфий сидел в седле, при-жимая к себе Марью. Кончился поселок, дорога запетляла по черному лесу. Марья обреченно закрыла глаза, вся отдаваясь внезапному порыву. Эх, будь что будет! Сверкнуло счастье на мгновение, а там – хоть тьма до смертного часа! И слабая улыбка осветила изможденное ее лицо.
Он привез ее в глухую сторожку, на руках внес внутрь, ногой распахнув дверь. Осторожно положил на расстеленные у печи ковры с подушками. Синяя ночь заглядывала в маленькие оконца. Акинфий зажег свечу, лампаду у иконы в красном углу.
– Я здесь иной раз отдыхаю, – улыбнулся Акинфий. – Как по тайге намотаюсь, приеду сюды и сплю без памяти.
– Нельзя нам тут быть… грех это, Акинфий, великий грех…
– Замолим! – вновь улыбнулся Акинфий, обнимая ее. – Сил моих нет, Марья! Каждую ночь снишься! Спать не могу, работать не могу! Все опостылело!
– То я виновата, Акинфушка, – утешала его Марья, – смутила тебя. Простн.
Акинфий не дал ей договорить, повалил навзничь, стал жадно, торопливо целовать лицо, шею, грудь…
Евдокия не спала. Лежала, стиснув зубы, и слезы медленно скатывались по щекам. Потом поднялась с постели, начала поспешно одеваться. Спустилась по широкой мраморной лестнице, вышла в вестибюль.
Акинфий ножом отрезал куски холодного жареного мяса, ел с жадностью. Марья, лежа на коврах, молча, с улыбкой наблюдала за ним. Трепетало маленькое пламя свечи, странная тень горбатилась на бревенчатой стене.
– Ехать пора, Акинфушка, – негромко сказала она. – Скоро светать начнет…
– Ехать? – вздрогнул Акинфий. – Да, да, сейчас… – Он отшвырнул нож и невидящими глазами уставился на пламя свечи. – А то давай вовсе уедем отсюда, Марья. Куда захотим! Хоть за границу! Все брошу, от всего отрекусь, вдвоем жить будем. Пропади оно все пропадом – заводы, железо, пушки с якорями! Мы любить друг друга будем, Марья!
– Нет, Акинфушка… – Марья грустно покачала головой. – Бог тебя пе для любви создал. Ты без свово дела в одночасье засохнешь.
Акинфий молчал угнетенно, пальцами тер, ощупывал золотого божка, добытого когда-то в пещере.
– Что ж нам делать с тобой, Марьюшка? Как быть дальше?
Она нежно ладонями огладила его лицо, глаза были полны печальной любви:
– Живи, покудова живется, Акинфушка… Господь надоумит…
Евдокия долго стучалась в дом к приказчику Кроту. Наконец он отворил дверь и ахнул:
– Хозяйка-а? Ужель стряслось чего?
Оттолкнув Крота, Евдокия вошла в дом, широко перекрестилась на образ и вдруг рухнула перед Кротом на колени, взвыла:
– Убей ее, Христом-богом тебя молю! Убей разлучницу окаянную! Всю мою жизнь она изломала, змея подколодная! Я тебе денег дам. Сколь захочешь! Сама рабой твоей буду до гроба, только убей ее!
Страшно было смотреть на обезумевшую женщину, полуодетую, с распущенными волосами. Она ударилась всем телом об пол, стала биться головой, вскрикивала исступленно:
– И его убей, мучителя проклятого! Изменщика подлого!
– А ну как услышит кто? Ить мне первому башки не сносить, – склонился над ней Крот.
– Никто не узнает! – Евдокия вскочила глянула на него дикими глазами. – С умом только надо к делу подступиться, а уж после озолочу тебя. Хозяином на Урале будешь! Заместо Акинфня! Я тебя научу, ты только с силами соберись!
Вечером на порубки, где работали углежоги, прискакал Крот со стражником Игнахой, молодым, откормленным малым. Крот нагайкой поманил к себе Платона:
– Собирай манатки и айда с нами!
– Куда? – удивился Платон.
– С энтого дня на руднике будешь, собирайся!
– А сын Никита?
– И Никиту с собой прихватывай. Заработок поболе будет.
– Никита-а! – сложив ладони у рта, закричал Платон.
От огромной, дымящейся углежогной кучи к ним бежал желтоволосый длинноногий парень.
Следующим вечером, темным и дождливым, Крот провожал стражника Игнаху. Тот уже сидел в седле, нахлобучив мохнатую шапку на брови, придерживая нетерпеливого копя.
– Прямиком в Санкт-Питербурх! В кабаки да трактиры не заглядывай, опосля набражничаешься. Письмо доставь во дворец, герцогу Бирону в собственные руки. Только ему и боле никому, слышь, Игнаха? Гляди, – ежели что не так, подыхать тебе в руднике в кандалах.
– Не пужай. Сделаю все, как надо.
– С богом тады! – Крот хлопнул ладонью по крупу коня и перекрестился, глядя вслед всаднику, растворявшемуся в мутном, слякотном тумане.
В горнице мастера Гудилина степенно пили чай. Фома Петрович Гудилин и швед Улаф Стренберг восседали друг против друга, с шумом тянули с блюдечек. Стренберг еще поспевал между глотками потягивать свою трубочку.
– У нас, между прочим, при царе Иване Грошом за такое вот баловство ноздри рвали и лбы клеймили, – поморщился Гудилин.
– Царь Петр тоже курил, – возразил Стренберг.
– Видала? – глянул на жену Гудилин. – Чуть что, сразу на Петра Лексеича кивает! Ладно, бог с тобой, дыми! Вон вареньица лучше голубичного спробуй.
– Ошен вкусно, – попробовав, улыбался Стренберг. – Карашо…
– В вашей паршивой Швеции небось такого не сдали.
– Швеция не есть паршивый, – нахмурился Стренберг. – Швеция есть самый прекрасный.
– Не слушай ты его, батюшка, – жена Гудилина, дородная, рыхлая женщина, поклонилась Стренбергу. – Он ить как репей ко всем цепляется. Ешь-пей на здоровье!
Кроме них, за столом еще были дочь Гудилина Глаша и сын Стренберга Иоганн. Сидели в напряженной неподвижности, стараясь не смотреть друг на друга.
– И какая такая нуждишка тебя в мой дом привела, Улафа Карлыч, даже интересно знать? – отмахнувшись от жены, спросил Гудилин.
– Ты сам ошен карашо знаешь, – улыбнулся Стренберг.
– Нет, не знаю.
– Я пришел просит рука тфой дочь Глаша за мой сын Иоганн.
– Что-о?! – Гудилин даже закашлялся. – Чтоб такую красавицу за твово Иогашку? Да ты никак белены объелся, Улафа Карлыч?
– Я не ел никакой белены, – нахмурился Стренберг.
– Чтоб мою Глашку, – Гудилин тыкал дочь в бок корявым пальцем, – чтоб вот эту вот Василису Прекрасную?!. Та-ак! Эт-то что ж получается? Сперва татары с турками нам кровь портили, а теперича вы принялись!
– Уймись ты, черт бешеный, – урезонивала Гудилина жена.
Стренберг поднялся с оскорбленным лицом. Трубка дергалась в зубах.
– Ты… ошен злой человек!
– Видали, я злой, а он доброта ангельская! Ты сперва железо плавить научись, а после сватайся!
– Мой железо всегда был лутше, чем тфой!
– Ах ты чухна белоглазая! – Гудилин оскорбился смертельно. – Да на моем железе сам Никита Демидов соболиное клеймо ставил! Я железо лил, когда ты ишшо сопли на кулак наматывал! Во-он из мово дома! Не то я тебе сей момент вторую Полтаву учиню!
Улаф Стренберг вышел из дома Гудилина с надменным видом, пыхтя трубкой.
Светлейший герцог Бирон был высок, румян, ладен. На бирюзовом кафтане с золотыми пуговицами алмазная орденская звезда. Герцог пил кофе, не забывал подливать из хрустального молочника в блюдечко рыжему пушистому коту в голубой шелковой попонке. Кот завтракал тут же, на герцогском рабочем столе.
– Какие деньги, генерал? – Герцог, вытягивал красные, чувственные губы трубочкой, дул на кофе. – Мы бедны, как церковные крысы.
– И все же, светлейший герцог, – почтительно, но настойчиво говорил Татищев, – нужно всемерно усилить казенные заводы. Ведь на казенные-то от Демидова не бегут, а с казенных – случается…
– Да, да, да… – огорченно покачал головой Бирон. – Побеги – это ужас. Но, скажу по секрету, генерал, – Бирон понизил голос до шепота, – в бегах чуть не три миллиона наших подданных. Оттого и денег нет. А тут еще этот Демидов смеет утаивать пошлину! – Бирон пристукнул ладонью по столу. – Ты, генерал, составь на мое имя бумагу: сколько у него заводов, сколько пошлина… Отметь особо, какой доход дают кабаки в его владениях…
– У него нет кабаков.
– Как это? – изумился Бирон.
Татищев пожал плечами.
– И в этом одно из немногих достоинств его нахожу.
– Да ты в своем уме, генерал! – Бирон резко поднялся. – Отсутствие кабаков есть великий ущерб казне ее величества!..
Распахнулась дверь, на пороге встал адъютант.
Бирон вопросительно посмотрел на него. Адъютант прошел к окну, приоткрыл шелковую штору – Бирон понял, подошел, глянул вниз – возле караульного солдата стоял стражник Игнаха.
Ночь они опять провели в таежной сторожке. Акинфий сидел на корточках перед печкой, задумчиво смотрел на разгулявшееся пламя, говорил:
– Беды наши, Марьюшка, в том, что никак не дают на Руси развернуться заводскому человеку. Помер царь Петр, так и пошло все обратно через пень колоду… Нонешняя-то государыня больше про балы да наряды думает. Немцев при дворе развелось, людишек каких-то воровских видимо-невидимо.
– А ты разве не воруешь? – просто спросила Марья.
– Для дела приходится, новые заводы ладить, рудники копать, уголь жечь – ох, сколь много денег надобно! – Акинфий подложил в печь полено, невесело усмехнулся: – Веришь ли, я третью часть прошлогоднего дохода на взятки да на подачки роздал.
– Не шибко обеднял, поди?
– Не об том речь, Марья, не об то-ом! – в голосе Акинфия зазвучала горькая досада. – Если б я только о наживе думал, я бы… Э-эх, да что там! И ты меня не понимаешь.
– Поди ко мне, – шепотом позвала Марья.
Акинфий подсел к нем. Они обнялись.
– Берег я тебя в Туле-то, – улыбнулся Акинфий, – не трогал… А ты вон угольщику какому-то досталась. Нешто справедливо?
– Да я не угольщику, – вздохнула Марья. – Меня беглые снасильничали, Акиша… Которые от тебя бежали.
Акинфий задохнулся.
– Вот так… Зло, Акинфушка, кругом зло от тебя исходит. Почему так, я и сама не знаю. – Она целовала его, гладила, ерошила волосы.
– Ах, Марья, Марья… – мотал головой Акинфий. – Бедная ты моя…
Гудело пламя в печи, синяя ночь заглядывала в маленькое оконце, время от времени подвывали волки.
И вновь в предрассветной мгле скакал через спящую слободу одинокий всадник с женщиной, сидящей перед ним и закутанной в покрывало. Остановил коня возле покосившейся хибары, осторожно опустил женщину на землю, нагнулся, поцеловал.
– С тобой побыл, будто живой воды испил, Марьюшка… – улыбнулся Акинфий, и глаза его молодо блестели.
Он пришпорил коня, поскакал.
Марья пошла к хибаре, и тут же из-за угла вынырнула черная фигура Крота, скользнула вдоль стены к двери. На пороге Крот обернулся, пошарил глазами по сторонам, перекрестился и пропал в доме.
Через мгновенье оттуда послышался шум, а потом истошный, предсмертный бабий крик. Еще через мгновенье в двери показался Крот с ножом в руке, затравленно оглянулся по сторонам – слобода спала, только дымил и смутно шумел вдалеке завод. Крот судорожно отшвырнул окровавленный нож и бросился к лошади, привязанной на задах к частоколу.
Ранним утром приказчик Лиходеев боязливо скребся в двери демидовской спальни:
– Хозяин… Акинфий Никитич… К вам гости пожаловали.
Евдокия уже не спала, с силой толкнула Акинфия локтем. Тои вскочил, очумело посмотрел вокруг:
– Чего еще? Поспать не дадут, ироды…
– По ночам спать надоть, – зло сверкнула глазами Евдокий.
– Кого там черти принесли? – вздохнул Акинфий.
– Князь Вяземский из Санкт-Питербурха. Гонец ишшо с вечера прискакал, – с мстительными нотками в голосе сообщила Евдокия.
Акинфия будто ветром с кровати сдуло. Он одевался, на ходу приказывая жене:
– Вели из кладовой соболей принести и горностаев. Сорок сороков! Бобровых шкурок тоже, украшений старинных с каменьями!
– Ты, Акинфушка, от своих ночных шатании совсем сдурел…
Акинфий глянул на жену, явственно прочитал в не глазах ненависть.
…В кабинете Акинфня уже дожидались гости: князь Вяземский, тучный, с добродушным, мясистым лицом, затянутый в золоченый мундир, с брильянтовыми орденами, и генерал Татищев, в черном сюртуке, в левой руке – черная треуголка. Князь грузно прохаживался по кабинету, разглядывал чертежи и карты, развешанные по степам, остановился перед коллекцией минералов в ящиках под стеклами.
– Специально сии минералы из Германии выписал, – пояснил Татищев. – Что говорить, заводчик хваткий, с талантом. Но самоуправствует сверх всякой меры.
– Поправим… – степенно произнес Вяземский.
– Возомнил себя чуть ли не царем на Урале.
– Укротим… – вновь важно и глубокомысленно обронил князь. – В бараний рог согнем!
А из подвалов тем временем прислуга торопливо выносила охапки шкурок – соболиных, горностаевых, бобровых. Принесли большой ларь с украшениями. Тут серебряные и золотые кольца и перстни, диадемы и аграфы, в оправах сверкали изумруды, жемчуг, топазы.
– Давай еще, – отрывисто приказывал Акинфий. – Не жалей князю, пущай на него разом столбняк нападет!
– Тут ведь ишшо беда какая, батюшка, – вздохнул Лиходеев. – Разбойничать в слободе стали. Энтой ночью ктой-то заводскую бабу зарезал. Прям в дому. Такое озорство зверское…
– Какую бабу? – похолодев, спросил Акинфий.
– Да Марьей звали…
Оттолкнув приказчика, Акннфин пулей вылетел во двор, кинулся к конюшне, вывел заседланного коня.
…Возле дома Марьи толпился народ. При появлении Акинфия разговоры и причитания разом смолкли.
Акинфий слетел с лошади, кинулся в дом, расталкивая людей.
Марья лежала на колченогом столе в гробу, и в руках, сложенных на груди, горела свечка. Несколько старушонок в черном стояли возле гроба, шепотом молились. Под образами возвышалась фигура священника и черной рясе, с красным, испитым лицом.








