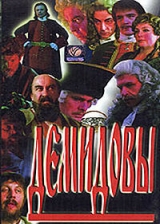
Текст книги "Демидовы"
Автор книги: Эдуард Володарский
Соавторы: Владимир Акимов
Жанры:
Киносценарии
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц)

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ АКИМОВ (родился в 1938 году) работал слесарем-сборщиком на заводе, художником-декоратором в съемочных киногруппах. В 1969 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. Дебютировал полнометражным фильмом по собственному сценарию «Нам некогда ждать», затем поставил короткометражный художественный фильм «Возвращение». По литературным сценариям В. Акимова сняты фильмы «Точка отсчета», «Прости-прощай» и «Дым отечества» (сценарий написан совместно с Э. Володарским).

ЭДУАРД ЯКОВЛЕВИЧ ВОЛОДАРСКИМ (родился в 1941 году) окончил сценарный факультет ВГИКа. Член Союза писателей СССР. По сценариям Володарского, написанным совместно с Н. Михалковым, поставлены фильмы «Риск», «Ненависть», «Свой среди чужих, чужой среди своих». Э. Володарский автор киносценариев «Дорога домой», «Убит при исполнении», «Белый взрыв», «И был вечер, и было утро», «Забудьте слово смерть». «Емельян Пугачев», «Люди в океане» (в соавторстве с П. Чухраем). Пьесы Э. Володарского «Долги наши», «Самая счастливая», «Уходя, оглянись», «Звезды для лейтенанта», Западня», «Сержант, мой выстрел первый» поставлены во многих театрах страны. За участие в создании фильма «Люди в океане» удостоен Золотой медали им А. Довженко
Фильм по литературному сценарию Эдуарда Володарского и Владимира Акимова «Демидовы» ставит на Свердловской киностудии режиссер Ярополк Лапшин.

РОЖДЕНИЕ
…Царь Петр мог ожидать от коварной судьбы любых ударов, но не такого жестокого.
Бледное солнце неслось в гари и дыму. Чмокали вдали пушки – будто рыбьи пузыри лопались. Всадники скакали густой нестройной толпой. Реяли цветные перья над остроконечными российскими шлемами, вились за спиной подбитые шелком плащи из драгоценных соболей. Ветер трепал, топорщил боярские шубы, накинутые поверх броневых юшманов, сносил в сторону густые бороды. Тяжелые комья летели из-под копыт. Лавина всадников катилась к воротам Нарвской крепости.
И вдруг в это византийское великолепие, в эту, казалось бы, непобедимую силу – маленький черный мячик. Закрутился, шипя, разорвался, и ударили во все стороны острозубые осколки. Отчаянное ржание раненых коней. Вопли людей, ругань…
В кругляш подзорной трубы было видно, как на нарвских стенах суетились шведские артиллеристы в синих мундирах с белыми отворотами.
Петр резко опустил трубу, в глаза ударило солнце. Он зажмурился, скрипнул зубами:
– А наши пушкари что молчат?
– До крепости не дострельнуть, мин херц, – виновато сказал Александр Ментиков. – Хрнновенькие пушчонки-то у нас. И порох дрянь.
Залп! Еще залп! Конница смешалась, стала заворачивать. Шведская артиллерия громила бегущих пуще прежнего. Едкий пороховой дым стелился над полем боя, заволакивая трупы солдат, искалеченные повозки, мечущихся лошадей без всадников.
19 НОЯБРЯ 1700 ГОДА ШВЕДСКАЯ АРМИЯ ПОД КОМАНДОВАНИЕМ ВОСЕМНАДЦАТИЛЕТНЕГО КОРОЛЯ КАРЛА РАЗБИЛА ВПЯТЕРО ПРЕВОСХОДИВШИЕ ЕЕ РУССКИЕ ВОЙСКА ДВОРЯНСКОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ПОТЕРЯЛО БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ВСАДНИКОВ. ВОСЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТЬ ГЕНЕРАЛОВ ВО ГЛАВЕ С ГЕРЦОГОМ ДЕ КРУИ СДАЛИСЬ В ПЛЕН. ВСЯ РУССКАЯ АРТИЛЛЕРИЯ ДОСТАЛАСЬ НЕПРИЯТЕЛЮ.
Плавильня была похожа на преисподнюю: низкие, сводчатые потолки, закопченный до черноты кирпич, в дыму блестящие от пота фигуры мастеров и подмастерьев в кожаных фартуках, волосы схвачены тонкими ремешками. В глубине этого ада шипели и охали мехи, звенел металл на наковальнях. Распоряжался здесь Никита Демидович Антуфьев, цыганистого вида мужик с чернющей бородой, высокий, плечистый. Его старший сын Акинфий стоял над мешками с рудной породой. Взял кусок, поколупал его ногтем, даже понюхал.
– Знатная рудица! – вынырнул рядом с ним долговязый Пантелей. – Цены энтой рудице нету, ей-бо! – Он оскалил в улыбке большущие и желтые, как у лошади, зубы. Армяк висел на нем, будто на пугале огородном.
…Подмастерье держал щипцами железную болванку, а Никита и Акинфий били по ней пудовыми молотами. Остывшая полоса гнулась так легко, что на лице Ни-киты Демидовича было выражение недоверия.
– Видал, а? Бархатное железо! – цокал языком рудознатец Пантелей. – Соболиное железо! К ручкам-то, к ручкам само ласкается!
– Нда-а, знатное железо… по всем статьям лучше нашего, – вздохнул Никита. – И много на Урале такого?
– Ой, много! – всплеснул руками Пантелей. – Цельные горы! Земли вольные, хучь захлебнись! Там и каменья-самоцветы, и должно беспременно быть злато с серебром. По указу царя Петра там завод заложен, на Нейве-реке… Вода рядом, руда рядом, лиственницы – во! В три обхвата!
– Завод, говоришь, уже есть… – Никита вздохнул.
– Да заводишко-то – тьфу! Из тамошнего воеводы какой хозяин. Винишше трескает, и никаких делов!
Никита Демидович крепко задумался.
Оружейники были собраны на Слободской площади славного града Тулы. В сторонке грудились бабы, ребятишки воробьями облепили деревья.
Возле походного царского возка конвой преображенцев, двое «птенцов Петровых» – Александр Меншиков и поручик де Геннин, из голландцев, артиллерист, рудных дел знаток. Да сам Петр.
Со страхом смотрели мастера на непонятного царя в обшарпанном, заляпанном грязью мундире, с пистолетом за поясом. Петр смотрел на туляков своими выпуклыми, с дичинкой, глазами.
Торговались битый час, а все без толку; Передние таили крикунов за широкими спинами.
– Цену давайте! – горланили из толпы. – Нынче все дорого, что железо, что медь! Хлебушка казенного продайте!
– Россия вам, мать вашу, бороды нечесанные, стало быть, по боку? – ярился Меншиков. – Было б в моем хлеву тепло да сытно, да?!
В сером небе вороны шарахались от Алексашкиного крика.
– Ты нас не страмоти! – Никита Демидов в запальчивости полез вперед. – Ишь какой… шест с бугра! За делом приехал, так дело и говори. Какая у казны за оружие последняя цена?
Лицо Петра исказилось гневом, он внезапно шагнул в сторону, вырвал у ближнего солдата фузею. Толпа в ужасе откачнулась, завизжали бабы. Акинфий с силой рванул отца назад, за спины.
– За каждую такую фузею… – Петр шел на толпу, ружье в его длиннющих руках будто уменьшилось вдвое, – платим мы иноземцам…
– Восемнадцать целковых штука! – докончил за него де Геннин.
– Ого! – весело удивились в толпе. – Подходяще! Мы согласны!
– Такой цена – грабеж! – выкрикнул де Геннин.
– Да и нет в казне таких денег… – устало проговорил Меншиков. – Какого пса мы б тут глотки драли… А оборонять Российскую землю от шведа надобно…
– Профукали, стал быть, денежки… – зашелестели по толпе воровские голоса. – Проплясали на машкерадах своих чертенячьих. А таперя: Расея да Расея…
От этих слов лицо Петра побагровело, на лбу впросинь набухли вены. Преображенцы хмуро переминались, готовые по первому знаку проучить смутьянов.
– Пожалуй, я возьмусь, государь… – шагнул вновь из толпы Никита.
– Шашнадцать целковых проси… – заволновались, зашептали в толпе. – Постой за всех, Никита.
– Цена твоя? – резко спросил Петр.
– Возьму я… – Никита еще подвинулся к царю. – По рублю и восемь гривен за фузею.
Вокруг охнули.
– А что ж не даром? – прищурился Петр.
– Как это – даром? – испугался Никита. – Я и так в накладе…
– Хорош… – Петр неопределенно хмыкнул, вынул из-за пояса пистолет. – Починить сможешь?
Никита повертел оружие в руках:
– Смогу, государь.
– Ты вглядись получше, дядя, – вмешался Меншиков. – Это ж великий мастер Кухенрейтер делал.
– Ну, так что ж, – пожал плечами Никита. – Кухенрейтер мастер славный, но и мы тоже… не пальцем деланы.
– А как я с хвастунами поступаю, слыхал? – грозно спросил Петр. – За фузеи, коли плевую цену берешь, небось, что просить хочешь? Проси!
– Заводишко на реке Нейве, что на Урал-горах, отдан мне, государь, в наем… – у Никиты, пока говорил, с лица потекло, как в парной.
– Звать как? – спросил Петр.
– Антуфьев Никита. Сын Демидов.
– Хорош. – Петр зло притопнул ботфортом. – Жаден ты, Демидов.
– И предерзок! – добавил Меншиков. – Казенный завод ему подавай! А фузеи пущай делает, а, мин херц?
– Фузеи делать! – приказал Петр. – Вскорости приеду, погляжу.
– Выходит, Никита, ты и есть этот… с бугра, – съязвил Меншиков и обидно засмеялся.
Никита горестно опустил голову. Сорвалось! И вдобавок в такую кабалу впрягся!
Солнце уже скатилось за дальний лес, но небо еще было ярко.
Акинфий подкараулил Марью, когда она шла через кладбище к дому. Прячась за большим, черным крестом, он смотрел, как Марья положила на могилку охапку полевых цветов, посидела у изголовья, потом пошла по тропинке, петляющей меж могил. Была она светлоглазая, тоненькая.
Акинфий, таясь за кустами, обогнал девушку, спрятался за толстой, старой березой и вдруг выскочил перед Марьей, раскинув руки, и загукал по-совиному. Девушка тихо ойкнула, отпрянула в сторону. Стремительно нагнулась, подхватила с тропки увесистый камень.
– Это я, Акинфий! – едва успев увернуться, крикнул он. – Прости ради Христа, Марья… Попужать хотел малость…
– Простила уже… – мягко улыбнулась она, усаживаясь на ствол ивы. – Что ж ты столько времени не приходил? Иль другая приглянулась?
– Отец, чтоб его! – поморщился Акинфий и сел рядом. – С утра до ночи царю фузеи делаем! – Он разжал кулаки и показал ей незаживающие раны на ладонях
– Богатыми хотите быть? – тихо улыбнулась Марья, беря его руку, и осторожно подула на ладонь.
– По рублю да восемь гривен за фузею. В пору по миру идти, какое уж тут богатство… А он прям как взбесился! Думаешь, легко молотом-то махать?
– Вижу, что нелегко, – Марья сорвала два листа подорожника. – Приложи-ка…
– Где Акинфий? – строго спросил Никита Демидов, входя в кузню.
– Отлучился, – перекрывая работный шум, откликнулся младший сын Григорий. – По какой-то надобности.
Отец принялся осматривать готовые фузеи, что шеренгой стояли вдоль стены. Каждую чуть не на зуб пробовал.
– Эт-то хто исделал? – уставился на одну.
– Я, батя… – робко ответил Григорий.
– Кто ж так делает! Это ж позорище… – Никита прищурился. – Брат брата, стало быть, выручает… Это по-божески… – И вдруг хрястнул фузею о наковальню с такой силой, что погнул ствол, в щепы разнес ложе.
– Ежели наша затея лопнет, – жарко зашептал он, вжавшись бородою в сыновье ухо, – мы с матерью по миру пойдем… А перед тем тебя с Акишкой запорю до смерти! – Резко отстранился от сына, громыхнул на всю кузню: – Царю делаем!
Для войска! Чтоб сие, как «Отче наш», помнили, рассукины дети!
Молоты в кузне заработали еще быстрее, из горна пыхнуло таким жаром, что у Никиты борода затрещала.
Луна мчалась сквозь тучи, а они все еще сидели, тесно прижавшись, и молчали…
– Отец меня все женить грозит… – охрипшим голосом вдруг сказал Акинфий.
– Так женись, – усмехнулась Марья. – За такого-то молодца любая пойдет. Вон Евдокия все глаза об тебя обломала.
– А-а… – Акинфий отмахнулся и быстро спросил: – А ты?
– Что – я?
– Ты-то… – он засмущался, – пошла б?
– И я… – Она пожала плечами.
– А ежели я не шучу?
– Так ведь это твой отец решать будем, – с тихой грустью сказала Марья. – Л я ему ни к чему, сирота худородная. Ему приданое богатое надобно.
Он притянул ее к себе, жадно обнял, поцеловал в губы. Она задрожала вся, вскочила и быстро пошла прочь.
– Сватов ожидай, Марья! – весело крикнул Акинфий. – Мое слово железное!
В доме Никиты Демидовича было чисто, опрятно. На столе щи с бараниной, огромный пирог, рыба, закуски-заедки.
Рядом с царем по одну сторону сидел Меншиков, а по другую рудознатец Пантелей, в чистой рубахе, умытый, причесанный. Никита достал из горки праздничные серебряные стакашки, а перед Петром поставил иной, черного металла.
– Это железо непростое, – степенно отвечал на удивленный взгляд царя Никита. – С Урал-гор по твоему указу к нам перевезено. И я его опробовал.
– Хитер хозяин-то наш, – Петр подмигнул Меншикову. – Чуешь, сколь крепко он линию свою гнет? А что, Алсксашка, может, и впрямь отдать завод тот Демидову?
Пущай радеет на пользу государства Российского.
– А деньги у него есть, мин херц? Чтоб дело начать.
– Нету, государь… – развел руками Никита. – Мне фузеи в такой убыток стали, что и подумать страшно.
– Так ведь и у меня денег нету, Демидыч, – вздохнул Петр. – А цену за фузеи ты сам назначил, никто тебя за язык не тянул.
Воцарилось молчание. Никита столбом стоял посреди горницы.
Петр сам стал разливать всем из баклаги водку. Никита подошел, взял чарку. Пальцы его дрожали, на скатерть капало.
– А за ружья спасибо, Демидыч. – Петр потянулся к Никите черной чаркой. – От всего сердца спасибо!
Занавеска дрогнула, и из-за нее появился Акинфий, державший обеими руками ларчик, обитый цветной жестью. На бордовом бархате лежал пистолет работы знаменитого Кухенрейтера. Сын осторожно передал ларчик отцу.
Петр нетерпеливо выхватил пистолет, осмотрел, пощелкал курком. Его кругловатая физиономия с тонкими усиками засияла от удовольствия. Прицелился в печку:
– Алексашка, ну-ка заряди!
– Царь-государь! – сказал вдруг Пантелей, безмятежно улыбаясь. – Пойди-ка ты лучше во двор. Там с пистолетом сподручнее…
…Со двора донесло раскатистый выстрел.
– Охо-хонюшки… – прохрипел Никита и поднял жалкие, как у побитого, глаза на Акинфия. – Цену-то, говорит, сам назначал… Да еще этот, – кивнул на Пантелея, – варнак сибирский, в соблазн ввел: Урал, Урал, железо знатное…
Грохнул второй выстрел.
– Прибить его, что ли, а, Акиша? – тоскливо продолжал Никита. – До смерти.
– Чего «прибить»? – Пантелей испуганно округлил глаза.
На дворе выстрелили в третий раз и скоро – в четвертый.
– Чего он палит-то так много? – неизвестно у кого спросил Никита. – Мажет, что ли?
– Нетто государи мажут? – укоризненно покачал головой Пантелеи. – У их, знаешь, какой глаз? Это когда оружье дрянь, тогда конечно.
– Нет, надо прибить. – Никита решительно встал, сжимая пудовые кулаки. – Держи его, Акиша, с него все началось…
Пантелей проворно скакнул к двери и чуть не столкнулся с Петром. Царь подбежал к помертвевшему Никите, рванул за плечи и… поцеловал:
– Бьет, как по заказу! Как же ты его починил, Демидыч? Ведь сам Кухенрейтер делал!
– То не я, государь… То мои старший, Акишка.
Акинфий несмело шагнул к царю, потупился. Царь протянул руку.
– Молодец, мастер! Молодец!
– Благодарствую, государь, – Акинфий поклонился степенно и к всеобщему изумлению достал из-за пазухи второй пистолет, точь-в-точь как первый, только курок у этого болтался бессильно.
Выпучив глаза, Петр рассматривал два совершенно одинаковых пистолета и ничего не понимал:
– К-как это?
– У Кухенрейтера-то боечек с пружиной так поломаны, – пояснил Акинфий, – что починить никакой возможности не было. Пришлось другой такой пистолетишко сделать.
Петр захохотал, облапил вконец смущенного Акинфия и трижды расцеловал.
…Потом все порядком захмелели. Никита принялся бренчать на балалайке, а Григорий с Пантелеем плясали посреди горницы, били каблуками в выскобленные доски, выкидывали коленца. Потом все хором запели про то, как девица в лесу грибы собирала и встречала удалого разбойника. Охальную ухарскую песню.
Никита исподволь наблюдал за царем, будто удобный момент выжидал. Наконец тихо прихлопнул ладонью струны, полез с лавки на пол, на колени. Петр, ласково глядя, подхватил его, поднял.
– А если я сыщу денег, государь? – совсем трезво спросил Никита, вновь усаживаясь на лавку.
– Где ж ты их сыщешь? – встрял по своему обыкновению Меншиков. – Они не грибы.
– Все исполню для тебя, Никита, – продолжая улыбаться, сказал Петр. – Только денег у меня нет…
– Акишка! Кланяйся государю! – приказал Никита.
Акинфий встал, непонимающе посмотрел на отца и низко склонился перед Петром.
– Помоги, государь Петр Алексеевич, – проникновенным голосом произнес Никита, – старшего моего женить. Невеста есть – купца Коробкова дочь, Евдокия.
Акинфий в миг распрямился, как лук, у которого тетива лопнула.
– Купец богатеющий, – не обращая на сына внимания, продолжал Никита. – Вся Тула у него в долгах, но тебе, государь, я чаю, не откажет!
Прощались они ранним утром. Прежде чем сесть в возок, Петр взглянул на стену сарая, на которой накануне намалевали известкой шведского льва, разинувшего пасть в свирепом рыке, – все пули вошли в самую середину пасти.
– Да-а… – Петр невесело усмехнулся. – В сражениях-то пока так не выходит, Никита. А потому по весне буду ждать от тебя с Урала добрые ружья и пушки.
– Батюшка! – Никита по-бабьи всплеснул руками. – Так выходит…
– Ты, Демидов, дурочку не ломай! – строго перебил его Петр. – Нешто я б в сваты пошел, ежели б не знал, куда ты приданое купеческое употребить собираешься?
– Виноват, государь! – Никита низко поклонился. – Благодарен тебе до гробовой доски.
– То-то! – Петр обнял Никиту и продолжал тихо, проникновенно: – Еще что сказать тебе хочу, Демидыч. О своей корысти меньше думай. Не жадничай. Об народе, об отечестве более думать надо. Ить я тебя государственным человеком делаю, Демидыч.
– Слышу, государь, – шепотом отозвался Никита.
– Ведь мало в ком опору найти могу, Демидыч… – в голосе царя зазвучала горькая тоска. – Вон у тебя сыновья какие – завидую. Есть кому доверить дело. Прошу тебя, Демидыч, не забудь слова мои. Работных людей не забижай. И будет тебе не от меня, от всего отечества благодарность. На все времена. Чуешь?
– Чую, государь…
Потом возок тронулся – взвизгнули колесные оси, застучали по прихваченной заморозком земле копыта лошадей. Отряд конных преображенцев окружил возок.
Никита долго махал шапкой, и в глазах у него стояли слезы…
Вновь звенели молоты о наковальни.
– Это что, батя, – орал Акинфий, перекрывая грохот кузни, – меня, ровно бычка на веревочке, не спросясь, волокут? У меня тоже сердце есть! Живое!
– Не желаешь?
– Не желаю!
– Запомни, Акишка, – отец опустил кувалду, – в жизни надо делать не как сердце велит, а как башке надобно! Ежли хозяином хочешь быть, а не подпевалой!
Акинфий долго молчал, потом ответил упрямо:
– Нет, батя! Я хочу жить, как сердце велит.
– Поживешь – увидим…
Свадьба гремела на всю слободу. Ломился дом от гостей. Пили, ели в три горла, орали песни, дрались.
– Сразу, как отгуляем, на Урал Акинфий двинет, – наклонясь через стол к купцу Коробкову, – кричал Никита, – за дело приниматься!
– Бог помочь. – гудел купец. – Ох, и пройдоха ты, Никита Демидыч! Ежели б не царь, Петр Лексеич, шиш бы ты дочку заполучил.
Евдокия же, прижавшись щекой к плечу Акинфия, радостно шептала:
– Детишек очень хочу, Акишенька. Мальчика и девочку.
Акинфий с трудом отстранил ее от себя, пробормотал, пряча глаза:
– Духота, не могу. Щас я, по надобности. Щас я…
Евдокия встревоженно смотрела ему вслед.
– Марья… Марьюшка, прости. Люблю я тебя, Марья, Христос видит, соврать не даст.
– Пошто жизнь такая горькая? Чем я перед господом провинилась?
– Деньги, Марьюшка… Купец отцу большое приданое дал. Будь они прокляты, эти деньги!
Мигающий огонек лампадки. Над ним не лик – лишь глаза сквозь тьму.
– Акинфушка, оставь меня… Грех это. У тебя теперь венчаная жена есть. Меня пожалей, Акинфушка…
– Ох, Марья, Марья, до смерти не искупить мне греха этого. Батя на Урал посылает. Свидимся ли нет, кто ведает?
– Пошто ты меня мучаешь, Акинфушка? Ведь грех… Нельзя… Милый ты мой…
– Марьюшка, милая, давай крестиками поменяемся. Чтоб я про тебя, а ты про меня крепче помнили. Я об тебе молиться буду…
Медленно наступал рассвет.
…Акинфий вернулся домой, шатаясь, будто пьяный. Отец затащил его в тесную, темную каморку под лестницей и с маху ударил свинцовым кулаком в скулу:
– Это ж твоя свадьба! Ты христианин али басурманин турецкий? Невеста на себя чуть руки не наложила!..
– Это твоя свадьба, – криво усмехнулся Акинфий, поднимаясь. Потолок был низкий, и он не мог выпрямиться. – Это ты меня на Уральском заводе обженил…
– Ах, ты-и! – Никита сорвал с гвоздя плеть и принялся хлестать сына. Акинфий не закрывался, лица не прятал.
Ох, Урал, Урал, седая песня России! Распространялась Русская земля на север и на запад, но более на восток, «встречь солнцу», будто дерево росло, наливалось силой, гнало свежие побеги.
На древнем Урале искали люди спасения и свободы. Бежали от притеснения бояр, искали земли обетованной. Стыли в пурге, в жаре изнемогали, но все равно шли и шли. Восток манил, Восток звал, Восток был путеводной звездой надежды. Перемахнули матушку-Волгу и дальше… Еще дальше. Нет дороге конца, нет края у земли…
Переваливался на ухабах длинный обоз. Изнуренные лошади едва тащились. Акинфий и Пантелей поскакали вперед. Дорога вывела их к Каме. Сильный ветер дул по реке, гнал крутые черные волны.
– Во-он, видишь, – Пантелей нагайкой указал на горизонт, – это и есть Урал. Считай, прибыли!
Акинфий придержал коня, зачарованно смотрел на гряду темно-синих гор со снежными подтеками. Глухая тайга колыхалась вокруг.
– Силища… – покачал головой Акинфий. – Ах страх берет…
– Еще какая силища! – обрадованно согласился Пантелей. – Эдакой силищи на Руси и не видывали!
– Мать моя Россия… – пробормотал Акинфий, – без конца ты и краю.
Невьянская слобода – груда рубленых домишек, слюдяные оконца, переулочки узкие, заборы ветхие. И все это жалось к заводу, как цыплята жмутся к наседке. А вокруг танга. Черный лес.
Приехавшие с демидовским обозом туляки-мастеровые знакомились с местными жителями. Плелись осторожные разговоры.
– Как туты живешь-то?
– Живем…
– Хлеб жуем?
– Хлеба-то, почитай, нету. Но квасом запиваем…
– Как так? Сказывали, край у вас богатейший.
– Х-ах! Кому богачество, а кому босачество… Ну, а новый-то хозяин?
– Душа человек! – убежденно отвечал Пантелей. – Не сумлевайтссь, православные, у него дело пойдет. И хлеба, да и мя сушка, вам вдоволь будет!
– Твои слова да в уши господу…
…Акинфий тем временем осматривал с
воеводой Степаном Кузовлевым завод. Чуть позади шагал Крот, правая рука воеводы, стражник и кат.
А завод представлял зрелище жалкое: в пруду воды почти нет, одна зеленая тина, плотина разрушена паводком.
– Пошто воды в прудах нету? – строго спросил Акинфий.
– Так уходит, пес ее задери, – сипел рыхлый, одышливый воевода. – Бьемся, мучимся, а она уходит.
– Как завороженная, ей-бо, – подал голос Крот.
Акинфий даже не посмотрел на него. Шел по останкам плотины, хмурился, покусывал губу, пальцы сами сжимались в кулак. Не выдержал:
– Я за такую работу шкуру б сдирал!
– Ты не шибко тут, не шибко, Акинфий Никитов! – Воевода часто взахлеб задышал. – Государев указ указом, а ты… Не шибко, говорю! Я – воевода здешних мест!
– Разоритель ты здешний. Хуже Карлы шведского.
– Ты меня страмотить не смеешь! – Воевода угрожающе надвинулся на Акинфия. – Я – боярин! А ты… ты смерд смердящий! Я велю… Крот! Плетьми его! – Он схватил Крота за правую руку с нагайкой, толкнул к Акинфию. – Бей! Мой ответ!
Акинфий вцепился взглядом в глаза Крота. Тот, насупясь, шагнул, запнулся, перебросил плеть в руке поудобнее, сделал два решительных шага и… стал подле Акинфия, но чуть сзади.
– А ведь ты дурак, боярин, – одним ртом зло улыбнулся Акинфий. – Даже пес твой покинул тебя…
…Навстречу Акинфию валила большая толпа работных люден. Завидев его, сходу остановились, торопливо снимая шапки:
– Господь тебя спаси, хозяин! Тебя и твою жену, и детишек.
– До жены с детишками ишшо дожить надобно, – мрачно отозвался Акинфий.
– А у нас имеются! – со злым весельем выкрикнули из толпы. – Мал мала меньше, да есть хотят часто!
– Хлеба давай, хозяин! Воевода хлеба давно не давал.
– И жалованья, почитай, цельный год не платит.
Акинфий опустил голову, долго молчал. Пантелей, пришедший с невьянским людом, выбрался вперед и с надеждой смотрел на Акинфня.
– Кто плотину ладил, а? – наконец поднял голову Акинфий.
Десятка полтора мужиков полезли из толпы, потянули шапки с лохматых голов.
– Вам за такую работу не только хлеба… Вам колодки надобно набить!
Мужики сопели, скребли и затылках.
– Все заново будем! – крикнул Акинфий. – Плотину рубить!.. Домну новую… А хлеба у меня нету, не заработали!
Толпа охнула и вновь затихла.
– Пушки отольем, государю продадим, будет и иа хлеб. А покудова терпеть придется. И я с вами потерплю.
– А говорил, душа-человек… – со всех сторон хмуро укоряли Пантелея.
И началась работа. День и ночь. Копали при свете смоляных факелов, вбивали сван из лиственницы, на носилках подтаскивали обожженный кирпич к домне. Перестукивались топоры, протяжно кричали приказчики. Больше всех старался Крот.
– Шевелитесь, ведьмячьи морды! – Его плеть не отдыхала.
Акинфий поспевал всюду. Он почернел и высох, глубоко запавшие глаза светились тихой яростью. Он мотался от завода к плотине, оттуда – на карьер, потом на рудник, по дороге заглядывая к углежогам.
…Карьер, где рыли руду, кишмя кишел людьми. Словно муравьи сладкую корку, облепили они склоны. Долбили руду кайлами, насылали в корзины и тачки, тащили по петляющей серпантином дороге вверх, к подводам.
По ночам он не спал. Ворочался в постели, мял кулаком горячую подушку, глазел в синее оконце.
– Не спится, Акиша? – с сочувствием спрашивал Пантелей.
– Да вот думаю, Пантелей, почему так? Большое дело добром не сладишь, только – жестокостью. Почему?
– А не хочет народ работать, – просто ответил Пантелей. – Кому ж охота задарма горбатиться, посуди сам.
– Почему задарма? Я ж заплачу исправно.
– Грозилась синица море зажечь. Ты сперва заплати, а потом требуй.
– Да где я сейчас возьму?! – в бессильной тоске выкрикнул Акинфий, рванул рубаху на груди. – Себя, что ль, им скормлю!
Пантелей шел по прогалине, окруженной лесом. В руках трепетали, подрагивая, чуть заметно клонились то в одну, то в другую сторону тонкие ивовые прутья. Акинфий стоял поодаль, держал под уздцы двух лошадей.
– Здесь где-то… – бормотал Пантелеи. – Откройся, клад захороненный! Откройся человеку – самому главному зверю на земле божеской… для счастья, для тепла, для добра.
Он остановился, долго стоял неподвижно.
– Здесь большая руда должна быть.
– Погодь, засеку сделаем.
Акинфий принялся рубить кедровые сучья, втыкал их, куда указывал Пантелей. Делал заметки топором на деревьях.
– Молодец, Пантелеи! – улыбался Акинфий. – За неделю третью кладовую находишь. И впрямь, тебе цены нету.
Пантелей молча улыбался, рукавом отирал потное лицо.
Акинфий развернул большой чертеж-карту, обломком угля сделал пометку.
Здесь славный рудник начнем. Лесу прорва, река рядом. И завод заложить… Во-он там плотину ладить можно.
Пантелей отдыхал, привалившись к дереву.
– Вставай, пора! – Акинфий первым взобрался в седло.
Они подъехали к склону горы, и Акинфий первым заметил пещеру. У входа стояли два каменных идола, словно охраняли.
Акинфий слез с лошади, привязал повод к кусту, полез вверх. Пантелей последовал за ним.
Вскоре Акинфий выскочил из пещеры, сбежал вниз, достал из притороченной к седлу сумки просмоленный факел, запалил его и кинулся обратно.
Тесный проход упирался в высокие деревянные двери. В свете факела заметались летучие мыши.
Акинфий толкнул двери, показалась большая ниша-комната. От дуновения воздуха деревянные, выкрашенные разноцветьем идолы разом поднялись, будто собирались защищаться от непрошенных гостей. Пещера наполнилась протяжным скрипом и треском. Но едва двери закрылись, идолы снова уселись вокруг большой гробницы.
Акинфий и Пантелей с трудом подавили страх. Шипел и брызгал смоляной факел, горбатились на каменных сводах уродливые тени.
Акинфий шагнул ближе, пригляделся. На идолах висело множество желтых металлических украшений, колец, ожерелий.
– Золото… Сколько золотища, Пантелей!
В гробнице лежал деревянный божок, усыпанный множеством золотых браслетов, колец, ожерелий, фигурок лошадей, быков, птиц.
– Мать честная, Пантелей! – И Акинфий, дико улыбаясь, принялся набивать золотыми вещами карманы.
– Не надо, – Пантелей тронул его за плечо. – Чужое это, грех… Слышь, что говорю? Беда будет, Акинфий…
А тот, задыхаясь, стаскивал с идолов браслеты и ожерелья. Лицо его покрылось потом, пламя факела дрожало на лбу, щеках, отражалось в расширенных от алчности глазах.
Пантелей схватил его за грудки.
– Ты что, сдурел? Беда будет! Чужое… Акинфий!
– Уйди, морда! – Акинфий двинул Пантелея кулаком в лицо. Гот отлетел в сторону. – Мне хлеб покупать ис на что… Струги не на что строить! А оно валяется тут без пользы!
– Грех это, Акинфий, – медленно поднялся Пантелей. – Чужое это!
По безлюдному болотистому острову гулял, свистел, как разбойник, ледяной ветер. Раздувал плащи у солдат, стоявших на часах возле царской палатки, трепал знамена, завывал.
– Господи-и, что ж это за край такой, что даже ночи в см нету, – переминаясь и загораживаясь от ветра воротником плаща, бормотал часовой, глядя в блеклое серое небо.
Рядом река гнала сильные волны, била в берег, где гнулся под ветром нищий ольховник.
…Петр спал беспокойно. Ворочался, что-то бессвязно бормотал, подтягивал к жи-воту колени, чтобы согреться. Вязаные теплые носки на пятках были продраны. На полу в беспорядке чертежи, планы мировых столиц, выстроенных близ морей, – Лондона, Амстердама, Венеции.
– Государь! – В палатку сунулся Меншиков. Петр, не просыпаясь, потянул из-под подушки тяжелый пистолет, сработанный Акинфием Демидовым. – Проснись, государь, беда!
Петр сел и, не выпуская пистолета, стал протирать глаза. А Меншиков, дыша, как загнанная лошадь, продолжал:
– Шведские фрегаты в устье зашли! – Меншиков заметался по палатке, собирая с пола нехитрые царские пожитки, чертежи, карты. – Ретироваться надо! Ну его к ляду, этот Васильевский остров? Гнилое место!.. Комарье одно…
Петр, накинув поверх мундира латаный шерстяной плащ, выбрался наружу. Полуодетые солдаты бежали по заболоченному лугу к туманной Неве. Четверо волокли небольшую пушку. Чавкала под ногами болотная жижа.
Длинноногий Петр скоро обогнал толпу солдат и первым оказался на берегу, заросшем осокой и чахлым кустарником.
– Во-о-он, шведские фрегаты! – показывал подбежавший Меншиков.
Примерно в полуверсте от берега в тумане маячили темные силуэты кораблей.
– Слава богу, что туман, – утирая мокрые усы, проговорил остановившийся рядом унтер-офицер преображенец, – а то бы он вдарил. Ить двадцать пушек на каждом…
Петр, стиснув зубы, вглядывался в шведские фрегаты.
– Без свово флоту со шведом на морс тягаться – пустое дело, – услышал Петр голос другого солдата.
– Я шпагу в палатке оставил, – тихо пробормотал Петр и медленно пошел от берега обратно, к палатке. Несколько преображенцев. переглянувшись, потянулись за ним.
– А ну, как на лодках подкрасться. Небось, спят шведы-то, – послышался еще один голос. – Да на абордаж их, сучьих детей.
– Окстись, что мелешь-то? – оборвали его.
– А что? Запорожские казаки эдак с турками сколько разов управлялись.
Петр резко обернулся, ухватил солдата за плечо:
– Как звать?
– Минаев, ваше величество. Преображенского полка! – гаркнул тот.








