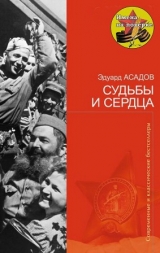
Текст книги "Судьбы и сердца "
Автор книги: Эдуард Асадов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 20 страниц)
И, довольный, крякнул: – Уцелел!
Повезло, брат, лучше и не надо!
Подал флягу. – На-ка, укрепись.
Все равно паружу не соваться.
Вон как начал минами плеваться.
Ничего. Потом не прогневись!
Взрывы, гарь… И вдруг песок на шею,
Сумка вниз из дымной темноты,
Кто-то следом прыгает в траншею.
– Покажите, что с ним?!
– Шура, ты?
– Жив! А я… А мне-то показалось…
Вижу вдруг – разрыв, и ты пропал…
Господи, ну как же напугал! —
И к плечу беспомощно прижалась.
Турченко ей сунул было флягу.
Отстранила: – Не люблю. Учти. —
А сама как белая бумага,
Как металл медали «За отвагу»,
Что сияла на ее груди.
Закурила, шапку подняла.
– Ну, пойду я… Хватит прохлаждаться! —
Улыбнулась: – У меня дела.
Ну а вам счастливо оставаться.
Ладно, знаю: смелые солдаты.
Кстати, и стрельбы почти уж нет.
Помогите выбраться, ребята! —
И за нами зашагала вслед.
Ласково похлопав по спине,
Турченко шепнул мне, улыбаясь!
– Если я хоть в чем-то разбираюсь,
Ты везуч, по-моему, вдвойне!
3
Ax, как нас встречали, как встречали
Горем опаленные сердца!
Женщины навстречу выбегали,
Плакали, смеялись, обнимали
И кричали что-то без конца.
Руки загорелые раскинув,
Встав толпою посреди пути,
Так, что ни проехать, ни пройти,
Окружали каждую машину.
Возле хаток расстилали скатерти
С молоком и горками еды
Русские, украинские матери,
Всем нам, всем нам дорогие матери,
Вдовы и столетние деды.
И, в толпе разноголосой стоя,
Хлопцы, улыбаясь широко,
Часто не остывшие от боя,
С уваженьем пили молоко.
С уваженьем? Нет, с благоговеньем!
Ибо каждый точно понимал
Все их муки, беды, униженья,
И ржаное, темное печенье
Было повесомей, чем металл.
И везде о самых долгожданных
Вопрошали мать или сестра:
– Вы не знали Мухина Ивана?
Или, может, бачили случайно
Пехотинца Марченко Петра?
Только где он, Мухин этот самый,
Как его отыщешь на войне?
Может, бьется за рекою Ламой,
Может, сгинул в Западной Двине?
Тот, кто любит, неотступно ждет.
У любви терпение найдется.
– Не волнуйтесь, мама, он вернется,
Вот побьет фашистов и придет!
Если ж не пришел, простите, милые,
Светлые пророчества бойцов,
Что дрались с любой бедой постылою,
С черной злобой пулеметнорылою,
Только вот не обладали силою
Воскрешать ни братьев, ни отцов.
Да и нас отнюдь не воскрешали.
Скажем без бодряческих речей,
Что не все мы снова увидали
Те края, где верно ожидали
Нас глаза сестер и матерей.
Глава V
В СОВХОЗЕ
Фронтовая крымская весна,
Гарью припорошенные розы
(Хоть не время, все-таки война)
Пряно пахнут в садиках совхоза.
О, как дорог незнакомый дом,
Где ты мог с удобствами побриться,
Не спеша до пояса умыться
И поесть ватрушек с творогом,
Где хозяек щедрые сердца
Так приветить воина стараются,
Что тот дом и люди вспоминаются
Иногда до самого конца!
Над совхозом полная луна,
Как медаль на гимнастерке неба.
Пахнет свежевыпеченным хлебом,
И плывет в проулки тишина…
И в дому, и на крылечке хаты,
Ощутив тот истинный уют,
Разомлев, усталые солдаты
Пишут письма, чистят автоматы
И порой вполголоса поют.
Постучалась, отворила дверь
И сказала строго и печально:
– Я не лгу ведь никогда, поверь,
Не скажу лукаво и теперь,
Что зашла как будто бы случайно.
Ничего, не думай, не стряслось.
Просто я сегодня размышляю
И хочу задать тебе вопрос,
Только дай сперва мне чашку чаю.
– Но ведь ваш дивизион сейчас
У высот, отнюдь не замолчавших!
Три версты, не больше. И как раз
Ты могла нарваться в этот час
На любых: на наших и не наших!
– Опоздал, брат. Наша высота.
Впрочем, и не в этом даже дело.
Враг не тот, да и война не та.
Он ночами не такой уж смелый.
А пугаться при ночной поре —
Это новобранцу только можно.
Да и спутник у меня надежный. —
И – рукой себя по кобуре.
Люди мирных и далеких лет,
Вам, наверно, даже непонятно,
Как же это дьявольски приятно —
Сесть под лампу с парою газег!
И какое светлое открытие —
Вдруг изведать досыта и всласть
Радости простого чаепития,
На скрипучем стуле развалясь!
Не в траншее на хвосте у гибели,
Не в пути под снегом и дождем,
Не согнувшись где-то в три погибели,
А под крышей, в доме за столом!
Ставнями закрытое окошко,
Самовар, ватрушки, тишина…
А за дверью, крадучись как кошка,
Ходит прокопченная в бомбежках,
Злобою набитая война.
– Может, глупо душу открывать,
Только вот я не могу иначе,
Нет, ты должен правильно понять,
Я пришла… Мне хочется узнать,
Что такое для тебя я значу?
Не сочти горячность неуместною,
Если глупо, так и говори.
Дай мне руку честную-пречестную
И в глаза мне прямо посмотри!
Взгляды, встретясь, вдруг заулыбались,
И не помню, как произошло,
Только мы с тобой поцеловались.
Да, впервые вдруг поцеловались
Бурно и доверчиво-светло!
И война, что разъяренно билась
В грохоте, походах и дымах,
Вдруг на миг как будто растворилась
В серых запрокинутых морях!
Крымская военная весна.
Свет дробит колодезную воду.
И большая белая луна
Медленно плывет по небосводу.
Да, не тот, как говорится, враг.
Где былая точность канонады?
Шелестят над крышами снаряды
И все время бухают в овраг.
– Вот ты ценишь твердые сердца.
Ну так помни: войны ли, не войны —
За меня ты можешь быть спокойным,
Я честна во всем и до конца.
Может статься, цельная натура.
Только, знаешь, без высоких слов,
Вот сейчас с тобой я просто Шура,
Тихая, счастливая, как дура,
В мире повстречавшая любовь.
Пусть я буду твердой, хоть стальною,
Но теперь мне хочется с тобой,
Только ты не смейся надо мною,
Стать на миг какою-то иною,
Беззащитной, ласково-простой,
Мягкою, до глупости застенчивой,
Может быть, капризной, наконец,
Девочкою, девушкою, женщиной,
Ведь не век оружием увешанной
Мне шагать, как парень и боец!
Я к тебе ну словно бы припаяна.
Знаю твердо, без красивых фраз,
Что люблю без памяти, отчаянно,
Может, в первый и в последний раз!
Распахнула ставни, постояла
Перед шумом веток на ветру.
– Я тебе не все еще сказала,
Погоди, вот мысли соберу…
Нет, не надо, посиди спокойно.
Ах, как все красиво под луной!
Ничего не списывают войны,
Но вот счет здесь времени иной.
И людей быстрее постигаешь.
Ведь, когда б нас буря не рвала,
Я б с тобою встретясь, понимаешь,
Может быть, молчала и ждала…
Но скажи: ты веруешь в предчувствие?
У меня вот, знаешь, день за днем,
Ну, почти реальное присутствие
Словно бы несчастья за плечом.
Не подумай, что накличу беды,
Но боюсь, и ты меня прости,
Что вдвоем нам вместе до победы
Не дано, наверное, дойти…
Ты не первый день со мной общаешься.
Не за шкуру бренную трясусь!
Страшно, что до счастья не дотянешься:
Либо ты под взрывом где-то свалишься,
Либо я из боя не вернусь…
Знаю, скажешь, мнительная дура. —
Быстро прядь отбросила с лица.
– Ну к чему такие мысли, Шура!
– Нет, постой. Дослушай до конца!
Я хочу, чтоб ведал ты заране,
Как я этой встречей дорожу,
Почему пришла без колебаний
И зачем назад не ухожу.
Знаешь сам, что никакой войной
Никогда не оправдаю связи,
И сейчас, не ведавшая грязи,
Я как снег чиста перед тобой!
Повторяю без красивых фраз,
Что душой навек с тобою спаяна
И люблю без памяти, отчаянно,
Может, в первый и в последний раз!
Бросила на скатерть портупею,
Обернулась вспыхнувшим лицом!
– Да, люблю. И вправе быть твоею.
Ни о чем потом не пожалею!
Ни о чем, ты слышишь! Ни о чем!
Ночь клубилась черно-золотая.
Бился ветер в шорохе ветвей,
И кружились звезды, осыпая
Крышу хаты брызгами лучей.
Сухарям же с душами пустыми
Я б сказал из той далекой тьмы:
Дай вам бог быть нежными такими
И такими честными, как мы!
Глава VI
СЕВАСТОПОЛЬ
Может, помоложе, чем Акрополь,
Но стройней и тверже во сто крат
Ты звенишь, как песня, Севастополь, —
Ленинграда черноморский брат.
В День Победы, на исходе дня,
Вижу я, как по твоим ступеням
Тихо всходят три знакомых тени
Постоять у Вечного огня.
И, глазами корабли окинув,
Застывают, золотом горя,
Три героя, три богатыря —
Ушаков, Корнилов и Нахимов.
Севастополь – синяя волна!
Сколько раз, шипя девятым валом,
На тебя со злобой налетала
Под любыми стягами война?!
И всегда, хоть любо, хоть не любо,
Та война, не ведая побед,
О тебя обламывала зубы
И катилась к черту на обед!
Потому что, позабыв о ранах,
Шли в огонь, не ведая преград,
Тысячи героев безымянных —
Стриженых «братишек» и солдат.
И горжусь я больше, чем наградой,
Тем, что в страдной, боевой судьбе,
Сняв с друзьями черную блокаду,
Словно петлю, с шеи Ленинграда,
Мы пришли на выручку к тебе!
И, прижав нас радостно к груди,
Ты кулак с усилием расправил
И врага по челюсти ударил,
Так что и следов-то не найти!
Мчится время, на чехлы орудий
Падает цветочная пыльца…
Только разве позабудут люди
Подвиги матроса и бойца?!
И над чашей негасимый пламень
Потому все жарче и красней,
Что любой твой холмик или камень
Тепл от крови павших сыновей!
Шелестит над обелиском тополь,
Алый флаг пылает над волной,
Севастополь, гордый Севастополь —
Город нашей славы боевой!
И недаром в звании героя
Ты стоишь, как воин, впереди
Часовым над кромкою прибоя
С Золотой Звездою на груди!
ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ
1
Сколько верст проехали, протопали
По воронкам выжженной земли,
И сегодня наконец дошли
До морского сердца – Севастополя.
Наша радость – для фашиста горе.
Как в падучей бесновался враг.
Но, не в силах вырваться никак,
Вновь сползал и окунался в море.
Превосходный оборот событий:
Никакого выхода нигде!
Получалось так, что, извините,
Нос сухой, а задница в воде.
Под Бельбеком жарко и бессонно.
Севастополь – вот он, посмотри!
Снова резкий зуммер телефона.
Генерал Стрельбицкий возбужденно:
– Поднажмите, шут вас подери!
Дать, братва, гвардейскую работу!
Приготовьтесь к новому огню!
Жмите, шпарьте до седьмого пота!
Если ночью не пройдет пехота,
Залп с рассветом. Я вам позвоню.
Вот он, наш «артиллерийский бог»! —
В генеральских полевых погонах
И, хоть был он и суров и строг,
Все-таки в лихих дивизионах.
В пересвисте пуль на огневой.
В громе залпов на переднем крае,
Всюду по-суворовски простой,
С честною и храброю душой,
Был он и любим и почитаем.
Враг плевался тоннами тротила,
Только врешь, не выдержишь, отдашь!
Три-четыре дня еще от силы
И – конец! И Севастополь наш!
Три-четыре… Ну совсем немного…
Да была загвоздочка одна
В том, что многотрудная дорога
Под конец особенно трудна.
Ведь тому, кто вышел из огня
Сотен битв, где и конца не видно..
Как-то до нелепого обидно
Пасть вот в эти три-четыре дня.
Впрочем, что с судьбою препираться?!
Фронтовик бессменно на посту.
Здесь война. И надобно сражаться
И кому-то солнцу улыбаться,
А кому-то падать в темноту…
2
Ax, как буйно яблони цвели
Той военной, майскою весною,
Будто вновь рванулись от земли
Парашюты в небо голубое!
Или будто, забывая страх,
В трех шагах от грохота и горя
Сотни чаек, прямо из-за моря
Прилетев, расселись на ветвях.
Словно снегом ветви осыпали
Все вокруг на целую версту.
Только хлопцы вряд ли замечали
Неземную эту красоту.
Мать-земля, не сетуй на ребят,
Ибо сад в жестокой обстановке
Мог ли быть хоть чем-то для солдат,
Кроме белопенной маскировки?!
Будет время, и настанет час,
И ребята где-нибудь у дома
Белым жаром яблонь и черемух
Встретят свет привороженных глаз.
Ну а тех, кто не придет домой,
Ты, как мать, и примешь и укроешь,
Соловьиной песней успокоишь
И осыплешь белою пургой…
Память, память. Нелегко, не скрою,
Возвращать исчезнувшую тень.
Что ж, давай же вспомним этот день
Перед тем, перед последним боем…
Быстро цифры множа в голове
И значки условные рисуя,
Я сижу под яблоней, в траве,
Нанося на карту огневую.
Муравей по карте пробежал,
Сел и пузо лапками погладил.
Ну ни дать ни взять солидный дядя.
Что там дядя – целый генерал!
Обошел сердито огневую,
Ус потрогал: дескать, молодец!
А потом, отчаянно рискуя,
Дунул прямо на «передовую»,
Наплевав на вражеский свинец.
Не спеша у немцев покрутился.
Вдруг насторожился и затих,
И затем обратно припустился…
То-то, брат, не бегай от своих}
Вот и нам бы действовать так юрко!
Кто-то веткой хрустнул за спиной,
Почему-то сразу, всей душой,
И не обернувшись понял: Шурка!
Села, быстро за руку взяла.
– Извини… Не помешаю? Можно?
До чего же рада, что нашла.
Я ведь нынче даже не спала,
Вот тревожно как-то и тревожно.
Словно сыч уставилась во тьму
И не сплю. Себя не укоряю,
Но причину так и не пойму.
– А теперь-то знаешь почему?
– А теперь как будто понимаю.
Завтра ты идешь на огневую?
– Нет, наверно, не пойдет никто.
– Не шути. Я знаю.
– Ну и что?
Ведь не с прошлой пятницы воюю!
С ревом пролетев над головами,
Грохнул за оврагами снаряд.
И, тряхнув испуганно плечами,
Сад рассыпал белый снегопад.
– Можешь ехать. Ну и шут с тобой!
– Тоже мне веселое напутствие.
– Нет, прости. Я глупая… Постой…
Но сейчас прошу вот всей душой,
Я ведь не шутила о предчувствии.
Понимаю, чушь и ерунда.
Я сама ругать себя готова,
Ничего не будет никогда!
Но послать ведь можно же туда
Ну хоть раз кого-нибудь другого?!
Вроде улыбнуться попыталась,
А потом упала на плечо
И впервые горько разрыдалась
Как-то вдруг по-детски, горячо.
Ни от горя, ни от резкой фразы,
Ни от злых обид или похвал,
Никогда нигде еще ни разу
Я тебя в слезах не заставал.
Замолчала, руку отвела:
– Погоди, не утешай, не надо. —
Улыбнулась повлажневшим взглядом.
– Видишь, вот и Шура не скала.
От пригорка к морю – две дороги.
На поселок издали взгляни —
Словно путник, вытянувший ноги,
Сунул в воду голые ступни.
Две дороги – разные пороги,
За спиной двадцатая весна,
Две дороги у войны в залоге,
И бог весть какая суждена…
Но какие б ни гремели грозы,
Шурка, Шурка, светлая душа,
С этою улыбкою сквозь слезы
До чего ж была ты хороша!
– Ты скажи мне честно, как бывало!
Даже жизнь до ярости любя,
Ты б в огонь когда-нибудь послала
Ну хоть раз кого-то за себя?
Я спросил. И ты молчала хмуро.
Ах, как долго мучился ответ.
– Хорошо… Ну, вероятно, нет…
Но пойми!
– Я понимаю, Шура.
Ты мой самый задушевный штаб.
Только что нам краешек передний!
А к тому же ведь последний залп.
Понимаешь, самый распоследний!..
Годы, годы… Рыжий листопад,
Голубые зимние метели,
Где сейчас тот яблоневый сад
В шрамах от пожаров и шрапнели?
Может, сгинул в душный суховей
Или стал ворчливее и гуще,
Только вечно в памяти моей
Он все тот же: юный и цветущий!
Вот и нас с тобою, вот и нас
Вижу вдруг взволнованно и четко:
Эту грусть тревожно-серых глаз
И слезинку возле подбородка.
Вижу пальцев легкую печаль,
Гладящих мне голову и руку,
И морскую, ветровую даль,
Словно предвещавшую разлуку.
Встала. Взглядом обежала сад.
– Ох и яблок тут, наверно, зреет!
Жаль, нельзя вот так: цветы белеют,
А под ними яблоки висят…
Ну пора. Но поимей в виду,
Завтра я приду на огневую.
Что смеешься? Думаешь, впустую?
Да хоть в ад упрячешься – найду!
Я смотрю, как ты мне улыбаешься,
И отнюдь не ведаю сейчас,
Что в душе ты навсегда останешься
Вот такой, как в этот самый час,
Как стоишь ты, глаз не опуская,
Словно бы задумалась о чем,
Тоненькая, светлая, прямая,
С яблоневой веткой за плечом…
Я смотрю и даже не предвижу,
Что ни глаз, ни этого лица
Никогда уж больше не увижу,
Никогда… До самого конца…
Надо бы листок перевернуть,
Но сейчас, в последнюю минуту,
Я не в силах, кажется, шагнуть
И все медлю, медлю почему-то…
На душе щемящая печаль,
Был иль нет я в юности счастливым,
Только нынче, вглядываясь в даль,
Мне до боли расставаться жаль
С этим днем весенним и красивым.
И пока не опустилась тень,
Тщусь запомнить все его приметы.
Ибо это мой последний день,
Полный красок, облаков и света…
Жизнь не ждет. Она торопит в путь.
Ах, как было б славно, вероятно,
Если б каждый почему-нибудь
Мог хоть раз свой день перевернуть,
Словно лист тетрадочный, обратно…
Ну да раз нельзя, так и нельзя!
Было все обычным: огневая,
Рев машин, хорошие друзья
И в дыму дорога фронтовая.
Враг, пока не наступил рассвет,
Бил всю ночь, снарядов не жалея,
И разгрохал нашу батарею,
А у друга, у соседа – нет.
Значит, было до зарезу надо,
Чтоб напор пехоты не ослаб,
Передать товарищу снаряды
И рвануть наш знаменитый залп.
Сделать быстро, точно по часам,
И расстаться с краешком передним.
Но комбат, как в море капитан,
Пусть хоть смертью пахнет ураган,
Все же сходит с мостика последним.
И уж вспоминать так вспоминать:
О дороге в огненной завесе,
О пехоте, что не может ждать,
И о том и о последнем рейсе…
Как с шофером в грузовой машине
Сквозь разрывы мчались напролом
Вверх по склону в стонущей кабине
По воронкам, по разбитой глине…
И еще, наверное, о том,
Как упал пред самой огневой…
Только дважды вспомнить-слишком больно.
Есть моя поэма «Снова в строй»,
Там про это сказано довольно…
Шурка, Шурка! Подожди, не плачь!
Понимаю, трудно примириться,
Только в сердце, как весенний грач,
Может, снова что-то постучится?
Может, радость и подымет стяг.
Но когда и у какого дома?
Ведь теперь уже не будет так
Все, как встарь: и ясно и знакомо.
Из-за срочных врачевальных дел
К нам ты на рассвете припоздала.
И когда ты на гору взбежала —
Залп уже раскатисто гремел.
Впрочем, может, даже лучше все же,
Что ты малость позже подошла.
Ведь спасти б меня ты не спасла,
Только вся б перетряслась от дрожи.
И потом, куда себя ни день,
Сердце б это вынесло едва ли.
Позже мне и так порассказали,
Что с тобою было в этот день.
Но хоть боль не схлынет никогда,
Я хочу, чтоб знала ты и ведала:
Да, стряслась тяжелая беда,
Было горько, даже страшно, да,
Было все, но вот ошибки не было!
Ложь ни разу не была меж нами,
Так поверь, что в трудные часы
Сколько раз бессонными ночами
Все былое клал я на весы.
Зло стряслось, и самое-пресамое…
Но, весь путь в сознанье повтори,
Говорю открыто и упрямо я:
Ничего не получилось зря!
Разве груз, сквозь пламя пробивая,
Я доставить к сроку не сумел?
Разве, доты к небу подымая,
Наш последний залп не прогремел?
Разве следом не пошла работа
Остальных армейских батарей?
И сквозь дым не ринулась пехота
Штурмовать остатки рубежей?
Не разбили разве, не расхлопали
Каждый метр, где огрызался враг?
Разве кровью полыхнувший стяг
Не забился в небе Севастополя?!
Люди гибли, падали во тьму,
Хоть, конечно, горько умиралось,
Но когда на свете и кому
Без потери счастье доставалось?!
И за тех, кто не дошел до цели,
Говорю я мирным этим днем:
Пусть не все мы увидать сумели
Стяг победы, взмывший над Кремлем.
Каждый, кто упал на поле боя,
Твердо знал заранее, поверь,
Хоть непросто жертвовать собою.
Только мир и счастье над страною
Стоят этих тягот и потерь!
Глава VII
ПРАЗДНИЧНАЯ НОЧЬ В МОСКВЕ
Ветер, будто выжав тормоза,
Взвыл и стих устало под балконом.
У витрин слипаются глаза,
Фонари мигают полусонно.
И под каждым дремлющим окном
Вдоль домов, подобно темным рекам,
Льется ночь, разбавленная снегом,
Будто черный кофе с молоком.
Спят деревья в лунных балахонах,
Синий свет качается в окне,
И солдаты в дальних гарнизонах
Смотрят нынче фильмы о войне.
Сталь от жара на экранах плавится,
Бьют «катюши» в зареве огней,
Мне ж сегодня почему-то кажется,
Что сквозь полночь движется и катится
Тихо-тихо множество людей…
Те, с кем шли в походе и в бою,
С кем шутили под налетом шквальным,
Поименно, лично, персонально
Я их всех сегодня узнаю.
Узнаю и говорю ребятам
Обо всем до нынешнего дня,
Кто назад вернулся в сорок пятом,
А про тех, кто не пришел когда-то,
Им и так известно без меня.
Время, будто штору опуская,
Делит мир бесстрастно пополам.
И, былое нынче вспоминая,
Шурка, Шурка, так я и не знаю,
Здесь ты в этот вечер или «там»?
Если ходишь, думаешь и дышишь,
Если так же искренен твой взор,
Я уверен, ты меня услышишь
И простишь наш горький разговор.
Тот последний, августовским летом…
Помнишь, ты пыталась предсказать?..
Впрочем, если начал вспоминать,
Что ж, давай же вспомним и об этом.
ВСТРЕЧА
1
Летний вечер, госпиталь, палата.
Тумбочки, лекарства, тишина.
Где-то бьются в пламени солдаты.
Здесь же скальпель вместо автомата,
Здесь бинты и белые халаты
И своя нелегкая война.
И боец, спеленатый бинтом,
Пусть кому-то это будет странно,
Говорил с соседом обо всем:
О простом, о мудром, о смешном,
Обо всем, но только не о ранах.
Кто впервые приходил сюда,
Может, даже и решал подспудно,
Что не так ребятам уж и трудно,
Вон ведь как смеются иногда!
Да, смеялись, как это ни странно!
И никто почти что не стонал.
Только тот, кто был здесь постоянно,
Это все, пожалуй, понимал.
Пусть непросто было воевать,
Но куда, наверное, сложней,
Потеряв, не дрогнув, осознать
И затем упрямо привыкать
К ней, к дороге будущей своей.
Делать снова первые шаги,
Веря в то, что песнь не отзвенела,
Без руки, без глаз или ноги, —
Не совсем простое это дело…
Пусть дорога будет неплохой,
Пусть с любою радостью-удачей,
Только быть ей все-таки иной,
Потрудней, погорше, не такой,
И не надо говорить иначе!
И чтоб в сердце не тревожить раны,
Хлопцы, истомленные жарой,
Так шутили солоно порой,
Что валились с тумбочек стаканы!
Лишь когда во тьме за тополями
Город тихо забывался сном,
Кто-нибудь бессонными ночами
Долго-долго думал о своем,
Думал молча, сердца не жалея.
Сколько чувств металось и рвалось!..
Мне, пожалуй, было посложнее,
Потому всех чаще не спалось.
Горем я делиться не любил.
И лишь с Борей – другом по палате,
Что сидел бессонно у кровати,
Молча сердце надвое делил.
Шурка, Шурка! Милый человек,
Где сейчас лежит твоя дорога?
За окном торжественно и строго
Падает, покачиваясь, снег…
2
Ах, как я сегодня дорожу
Нашим прошлым, песнею согретым!
Но пора. И вот я подхожу,
Только дай мне руку, я прошу,
К нашей встрече августовским летом.
Будни. Тихий госпитальный вечер.
Кто-то струны щиплет в тишине,
Нет, ничто не подсказало мне,
Что сейчас случится эта встреча.
Как добилась, вырвалась, смогла —
Никому того не объясняла.
Может, это сердце помогало,
Но меня ты все-таки нашла.
Увидав, не дрогнула, не вскрикнула,
Подлетела тоненькой стрелой,
Крепко-крепко пальцы мои стиснула
И к бинтам припала головой.
Первые бессвязные слова,
Под рукою дрогнувшие плечи,
Скомканные, сбивчивые речи
И в сплошном угаре голова…
– Я же знала, знала, что найду! —
Улыбнулась. Нервно закурила. —
– Ты же помнишь… Я же говорила:
Разыщу хоть в чертовом аду!
Сожалеть бессмысленно и поздно.
Это так, но выслушай, постой,
Как бы это ни было серьезно,
Все равно я рядом и с тобой!
А ребята, знаешь как страдали,
Все тобой отчаянно горды.
Говорят, что, если бы не ты,
Никакого залпа бы не дали!
А начмед мне только что сказал,
И в глазах – торжественная радость,
Что тебе недавно благодарность
Маршал Жуков в госпиталь прислал.
Господи, да что я говорю!
Слава, благодарности, приветы…
Не об этом надо, не об этом!
Ты прости, что глупости порю!
Смолкла и вздохнула глубоко.
– Шурка, Шурка, посидим-ка рядом,
Только ты не нервничай, не надо…
Мне и вправду очень нелегко…
Как мне дальше жить и для чего?
Сам себя же сутками терзаю.
Только ничего еще не знаю,
Ничего, ну просто ничего.
– Нет, неправда. Превосходно знаешь!
Знаешь с самых босоногих лет,
Ты же от рождения поэт.
Как же ты такое отметаешь?!
Вечер красноперою жар-птицей
Мягко сел на ветку под окном.
То ли ветер в форточку стучится,
То ли птица радужным крылом?
– Знаешь, Шура, улыбнись-ка, что ли!
Что нам вправду разговор вести
Обо всех там сложностях и болях,
Их и так довольно впереди!
– Да, конечно, милый человече.
Ну давай о чем-нибудь другом.
Знаешь, там, в приемной, перед встречей
Можно все услышать обо всем.
Ждешь халата в строгой тишине,
Ну а сестры… Им же все известно…
– Вот так штука. Это интересно…
Что ж тебе сказали обо мне?
– Да сказали, очень было плохо,
Раз решили даже, что конец…
Только ты не дрогнул и не охнул,
В общем, был взаправду молодец.
– А еще о чем порассказали?
– А еще, пожалуй, о друзьях,
Что на фронт всегда тебе писали
И сидят тут у тебя едва ли
Менее, чем в собственных домах.
Видно, что отличные друзья.
Кто они? – Да большей частью школьные,
– И при этом скажем, не тая,
Что средь них есть даже и влюбленные…
Прибегут в наглаженной красе
С теплотой и ласковым приветом.
– Кто тебе рассказывал об этом? —
Улыбнулась: – Да буквально все.
От врача и до швейцара дедушки!
Говорят, не помнят никогда,
Чтобы одному четыре девушки
Предложили сердце навсегда!
А какая я, уж и не знаю. —
Замолчала, за руку взяла.
– Шурка, Шурка, что ты за дурная!
Да сейчас я просто отметаю
Все эти сердечные дела.
Может, и наделаю ошибок,
Но в бинтах, в сомненьях и крови
Мне сейчас не очень до улыбок
И, прости, совсем не до любви!
Что мне шепот и уста влюбленные,
Если столько раз еще шагать
В дверь с табличкой «Операционная»,
Э, да что там долго объяснять!
Закурили. Оба помолчали.
– Да, конечно, – выдавила ты, —
Я пойму, наверное, едва ли,
Что такое раны и бинты.
Это страшно, если хочешь, жутко,
Даже я как в пламени горю.
Только я же вырвалась на сутки,
Потому вот так и говорю!
Может быть, я в чем-то ошибаюсь,
Только знаю, знаю все равно:
Одному, сквозь ветер пробиваясь,
Тяжело. А я не пригибаюсь,
Наплевать, светло или темно!
Если б знать мне, если б только знать,
Что вернусь из пламени обратно, —
Никому на свете, вероятно,
У меня тебя бы не отнять!
Нет, ты веришь, я же не боюсь,
Только сам ведь знаешь, как предчувствую,
И теперь вот, ну, как будто чувствую,
Что легко обратно не вернусь…
Ты не спорь, но поимей в виду:
Хоть безвестна буду, хоть прославлена,
Только, если крепко буду ранена,
Я к тебе такою не приду.
Если уж сражаться, то сражаться
За любовь, которая б смогла
Дать тебе действительное счастье,
А не грусть от шкафа до стола!
Помню, как, поднявшись на постели,
Я сказал в звенящей тишине:
– Ну чего ты, Шурка, в самом деле,
Мучишь душу и себе и мне!
– Это верно. И давай забудем!
Я и вправду нервов не щажу.
А писать-то хоть друг другу будем?
– Как же без письма хорошим людям?! —
Я махнул рукой! – Да напишу!
Шура, Шура, через много лет
Ты сними с души моей каменья
И прости за это раздраженье
И за тот бесчувственный ответ.
Если можешь, вычеркни, прошу.
Мне сказать бы мягко и сердечно:
– Что ты, Шурка, напишу, конечно! —
Я же как отбрил: – Да напишу!
Был я весь как бьющийся костер.
Встреться мы хоть чуточку попозже —
Может быть, сердечнее и проще
Получился б этот разговор.
Долго-долго словно бы во сне
Мы сидели рядом и молчали.
Вдруг в какой-то тягостной печали
Ты прильнула бережно ко мне.
– Завтра я уеду. И не знаю
Ничего о собственной судьбе.
Но тебе, ты слышишь, но тебе
Я. как жизни, светлого желаю!
Я хочу, чтоб было впереди
Что-то удивительно большое
И душа, звенящая в груди,
Вечно знала, что бороться стоит!
Пусть тебе сейчас не до любви,
Но в бинтах не вечно же солдаты!
И зови ее иль не зови,
А любовь придет к тебе когда-то!
И тебе я от души желаю,
Впрочем, нет… Прости меня… Постой…
Я ведь тех, кто ждет тебя, не знаю,
Кроме, кроме, может быть, одной.
Той, что мне халат свой отдала.
Сразу ведь меня не пропустили.
Но потом, когда она сошла,
Мы с ней на ходу поговорили.
Кажется, она-то вот и главная… —
Вдруг на сердце набежала тень.
– Ничего… Молоденькая. Славная,
А приходит часто? – Каждый день.
– Что же, это трогает, признаться! —
Потонула в папиросной мгле.
– Мне, конечно, трудно разбираться,
Но не знаю, много ли в семнадцать
Можно знать о жизни на земле?
Быть женой поэта и бойца —
Значит сквозь любые испытанья
Верить до последнего дыханья
И любить до самого конца!
Вот и все. Прости, коль взволновала.
Просто недомолвок не терплю.
Всякого я в жизни повидала,
Потому так прямо и рублю.
Да, вот если знать бы, если б знать,
Что живой притопаю обратно,
Никому на свете, вероятно,
У меня бы счастья не отнять!
Ну прощай, мой светлый человек…
До чего же трудно расставаться!
Ты прости, но только может статься,
Что сейчас прощаемся навек…
Нет, не бойся, рук не заломлю.
Нам, бойцам, ведь и нельзя иначе.
Ну а то, что вот стою и плачу,
Так ведь это я тебя люблю…
И пускай ты о невзгоды бьешься,
Ты обязан. Слышишь? Ты такой,
Все равно ты встанешь и добьешься,
И до звезд дотянешься рукой!
Нет дороже для меня награды,
Чем твоя улыбка. Ну, прощай!
И прошу, пожалуйста, не надо,
Никогда меня не забывай!
Крепко-крепко пальцы мои сжала
И почти с тоскою пополам
Вдруг с каким-то трепетом припала
К пересохшим, дрогнувшим губам,
– Повторяю без высоких фраз,
Что душой навек к тебе припаяна
И люблю без памяти, отчаянно
В самый первый и в последний раз!
Ну а если вдруг судьба мне хмуро
Где-то влепит порцию свинца,
Помни, что жила на свете Шура,
Что была твоею до конца!
Глава VIII
РАННЕЕ УТРО В МОСКВЕ
Тихо ночь редеет над Москвою,
За окошком розовеет снег.
Так мы и не встретились с тобою,
Шурка, Шурка, славный человек!
Так и не увиделись ни разу.
И теперь сквозь ветры и года
Ничего-ни жеста и ни фразы —
Не вернуть обратно никогда.
И друзей, что вместе воевали,
Дальние дороги развели:
Те – на Волге, эти – на Урале,
Ну а те, что адресов не дали,
Просто из сражений не пришли.
Впрочем, мир не так уж и широк,
И при всех работах и заботах,
Смотришь, вдруг и объявился кто-то,
Забежав порой на огонек.
Ну а чьи-то души постоянно
Где-то рядом, полные тепла,
Помнишь, Шурка, Гурченко Ивана —
Нашего веселого хохла?!
Что в походе, в радости, в печали,
Наплевать, устал иль не устал,
Требуя, чтоб хлопцы поддержали,
Удалые песни запевал!
И теперь, взволнованные встречей
И забросив будни, иногда
Мы садимся рядышком под вечер
И уходим в давние года.
Мы уходим в дымные рассветы,
В мокрый ветер, в хмурый листопад,
Проверяя мощные ракеты
И встречаясь с сотнями ребят.
Вспомним всех, с кем тяготы и радости
Мы несли сквозь дали и года.
Лишь тебя из высшей деликатности
Он не вспоминает никогда.
Лишь в столе однажды обнаружив
Твой портрет в шинели фронтовой,
Он, поежась словно бы от стужи,
Все стоял, стоял перед тобой.
А затем с растроганною силой
Тихо молвил, глядя на портрет:
– Ну и сердце золотое было!
До чего ж она тебя любила…
Только знал ты это или нет?!
Впрочем, если молвить откровенно,
Хоть и узок дружбы старой круг,
Есть еще большой и светлый друг
У меня с той замяти военной.
Сам Иван Семенович Стрельбицкий,
Наш любимый, грозный генерал
(Вот чего уж я не ожидал!),
Не забыл, запомнил, отыскал,
Вдруг звонит мне с площади Никитской.
Повстречались, обнялись, и снова
Встречи, разговоры без конца,
И теперь я, честное же слово,
Словно сын, дождавшийся отца!
Утро, красно-бурою лисицей
Развалясь на мягких облаках,
Потянулось сладко над столицей
И лизнуло снег на фонарях.
Снова прячась в давнее былое,
Вслед за тенью уплывает тень.
И шагает шумною Москвою
Энергичный и веселый день.
Отразись улыбкой молодой
Даже в самом крохотном оконце,
Поднялось огромнейшее солнце
Над моей огромною страной.
И сияет в животворной силе
Вплоть до рубежей моей земли
Все, что мы когда-то защитили,
Все, что от пожаров сберегли!
И не зря над крышами, над тополем,
Над Сапун-горою поутру
Жаркий стяг над гордым Севастополем
Алой птицей бьется на ветру!
ЭПИЛОГ








