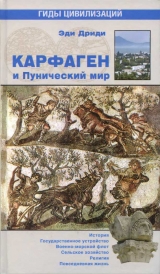
Текст книги "Карфаген и Пунический мир"
Автор книги: Эди Дриди
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 16 страниц)
Праздники обычно сопровождались подношениями, строго определяемыми религиозными тарифами, проведением процессий, в ходе которых танцевали священные танцы, хотя детали праздничных церемоний, гимны или финикийские молитвы нам неизвестны. Но мы знаем, что по случаю праздников пекли особые лепешки.
МУЗЫКА И ТАНЦЫ
Музыка и танцы пронизывали все существование карфагенян. Они сопровождали большинство религиозных церемоний, в ходе которых играли на тамбурине, флейте или цитре, о чем свидетельствуют рельефы на стелах или из обожженной глины. Цимбалы, а также возможные детали струнных инструментов, найденных в карфагенских захоронениях, говорят о том, что этот род деятельности присутствовал и в частной жизни карфагенян и что они являются красноречивым опровержением оценки карфагенян, данной Плутархом. Свадьбы, рождения детей, а также праздничные церемонии, организуемые аристократами, сопровождались, по всей вероятности, музыкальными представлениями, танцами, декламацией поэтических произведений. Софо– нисба, красивая и высокообразованная аристократка, соблазнившая сначала Сифакса, а затем и Массиниссу, была хорошей музыкантшей. И как в греческом мире, куртизанки играли на музыкальных инструментах, о чем свидетельствует стела, воздвигнутая одной музыкантшей, играющей на цитре, которая была, по словам составителя надписи, «не слишком строгого нрава».
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ИГРЫ
Из источников нам известно, что финикийцы не были большими любителями коллективных игр. Вполне возможно, что они отличались от игр, организуемых римлянами. И также вполне возможно, что наряду со многими восточными
царствами в Карфагене и в целом в пуническом мире существовали общественные места (площади и т.д.), где устраивались акробатические представления, проводились силовые соревнования или выступления дрессировщиков животных. Хотя археологических или эпиграфических подтверждений этому у нас нет.
Достоверно известно, что пунийцы и главным образом представители военного сословия очень любили азартные игры, о чем свидетельствуют обнаруженные в могилах Карфагена игральные кости.
ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Чистота для каждого карфагенянина имела большое значение, и это подтверждается оборудованием для омовений, обнаруженным как в Карфагене, так и в других местах, в частности в Керкуане, а также изображением из обожженной глины человека, принимающего ванну. В ходе раскопок, проведенных в «квартале Ганнибала» на холме Бирса, были найдены фрагменты маленьких переносных ванн из обожженной глины. В Керкуане практически все дома были оборудованы встроенными ваннами, дно которых было выложено кусками белого мрамора. Бассейны с водой, располагаемые рядом с ванными, давали возможность вдоволь насладиться водными процедурами. Устройство для подогрева воды было простым, но эффективным: печь, находящаяся снаружи дома, нагревала стену ванной комнаты.
Мы почти не располагаем сведениями, подтверждающими факт существования общественных бань. Единственные достоверные свидетель-

Ванная комната в Керкуане
ства были обнаружены в Керкуане, где некоторые помещения, в противоположность римским баням, в которых были оборудованы отдельные пространства (бассейны, залы), способствующие общению, имели строго функциональное назначение. Одно из таких помещений находилось в Керкуане, поблизости от святилища, что наводит на мысль о том, что здесь останавливались, прежде чем отправиться в святое место.
После купания карфагеняне умащивали свои тела маслами, приготовленными на основе благовоний, импортируемых из арабских и азиатских
стран (Геродот. III, 107). Плиний Старший (Естественная история. XIII, 6, 11—13) упоминает среди душистых масел галбаниум (миндальное масло), мендесион (эссенция ашкелонской лилии), телинум (сидонская хна) и т.д.
ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО
Мы практически ничего не знаем о рыболовстве и охоте с причинением смерти животным. Но нам хорошо известно, что карфагеняне отправлялись в путешествия за поимкой диких и

Охота. Мозаика из Джемилы
экзотических животных, которых они впоследствии перепродавали своим торговым партнерам, в частности римлянам, использовавшим их для организации представлений в амфитеатрах. И именно таким торговцем представляет Ганнона хитрый Мильфион в комедии Плавта «Пуниец». Для увеселения гостей и ради собственного удовольствия карфагеняне часто приручали диких животных. Кроме слонов, которые, вероятно, использовались не только в военных целях, в карфагенских зверинцах содержались обезьяны (бабуины), леопарды, рыси, львы, экзотические птицы (павлины, розовые фламинго, попугаи). Из античных источников до нас дошло имя некоего Ханнона, прозванного орнитологом, поскольку он научил своего попугая фразе «Ганнон – это бог!». И как говорят, другой Ганнон (если только речь идет не об одном и том же персонаже) приручал львов, за что получил прозвище укротителя этих хищников (Плиний Старший. Естественная история. VIII, 55).
кухня И ПИЩА
Источники, на которых мы основываемся, не позволяют с уверенностью сказать, как часто ели карфагеняне и принимали ли они пищу врозь или сообща. Вполне возможно, что члены одной и той же семьи ели раздельно. Скорее всего, мужчинам сервировали стол в парадных помещениях, а во время трапезы они возлежали на «пунических ложах» (punicani lectuli), упоминаемых древними авторами. И если принимать во внимание сцены с изображением яств, которыми были уставлены небольшие круглые столы на одной ножке, располагавшиеся перед гостями, устроившимися на своих ложах, то, видимо, начиная с IV столетия, в Карфагене появился обычай организовывать пиры в греческом духе. Что касается посуды и кухонной утвари, то до нас дошли только чаши из обожженной глины и несколько бронзовых сосудов для вина, хотя у аристократии, вне всякого сомнения, были столовые сервизы из драгоценных металлов. Пища подавалась в мисках и более или менее глубоких блюдах. В эллинистическую эпоху отмечалось преобладание блюд для сервировки рыбы с весьма характерным дном. Что касается жидкостей (вода, свежее или сквашенное молоко, вино), то их подавали в небольших чашках, бокалах, кувшинах или кубках.
О рационе питания карфагенян нам известно гораздо больше. Зерновые и бобовые (чечевица, горох) составляли его основу и в основном удовлетворяли потребности в пище самых неимущих слоев населения. Плиний Старший утверждает, что из пшеничной и ячменной муки пекли лепешки, которые римский грамматик Фест в своем труде «О значениях слов» назвал пуническими (punicum). Для их выпечки иногда использовали специальные формы, придававшие лепешкам неповторимый вид. Их пекли в печах из обожженной глины, о которых мы можем судить по их уменьшенным моделям, обнаруженным в Карфагене, Керкуане и на востоке. Эти очаги в форме усеченного конуса с отверстием на его вершине являются предками современной печи табуна в Тунисе. Их топили дровами, и, когда пламя гасло, на раскаленные стены бросали лепешки. Тесто пеклось жаром стен и тлеющих углей.
Рецепт приготовления пунической похлебки (Катон. О земледелии, 85): хорошо размешать ливр муки в воде, перелить в чистую емкость и добавить три ливра творога, пол-ливра меда и одно яйцо. Все хорошо размешать и томить на огне в новой посуде.
Из ячменной или пшеничной муки готовили одно блюдо, называемое puls punica (то есть крутая пуническая похлебка), о котором упоминал Катон Старший. Эта похлебка составляла основу рациона и приправлялась, в зависимости от материального достатка семьи, соусами, мясом, рыбой или разнообразными морскими продуктами.
Овощам и фруктам, выращиваемым на огородах, окружавших пунические города, отводилось, видимо, центральное место в рационе питания карфагенян. О них даже упоминается в тарифах по определению размеров религиозных подношений. В захоронениях встречались фиги, гранаты, миндаль, орехи, бахчевые культуры либо в их натуральном виде, либо в форме их копий из обожженной глины.
Оливковое масло потребляли в больших количествах. По мнению Диодора Сицилийского, его импортировали в течение V века. Впоследствии ситуация изменилась, о чем свидетельствует большое количество помещений, где устанавливали прессы для извлечения масла, обнаруженные в Тунисе. Молоку также отводилось почетное место, его преподносили в дар богам, хотя молочные продукты также являлись одной из составляющих рациона карфагенян. Его потребляли в свежем виде или прошедшим ферментацию (йогурты, творог и сыр).
Рыба играла большую роль в питании карфагенян. У побережий Средиземного моря водились морской сом, мероу, дорада, морской язык и т.д. За тунцом отправлялись в Атлантику, на юг от Ликса, и ловили его в нескольких днях пути от портов. Затем его перерабатывали в цехах по засолке рыбы, откуда его экспортировали по всему Средиземноморью. На этих предприятиях, расположенных вдоль пунического побережья от Ликса и Кадикса до Триполитании, производили также и гарум, латинизированное пуническое название которого – кодлия (codlia). Изготовление этого соуса, используемого в качестве приправы, осуществлялось в больших емкостях, где в течение многих недель в соли с добавлением пряных трав происходила мацерация рыбьих внутренностей. Излишне говорить, что цеха по переработке рыбы, наряду с предприятиями по изготовлению кожи, выносились за пределы городов в силу тошнотворного запаха, издаваемого ими.
В жертвенных тарифах, которыми регулировалось распределение туш животных между осуществляющим жертвоприношение и служителями культа (см. Подношения и ритуалы, сопровождающие жертвоприношения, гл. VI), перечислялись многие виды мяса, потребляемого карфагенянами: говядина, телятина, козлятина, птица. Но в результате исследования костных останков были получены уточненные сведения. В ходе раскопок на холме Бирса, проведенных французскими археологами, было установлено, что часть потребляемых в пищу диких животных (кабанов, газелей, кроликов, куропаток и т.д.) была
относительно небольшой (около 3%). Основная же часть используемого в пищу мяса поступала с боен, где забивались домашние животные весьма преклонного возраста, когда у них снижались надои молока или когда они становились непригодными для сельскохозяйственных работ. Это были крупные животные, быки в холке достигали 1,33 м. Что же касается количественного потребления разных видов мяса, то, как нам кажется, козлятина (или баранина) и говядина составляли каждая более трети рациона. Дополнением служило мясо осла, конина и курятина. Если верить одному из замечаний Юстиниана (XIX, 1, 10—12), то в пшцу использовалось также мясо собаки. Учеными бщло установлено довольно небольшое по количеству потребление рыбы, устриц и моллюсков. Но следует напомнить, что эти исследования проводились в самых нижних слоях холма Бирса, соответствующих периоду, когда карфагенская территория была небольшой, в связи с чем приходилось ограничивать размеры пастбищ, и когда у карфагенян не было выхода к морю.
Исследования костных останков, выявленных в ходе раскопок, проводимых немецкими археологами вдоль береговой линии, предоставили аналогичные результаты. Ими было подтверждено, что мясной рацион состоял из говядины, баранины, козлятины и свинины и что пропорции их включения в пищу варьировались с течением времени. Если в первые годы в Карфагене потребление свинины было небольшим, то в течение трех последних веков существования города оно значительно увеличилось и достигло в некоторых кварталах 21%. Рост потребления свинины

Сосуды в виде ослов или коней , везущих воду
связывают с пищевыми пристрастиями карфагенян, зависящими от регионов их происхождения (финикийцы и нефиникийцы). Другие авторы объясняют этот феномен окультуриванием семитов. Но вполне может быть, что увеличение потребления свинины напрямую зависело от введения культа Деметры, символическим животным которой, как нам известно, была свинья. И как бы там ни было, результаты исследований говорят о том, что карфагеняне употребляли в пищу свинину, что заставляет нас пересмотреть алиментарный запрет, приписываемый финикийцам, а следовательно, и карфагенянам (Геродиан. V, б, 9; Порфирий. О воздержании. I, 14; Силий Италик. III, 22—23), соблюдение которого было внушено отсутствием упоминания о свинине в жертвенных тарифах (см. Религиозные запреты, гл. VI).
Как и рыба, мясо не всегда сразу употреблялось в пищу. Его консервация давала возможность формировать запасы, поставлять на экспорт и включать в рацион моряков. Результаты анализа амфор, обнаруженных в ходе раскопок в бухте на севере от местечка Нора (Капо ди Пула, на юге Сардинии), свидетельствуют о том, что в них содержались говядина и ягнятина, сохраняемые в виноградных выжимках.
Древних авторов, как нам кажется, весьма впечатлило трепетное отношение карфагенян к своим виноградникам. И если верить Плинию Старшему (Естественная история. XXXVI, 166; XIV, 81), из винограда они получали два вида вина. Одно было обычным и доступно каждому, а второе, называемое пассум (passum), было, как нам кажется, высшего качества. Карфагеняне были большими любителями вина, поскольку Платон сообщает, что у них был закон, ограничивающий его потребление; в частности, его должны были соблюдать солдаты и их командиры на период военных действий (Законы. 674 а-b; Книга II. 674а). Но на самом деле этот закон не действовал, поскольку Диодор Сицилийский сообщает, что во время осады Сиракуз в 396 году Гимилькон открыл не только лавки по продаже хлеба, но и вина. А позднее, во время Пунических войн, галлы, служившие в карфагенских армиях, не имели, как нам кажется, недостатка в вине (Диодор Сицилийский. XXIII, 21; Полибий. XI, 3, 1).
ПУТЕШЕСТВИЯ
Будучи хорошими коммерсантами, карфагеняне много путешествовали. Они не чуждались незнакомого, если не сказать враждебного, окружения. Они свято чтили соблюдаемый во всем античном мире обычай выставлять напоказ дружеские связи, которые объединяли путешественника и семью, принимавшую его в незнакомом городе. Эти связи, нашедшие свое материальное выражение в тессерах (tessera hospitalis), напоминавших что-то вроде визитных карточек, обеспечивали иностранцу гостеприимство и защиту. В одной из комедий Плавта, латинского автора III века, разрабатывается именно эта тема. Один старый карфагенянин по имени Ханнон, набравшийся жизненного опыта в долгих деловых путешествиях, оказался в Риме в поисках своих племянниц, похищенных много лет тому назад. Его первым движением было продемонстрировать свою тессеру, чтобы его препроводили к человеку, с которым его объединяли, как он полагал, дружеские связи. Одна из таких тессер была извлечена из карфагенского захоронения, датируемого VI веком. Она представляет собой дощечку из слоновой кости, на которой начертана этрусская надпись: mi puinel karthazie – «я пуниец из Карфагена». Плавт наделяет своего вероломного персонажа коварством и изворотливостью, например, он притворяется, что не понимает местного языка, чтобы не быть втянутым в небезопасные для него дискуссии. Но на самом деле Ганнон мог рассчитывать на помощь карфагенской диаспоры в Риме. Эта последняя должна была быть относительно большой и сравнимой по размерам с итальянской колонией, обосновавшейся в Карфагене накануне Третьей пунической войны. Но также известно, что карфагенская колония существовала и в Сиракузах. По словам Диодора Сицилийского (XIV, 46,1), она была истреблена в 398—397 годах. Члены этих диаспор могли предоставить оказавшимся проездом в чужих странах соплеменникам любую помощь, которая могла им понадобиться.
В поисках новых источников сырья, новых рынков эти коммерсанты иногда пробирались нехожеными тропами, и самые отважные из них выбирали караванные пути, соединяющие Северную Африку с ее субсахарской территорией, чтобы доставлять по частям или сразу золото, слоновую кость, яйца страуса – словом, все то, что можно обнаружить в карфагенских захоронениях. Некий Магон хвастался, что он пересек пустыню, не выпив ни капли воды. Какими же путями шли Магон и его товарищи? Сложно ответить на этот вопрос, но можно предположить, что маршруты, по которым продвигались арабские торговцы, а затем европейские миссионеры, были проложены очень давно.
Геродот (IV, 42) сообщает о путешествии вокруг Африки, предпринятом финикийскими моряками в правление фараона Нехао (610—595). Их карфагенские потомки осуществляли исследовательские экспедиции не только вдоль африканских, но и вдоль европейских берегов.
Благодаря переводу на греческий язык одного карфагенского рассказа, датируемого, по всей вероятности, V веком, который был, как это указано в тексте, вывешен в храме Кроноса (Баал Хаммона), нам стало известно, что некий Ганнон возглавил экспедицию вдоль Атлантического побережья Африки. Отправившись из Карфагена во главе флотилии из 50 галер, он захватил на борт в Ликсусе провожатых и двинулся дальше к тропикам. В рассказе говорится, что члены экспедиции видели извержение вулкана и что им пришлось сразиться с гориллами. По словам Плиния Старшего (Естественная история. VI, 200), шкуры двух из них были преподнесены в храм Юно-
ны (Тиннит) в Карфагене в знак подтверждения приключений, выпавших на долю Ганнона, и оставались там до падения города. Беря за основу этот отрывок, некоторые специалисты считали, что флотилия достигла Гвинейского залива. Но в ходе недавних исследований удалось определить некоторые детали странствия, которые имели мало общего с реалиями данной местности, имеются в виду, в частности, морские течения, в связи с чем было установлено, что конечным пунктом их путешествия был вулканический архипелаг Канарских островов. Само собой разумеется, что эти острова наряду с Мадейрой были хорошо известны карфагенским первооткрывателям.
Другой рассказ о путешествии, упоминаемый Плинием Старшим, был передан нам Авие– ном в поэме Ora maritima, «Описание морского берега», римским поэтом и эрудитом, жившим в IV веке нашей эры. В нем говорится, что некий карфагенянин по имени Гимилькон отправился в исследовательскую экспедицию с целью отыскать залежи олова. Конечным пунктом его путешествия стали Эстримнидские острова. Идентифицируемые с Ирландией и Корнуоллом в Британии, они скорее всего располагались в Галиции, на северо-западе Испании. Этот регион уже давно и хорошо был известен финикийцам. Некоторые поселения на португальском побережье появились, видимо, еще в VII веке (это относится и к местечку Абул, в устье Садо, на юг от Лиссабона).
Пунийцы путешествовали не только с торговыми или исследовательскими целями. Иногда они были готовы пройти сотни километров, отправляясь в паломничество. Знатные люди

Ориентиры карфагенян
У карфагенян, как и у их левантийских предков, географическое восприятие мира было обусловлено ходом солнца. В надписи, обнаруженной в тофете Карфагена, восток определяется термином Ms’ HSmS (буквально «выход или восход солнца»), а запад назывался Mb’ HSmS (буквально «закат солнца»). Север и юг в их абсолютном проявлении соотносились с этой осью: если смотреть на восток, то север находился слева, а юг – справа. И точно так же определялись основные направления в другом семитском языке, арабском. Но иногда бывало, что уникальный рельеф местности становился точкой отсчета, и это было свойственно населению сирийско-палестинского побережья. У финикийцев и евреев название Сафон, которое носила гора (современная Дже– бель эль-Акра), расположенная в 40 км на север от Угарита, в Сирии, стало обозначением севера еще до того, как появился его более поздний синоним «север». Оно присутствует и в современном иврите.
из Сульчиса или Каглиари могли долго идти по труднодоступной местности, чтобы добраться до Антаса, где находилось святилище Цида (Sid BBY). Другие отправлялись в Дельфы, в святилище Аполлона и, разумеется, в Тир, в святилище Милькарта. В этом городе была обнаружена погребальная надпись, составленная по случаю смерти одного карфагенянина, скончавшегося, видимо, во время паломничества на земле своих предков (см. Надписи, гл. VII). И наконец, карфагенян иногда вынуждали обстоятельства сниматься с насиженных мест, чтобы искать убежища в других городах; так произошло с Гисконом, сыном Гамилькара (потерпевшего поражение при Гиме– ре), который нашел приют в Селинунте. Иногда они отправлялись в другие страны для продолжения образования, как, например, Гасдрубал / Клитомах, обучавшийся в Афинах (см. Литературные жанры, гл. VII).
ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
Что мы знаем о поведении карфагенян в обыденной жизни? По правде говоря, немного, если не считать материальных свидетельств, имен, жилищ или одежды. Древние авторы интересовались преимущественно внешней историей Карфагена, а их внутренние дела оставляли их равнодушными. Что касается мировоззрения и взглядов карфагенян, то их характеризовала резкость суждений. И в этом случае трудно себе представить, какой была семейная жизнь, как относился карфагенянин к жене (или к женам). Его сексуальная жизнь также вызывает много вопросов. Он упоминал о ней крайне редко, и было ли это обусловлено его восточным целомудрием или религиозными запретами?
ИМЕНА КАРФАГЕНЯН
В Карфагене, как и в остальной части семитского мира, имя человека состояло из его собственного имени и имени по отцу (X bn Y, то есть X сын Y), а иногда и деда. Этому чередованию имен была свойственна паппонимия или часто встречающаяся передача имени от деда к внуку (X, сын Y, сына X).
Среди всей совокупности пунических имен было много как теофорных (то есть таких, в состав которых включались наименования того
или иного божества), так и мирских имен (соотносящихся с названиями животных, предметов и т.д.). Среди имен, относящихся к первой категории, встречались выражения, характеризующие качество либо действие божества, направленное на носителя имени (Баракбаал – Баал благословил), а также термины, обозначающие родственные связи с божеством: «'Ь» (отец), «чш» (мать), «ЧЬ» (брат), «'ht» (сестра), «Tst» (невеста или жена) и т.д. Иногда эти имена употреблялись в сокращенной форме, так, имя Абдбаал (Слуга Баала) становилось Абдо или Баало. Мирские имена встречались гораздо реже и соотносились либо с моментом или обстоятельствами рождения (Bnh– ds – сын месяца, то есть рожденный в новолуние), либо с животными (Nml – муравей; 'kbr – мышь; Hid – крот), либо с растениями (Sblt – початок). Некоторые имена обусловливались профессией его носителя или, что бывало чаще, профессией его предков (Gib – брадобрей). К еще одному типу имен относились такие, которые происходили от национальности главы рода. В надписях на карфагенских стелах сохранилось большое количество имен типа Египтянин или Египтянка (Msry или Msrt), Сардинец (Srdny) и т.д. Существовали также и иностранные имена – ливийские, греческие, анатолийские и пр.
Как правило, род в пунических именах был выражен достаточно хорошо. Но были имена, которые имели одинаковую форму для мужских и женских имен. Так, знаменитое имя Ганнибал (Hnb’l – Баал благословил) носили многие карфагенские женщины, и они даже могли требовать присвоения себе родового имени, по крайней мере в том случае, если они были благородного
происхождения. Было также установлено, что некоторые из них сообщали одновременно свою собственную генеалогию наряду с генеалогией своего мужа (см. Семья, женщина, дети).
Пунийцы, видимо, любили прозвища; из классических источников до нас дошло их великое множество (Ганнон-рыба, Ганнон-орнитолог, Ганнон-укротитель львов). Но самое знаменитое из них, являющееся производным от Brq – молния, получил Гамилькар (Габдмилькарт) Барка.
В более позднюю эпоху произошло внедрение иностранных теонимов в пунические имена, например Изиды (Abd’s), Озириса (Abd’sr). Впрочем, карфагеняне, как и финикийцы, не испытывая никаких угрызений совести по этому поводу, либо меняли свои имена (Гасдрубал стал Клитомахом), либо дословно переводили его на иностранный язык, когда им приходилось переселяться за границу (в одном двуязычном тексте, найденном в Пирее, в Греции, упоминается некий Абдтиннит, имя которого звучало на греческом языке как Артемидорос).
ЖИЛИЩЕ
С точки зрения технологии их возведения и расположения пунические дома были продолжателями ближневосточных архитектурных традиций. Мы уже видели, что пунийцы почти никогда не использовали черепицу для покрытия кровель своих зданий. Плоские крыши их домов давали возможность надстраивать один или несколько этажей, либо устраивать на них залитые солнцем террасы, где можно было сушить белье, шкуры животных, вялить продукты. Они были также
местом отдыха, а в весенне-летний период здесь располагались спальные помещения.
В ходе раскопок, проведенных в Карфагене и в Керкуане, было установлено, что, начиная с V века, пунические жилые комплексы возводились вокруг центрального двора. В некоторых домах, несомненно, испытывающих греческое влияние, встречались дворы с портиками по типу домов с перистилем. Чтобы с улицы попасть во двор, нужно было пройти по длинному коридору, изгибающемуся в форме буквы «г», придающему еще больше интимности всей атмосфере дома. Во дворе, как правило, вымощенном бетоном с вмонтированной в него черепицей, обнаруживаются развалины колодца или водоема, откуда черпали воду, необходимую для хозяйственных надобностей, мельницы для обмолота зерновых и печи для выпечки хлеба по типу табуны, которую предпочтительнее было устраивать на открытом воздухе. Со двора попадали в дом и в помещение для купаний, а на верхние этажи поднимались по лестницам. Пол в залах для купаний также был покрыт характерным бетоном, инкрустированным черепицей, что способствовало быстрой эвакуации использованной воды и облегчало уборку помещения. В зависимости от имеющегося в наличии свободного пространства и материального достатка владельца дома ванны были либо передвижными из обожженной глины, либо встроенными (как в Керкуане). В этом случае нагревательное устройство располагалось с внешней стороны стены помещения для омовений. Для стока использованной воды применялись водосточные желоба, которые отходили от помещения для купаний, далее шли по двору

План дома на улице Сфинкса в Керкуане (Тунис, первая половина IIIвека до н.э.)
вдоль входного коридора, и вода по ним отводилась либо непосредственно на улицу (как в «квартале Ганнибала» в Карфагене), либо в городской водосток (как в Керкуане). Кухня чаще всего была весьма скромных размеров. Ее местоположение определяется по наличию некоторого оборудования, расположенного вокруг печи или жаровни. И, наконец, крыло здания, где проживали владельцы дома, находилось, как правило, напротив входа. Его характеризовали тщательность отделки (покрытие стен и пола). Здесь находились вестибюль, зал для приема гостей, спальня, но это встречалось не во всех домах, в некоторых был лишь парадный зал.
За исключением всего вышеперечисленного, нам, в силу отсутствия убедительных доказательств, трудно определить назначение других комнат: возможно, это были помещения для ночлега или подсобные помещения. Что касается определения количества лиц, проживающих в каждом из таких домов, то это все еще остается проблематичным.
Если и можно с полным основанием предположить, что пуническая семья была многочисленной и что, следовательно, она располагала большим количеством рабов (обычно их было в избытке), то в этом случае может показаться, что площадь здания была весьма скромной и что пунийцы жили скученно. Разумеется, встречались и большие жилые дома, например площадь некоторых зданий в «квартале Магона» Карфагена могла достигать 1000 м2. Но такие дома были скорее исключением. Площадь жилых зданий в «квартале Ганнибала» с трудом достигала 100 м2. Самый большой дом, обнаруженный в Керкуане, по площади был не более 250 м2 (хотя следует признать, что этими подсчетами не учитываются размеры крытых помещений, расположенных на верхних этажах зданий).
И наконец, мы почти ничего не знаем о том, какими были мебель и декор пунических зданий. Хотя можно тем не менее предположить, что стены домов покрывали шкуры экзотических или домашних животных (в зависимости от состояния владельцев домов), либо тростниковые циновки в самых скромных строениях. Большие сундуки или лари из кедра или кипариса, некоторые образцы которых, превращенные в саркофаги, были нами обнаружены в захоронениях, служили шкафами. В них хранили хрупкие и особо ценные для семьи предметы. В дополнение к вышесказанному можно привести пример весьма характерной планировки в доме на улице Сфинкса в Керкуане: парадная комната была отделена от спальни хозяина двумя перегородками, про
странство между которыми, скрытое от посторонних глаз декором, также могло служить для хранения отдельных предметов.
СЕМЬЯ, ЖЕНЩИНА, ДЕТИ
История Карфагена, начиная от Элиссы, его основательницы, которая предпочла сгореть заживо на костре, чем увидеть гибель своего города, и до Софонисбы, положившей свою красоту и притягательность на алтарь дипломатии, знает немало примеров исключительных женщин. Однако не стоит заблуждаться, карфагенское общество, как и множество других обществ, семитских или латинских, населяющих бассейн Средиземноморья, было патриархальным.
Литературные источники обходят молчанием жизнь обычных женщин, и только археология дает возможность иметь некоторые представление об их происхождении, статусе или образе жизни. Наши сведения относительно положения пунических женщин почерпнуты нами из двух археологических источников: из раскопок в тофетах и в некрополях. Но даже в большей степени, чем захоронения и погребальные надписи, в них обнаруженные, тофеты стали именно тем местом, которое помогло нам понять роль карфагенской женщины как матери. Впрочем, большинство надписей, легших в основу исследований по изучению положения карфагенянок, проведенных А. Ферджави, были сосредоточены именно в тофетах.
В результате этих исследований было установлено, что карфагенские женщины пользовались некоторой свободой, потому что они могли от

Скульптурное изображение богини с младенцем
себя лично осуществлять жертвоприношения. И те же самые надписи свидетельствуют о том, что женщины, каково бы ни было их происхождение, высокое или низкое, никогда не упускали возможности указать своих предков по восходящей линии. Кроме дочерей и жен рабов и суффетов, встречались женщины из семей ремесленников (врачей, поваров, плотников, столяров, парфюмеров и т.д.), вольноотпущенников и даже рабов.
А. Ферджави отметил, что в противоположность эпитафиям, в которых покойницы идентифицируются по отношению к их мужьям и отцам, в надписях, составленных женщинами на вотив– ных стелах, указывалась исключительно их собственная генеалогия, имена и предки со стороны супруга встречались крайне редко. Эта характерная особенность породила несколько гипотез, некоторые из них были основаны на предположении, что эти посвящения были составлены по случаю принесения в жертву ребенка. Итак, если согласиться с той точкой зрения, что тофет был предназначен для захоронения останков детей, умерших до достижения взрослого возраста, что подтверждается археологическими данными и эпиграфикой, то тогда можно допустить, что мужчины, составлявшие посвящения, были отцами умерших детей и осуществляли ритуал от имени семьи и что посвящение составлялось женщиной только в том случае, если муж отсутствовал или скончался.







