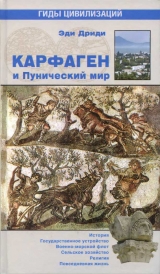
Текст книги "Карфаген и Пунический мир"
Автор книги: Эди Дриди
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
Но к божествам обращались, чтобы наслать на отдельных лиц, например на расхитителей гробниц, проклятия. Этот обычай был широко распространен в восточных городах. На саркофаге Ахирама, царя Библа, правившего приблизительно в X веке, было начертано проклятие, согласно
которому любой следующий царь, осмелившийся его открыть, будет наказан, и в этом случае «скипетр его власти сломается», трон опрокинется, а в Библе больше никогда не будет спокойствия. А в надписи на гробнице Тибнита, царя Сидона (V век), говорится, что каждый, покусившийся на ее расхищение, «не будет иметь потомства под солнцем, и никогда не найдет себе места в мире мертвых». А Эшмуназар II, его сын, во всем следуя своему отцу, пообещал нечестивцу, который осмелится открыть его саркофаг, что «у него не будет ни корня в земле, ни плода наверху, ни лица среди живущих под солнцем»!
В Карфагене все, осуществлявшие подношения в тофет, предостерегали воров от похищения их стел. В выражении менее поэтичном, чем то, которое составил Эшмуназар II, один из них обещает возможному грабителю, что Тиннит перережет ему горло. А другой, парфюмер Баа– лазор, убеждает грабителей в том, что за кражу стелы Баал Хаммон лишит их жизни. А некто Кунмай взывает к Тиннит с тем, чтобы она по заслугам осудила дух того, кто покусится на ее стелу. И наконец, Салах, сын Барика, сына Хора– сицилианца, также обращается к Тиннит, чтобы она прокляла каждого, кто украдет ее стелу.
ПОДНОШЕНИЯ И РИТУАЛЫ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ
Один из самых интересных аспектов пунической религии заключался в том, что подношения осуществлялись в соответствии с определенной кодификацией, которую называли тарифами пожертвований (b’t). Множество надписей, часть из которых дошла до нас фрагментарно, входит в эту категорию текстов. Одна из них, наиболее хорошо сохранившаяся, была вновь обнаружена в Марселе, что, кстати говоря, привело к тому, что были выдвинуты весьма смелые гипотезы по поводу присутствия карфагенян в устье Роны. На самом деле надпись была впервые найдена в Карфагене, о чем ясно говорится в ее тексте, в котором упоминается храм Баал Сафона. В XIX столетии она была привезена в фокейский город, где и была утеряна. Тарифы пожертвований определяют в зависимости от животного, которого приносят в жертву, и природы жертвоприношения, размера платы, причитающейся жрецам, которую жертвователи обязаны уплатить либо в индивидуальном порядке, либо в виде поступления от семьи, ассоциации и т.д. В этих текстах детально описываются типы жертвоприношений или пожертвований, хотя в них не говорится ни слова о ритуалах, их сопровождающих. В них также не сообщается, чем были обусловлены эти жертвоприношения. Не считая тарифов, о типах жертвоприношений мы можем судить по изображениям и текстам на вотивных стелах. Всего их насчитывается три: молкбаал, молкомор и молкадом. Мы еще вернемся к ним в силу существования их связи с жертвоприношением детей (см. Тофет и Молох).
Три среди множества жертвоприношений, упоминаемых в тарифах, нам хорошо известны. Два первых называются К11 и sw’t. При их проведении разрешалось принести в жертву любое животное, за исключением птиц. Жертвователь, баал зуббах (B’l zbh – буквально «распорядитель

Сцена жертвоприношения, изображенная на вотивной стеле из тофета Карфагена, III-IIвв. до н.э.
церемонии», то есть лицо, в чьих интересах осуществлялось жертвоприношение), не имел права ни на одну из частей жертвы и был обязан, помимо этого, уплатить 5 шекелей и 2 зора, если речь шла о животном небольшого размера (см. Система мер и весов, гл. IV), и вплоть до 10 шекелей серебром, если речь шла о быке. Жертвоприношение типа sw’t считалось более престижным, хотя божеству в этом случае ничего не доставалось. Жертвенное животное делилось между жертвователем и жрецами, и, как нам кажется, именно первый получал большую часть, поскольку в одном из тарифов указывается, что только шку-
pa зверя отходила жрецу. Упоминание о третьем типе жертвоприношений, Sim kll, встречается только в тарифе из Марселя. При его проведении принимались любые животные, включая и птиц. Жрецы получали компенсацию в денежном выражении, но не имели права ни на одну из частей животного. В случае если жертвенное животное относилось к разряду рогатого скота, жертвователь также не мог присвоить себе ни одну из его частей. Ему позволялось забирать только мясо птицы.
В жертвенных тарифах шла речь не только о жертвоприношениях, но и о подношениях. В них упоминается о подношениях в дар выпеченных изделий (пирогов, печенья вроде мучных лепешек на растительном масле), ранних овощей, молока, растительного масла. Наряду с богами пунийцы преподносили в дар покойникам самые разные вещи: ладан, ароматические масла, фрукты (настоящие или их муляжи из обожженной глины), святилища в миниатюре, выполненные из глины или серебра, троны, каменные вотив– ные корабли, якоря, кубки и чаши, статуи или статуэтки, оружие, бритвы и т.д.
Что касается обрядов, то наши знания о них весьма ограничены. И только изображения на вотивных стелах, дополняющие эпиграфические данные, дают нам некоторое представление о том, как они происходили. Перед жертвоприношением животное (быки, бараны, овцы), разумеется, украшалось (очищалось от грязи, на него вешали гирлянды и т.д.). Затем в сопровождении торжественной процессии, в которую входили жрец, приносящий животное в жертву, его помощники, несущие орудия убийства, а также жертвователь (баал зубах) подводили его к алтарю. По всей вероятности, процессию сопровождали музыканты. Затем жрец выпускал из животного кровь, отрезал ему голову и клал ее на алтарь. В некоторых случаях часть туши животного, предназначавшаяся божеству, сжигалась на алтаре. Кусочки ладана, молоко или масло иногда дополняли подношение. Оставшаяся часть туши животного делилась между жрецами и жертвователем. По окончании церемонии жертвователь воздвигал стелу в ознаменование «торжественного и благословенного дня» (Bym n’m wym brk), о чем упоминается в некоторых надписях.
РЕЛИГИОЗНЫЕ АССОЦИАЦИИ
Религиозные ассоциации были широко представлены в финикийском и пуническом мирах. На финикийском и пуническом языках, равно как и на иврите, они назывались марзах (Mrzh), что означает «место сбора». В тарифе из Марселя упоминается марзах Илим (Mrzh Чт), то есть религиозная ассоциация какого-то конкретного божества. Нам почти ничего не известно об их деятельности, за исключением того, как проводились празднования по случаю жертвоприношений и как осуществлялась организация пиров.
СВЯТИЛИЩА И ХРАМЫ
Термином «святилище» определяется пространство, считающееся священным и предназначенное для отправления культа того или иного божества. Оно могло быть оборудовано различ

План первого варианта пригородного святилища Финиссут в Тунисе; в центре двора, окруженного портиком, находится часовня, III-IIвв. до н.э.
ными культовыми (алтарь, часовня или храм) и другими, не имеющими религиозного назначения сооружениями (мастерские, емкости для воды, жилые помещения и т.д.). А под храмом понимали отдельно построенное здание.
В пуническом мире святилища могли размещаться в самых разных местах. Они могли органично вписываться в структуру города (Мотия, Керкуан), иногда они находились за его пределами (храм Тас-Силг на Мальте), обозначая его границы (пригородные святилища Цида в Анта– се и Финиссут в Тунисе). Наконец, их обустраивали в пещерах, выходящих непосредственно на море (святилища в скалах Гротта Реджина возле Палермо и Куэва д’эс Киерам в Ибице). Если архитектурные элементы и элементы декора претерпевали со временем изменения, святилищам

План святилища в Керкуане (Тунис), расположенного в черте города (первая половина III в до н.э.)
1 – фронтальные пилястры; 2 – преддверие; 4 – вестибюль;
5 – зал со скамьями; 6 – двор, где проводились культовые ритуа лы; 7 - алтарь; 8 – комнаты разного назначения, предназначенные для обслуживания храма; 9 – печь;
10– сушилка; 11 – лаборатория; 12– помещение для приготовления теста; 13– помещение для складирования глины; 14-малый двор для проведения культовых ритуалов; 15 – тайник, устроенный в более поздний период;
16– колодцы; 17 – место хранения культовых лепешек;
18– стена из необожженного кирпича; 19-дом жреца;
20 – подставки для предметов, использовавшихся в ритуальных целях
и храмам, построенным в соответствии с семитскими традициями в Северной Африке, было суждено на протяжении столетий сохранять свой первозданный облик.
Характерной чертой типового святилища был двор под открытым небом, куда входили через вестибюль, украшенный пилястрами. В центре двора располагались алтарь и часовня – микдаш (MqdS). Внутри часовни устанавливали маленькую статую культового божества из драгоценного металла, а также священные предметы и изделия, его сопровождающие (вазы, кубки). В этих святых местах всегда копали колодцы и оборудовали их большими емкостями для воды, то есть бассейнами. В финикийской, а затем и пунической религии воде придавалось первостепенное значение. Напомним, что в храме в Китионе среди прочих служащих был и ответственный за водоснабжение (баал майим – В’1 Муш).
В городском святилище в Керкуане, разрушенном в середине III века, имеется множество сооружений и построек, характерных для святилищ, возведенных в соответствии с семитскими традициями; в нем имеются: вестибюль, двор под открытым небом, алтарь, часовня, колодцы. Кроме того, в нем были дома, где проживали служители культа, или мастерские по изготовлению статуэток.
Что касается храмов, то все они, как правило, возводились по модели трехчастного храма Соломона, описанного в Ветхом Завете (Третья книга Царств. 6—7). Продолговатой формы, он состоял из вестибюля, культового помещения и Святая святых [18], расположенных анфиладой. Вход был

Реконструкция фасада храма на улице Шаббат в Карфагене, начало II вв. до н. э.
ориентирован на восток и украшен с боков колоннами или пилястрами, а перед ним размещалась широкая паперть. Пунический мир оставил нам некоторое количество зданий, построенных по этой модели. На Сардинии, в Монте Сираи и в Фаросе были обнаружены трехсторонние структуры, восходящие к архаической эпохе. В ходе раскопок, проведенных в XX столетии в Карфагене, также были обнаружены два здания этого типа, датируемые эллинистической эпохой. Первое находилось в квартале Саламбо, поблизости от тофета, а второе – недалеко от холма, современное название которого Сиди бу Саид. И наконец, храм на улице Шаббат относится, видимо, к той же типологии зданий, даже если в результате обнаружения немецкими археологами некоторых архитектурных элементов (дорические капители большого формата) может сложиться впечатление, что фасады возводились в типично греческом стиле.
На самом деле проникновение в культовые сооружения элементов, чуждых семитской культуре, было довольно распространенным явлением при условии, что эти нововведения не помешают ходу литургии. Впечатляющим примером этого является храм Аштарт в Тас-Силг (на Мальте).

План храма в Тас-Силг, посвященного Агитпарт (Мальта, VIII-VIIвв. до н.э.).
Entree – вход; seuil sacrificiel – порог (видимо, возвышение) жертвенника
При возведении этого храма, расположенного на холме, выходящем на бухту Марсакслокк и действующего начиная с VIII столетия, было использовано автохтонное строение, относящееся к концу III тысячелетия, представлявшее, несмотря на закругленную планировку его стен, то преимущество, что было трехчастным.
ТОФЕТ И МОЛОХ
Сочетая черты некрополя (весьма, кстати говоря, специфические) и святилища, тофет являлся одним из самых характерных пунических сооружений. Удивительно, что единственные сохранившиеся образцы этого типа сооружений сконцентрированы в Центральном Средиземноморье (Тунис, на востоке Алжира, на Сицилии и Сардинии). В результате проведенных до настоящего времени исследований так и не удалось обнаружить следов их присутствия ни на Востоке, ни в Испании, ни в Марокко. Только в 1919 году Ж.И.С. Уитейкер, владелец острова Мотии, расположенного возле западной оконечности Сицилии, и исследователь его недр, обнаружил поля, уставленные стелами, под которыми находились урны с останками совсем маленьких детей и животных. Он был первым, обнаружившим связь между их прахом и жертвоприношениями детей, описанными литературными источниками. Первые исследователи и историки пунического мира, находясь под впечатлением произведений Диодора Сицилийского, с одной стороны, и библейскими текстами – с другой, поспешили назвать поля этого типа тофетами. Термин не является финикийским, он был заимствован из иврита, в частности из Ветхого Завета, в котором этим словом обозначается место, расположенное недалеко от Иерусалима, в долине Енном (Геенном, откуда происходит геенна (огненная), по-арабски гаханнам). Как нам известно из Четвертой книги Царств (22, 10), именно в этом месте детей обоих полов проводили через огонь.
Тофет в Карфагене был найден двумя годами позже благодаря проницательности двух любителей древности, один из которых был инспектором полиции. Их звали Франсуа Икар и Поль Жи– елли. Обоих приятелей заинтриговал необыкновенно оригинальный предмет, предложенный им знакомым перекупщиком. Это была бахромчатая
стела, изображающая взрослого человека в профиль, одетого в прозрачные одежды. Его правая рука была согнута в молитвенном жесте, а в левой руке он держал младенца. Для образованных любителей древностей такая сцена воплощала собой истинное назначение тофетов. И тогда они решили устроить слежку за перекупщиком, и однажды ночью в декабре 1921 года они застали его в окружении нескольких рабочих в тот момент, когда они извлекали из земли стелы в местечке, расположенном недалеко от прямоугольной лагуны Карфагена (торговый порт). И уже со следующего года здесь начали проводить регулярные раскопки, которые осуществлялись разными группами археологов вплоть до 70-х годов прошлого столетия. Но, казалось, проклятие нависло над тофетом Карфагена: начиная с момента его обнаружения, не было найдено ни одного примечательного предмета. Но, несмотря на это, на протяжении десятилетий велись точечные исследования: изучались урны, костные останки, типология и иконография стел, а также эпиграфика, что позволило расширить круг наших знаний относительно пространства этого типа и обрядов, в нем проводимых.
Тофет состоит из множества пластов (стратов) вотивных ансамблей. В каждом из них имеется урна из обожженной глины, в которой содержатся обгоревшие кости и пепел, иногда дополняемые украшениями или амулетами. В зависимости от периодов каждый слой обозначался галькой, полуколонной или стелой. На этих стелах, по крайней мере на самых поздних из них, имелись надписи, начинающиеся с канонической формулировки: «Госпоже Тиннит, Лику Баала, Господу
Баал Хаммону» (см. Надписи, гл. VII). Судя по эпиграфическим данным, это пространство было доступно лицам всех сословий (рабам, гражданам) вне зависимости от их происхождения (ливийцам, грекам или итальянцам). В текстах упоминаются часовни, посвященные различным божествам, что, принимая во внимание вотивный, а не погребальный характер посвящений, исключает сведение этого места к простому некрополю для захоронения детей и наводит на мысль о том, что здесь проводили различные религиозные церемонии.
Начиная с 20-х годов прошлого столетия исследователи, ведущие раскопки в этом месте, выявили стратиграфическое чередование, определившее четыре периода захоронений в тофете. С тех самых пор порядок чередования пластов не претерпел сколь-нибудь значительных изменений:
Танит I (около 800 года – начало VII века);
Танит Па (начало VII – конец V века);
Танит ИЬ (конец V – конец IV века);
Танит III (конец IV века – 146 год).
Остеологические исследования останков из тофетов в Карфагене, в Суссе (Тунис), в Фаросе (Сардиния) и Мотии (Сицилия) позволили сделать заключения относительно лиц, погребенных в тофетах. Наряду с останками очень маленьких детей были обнаружены кости животных (ягнят, коз и козлят, телят, собак, кошек и даже обезьяны!) и иногда птиц (дроздов и т.д.), сложенных вперемешку с человеческими костями. Самый старший ребенок, захороненный в урнах архаи-

Схематическая стратиграфия тофета в Карфагене
ческого периода из тофета в Карфагене, имел всего лишь четыре-пять месяцев от роду. В урнах следующего периода были выявлены останки ребенка 12 лет, что может восприниматься как исключительное явление. Было также отмечено, что в одной урне могли одновременно находиться кости нескольких детей. Другими исследованиями, проведенными в институте судебной и социальной медицины в Лилле, было выявлено, что большая часть субъектов имела возраст от пяти месяцев внутриутробной жизни до нескольких недель после рождения. И, таким образом, ученые пришли к выводу, что тофет был местом
погребения мертворожденных детей и детей, умерших вскоре после появления на свет. Но как же в таком случае быть с печально знаменитыми жертвоприношениями детей, которые, как полагают, происходили именно в тофете?
В коллективном бессознательном понятие «Молох» систематически ассоциируется с человеческими жертвоприношениями, вошедшими в нашу жизнь благодаря великим образам, созданным Флобером. Это слово, которое графически выглядит точно так же, как и титул царя (mlk, произносительная норма – милк, хотя озвучивается как «молк»), обозначает в религиозном контексте одну из категорий жертвоприношений. Дошедшие до наших дней надписи на стелах Карфагена свидетельствуют о том, что речь идет действительно о жертвоприношениях, которых насчитывается, по меньшей мере, три типа: молк– баал (mlkb’l), молкомор, существующий и в латинской транскрипции как молхомор – molchomor (mlk’mr), и molkadom b§rm btm (mlk’ dm bsrm btm), иногда встречающийся в сокращенном варианте: молкадом или bsrm btm. На протяжении более столетия многие исследователи пытались примирить классические источники с пуническими надписями, выискивая в них смысл, соответствующий общепринятому мнению о существовании обычая принесения в жертву детей. Однако ничто нас в этом не убеждает. Мы уже упоминали, что существует вероятность сходства между пуническими терминами «молк» и «молкбаал» и латинским выражением intravit sub iugum, что означает «вступление в период пребывания под игом»; речь идет о ритуале освящения, ознаменованного (или нет) принесением в жертву скорее всего животного (см. Обряды, знаменующие наступление нового периода жизни, гл. V). Что касается второго типа жертвоприношения, «молкомор», то у нас не вызывает сомнения тот факт, что в этом случае в жертву приносили ягненка. Остается третий, самый сложный для понимания тип жертвоприношений. Филологами было представлено множество частичных вариантов перевода, среди которых вариант «кровавое жертвоприношение взамен ребенка» нам кажется предпочтительнее. Этот перевод соответствует ритуальным латинским формулировкам, выгравированным на стелах НТауса в Алжире. В некоторых из них говорилось, что жертвоприношение было совершено anima pro anima, sanguine pro sanguine, vita pro vita, то есть «дух за дух, кровь за кровь, жизнь за жизнь», а в некоторых упоминался объект жертвоприношения: agnum pro vicario, то есть «ягненок в качестве замещающего объекта». Таким образом, все вышесказанное подтверждает существование заместительных жертвоприношений, но никак не принесение в жертву детей. Даже несмотря на некоторую натянутость, предложенный вариант перевода для mlk ‘dm bSrm btm не может служить доказательством факта жертвоприношения детей. И поэтому, ссылаясь на объективные данные, которыми располагаем, мы не можем утверждать, что хотя бы один из этих ритуалов соотносился бы с человеческими жертвами. Факт существования человеческих жертвоприношений в отдельный период развития финикийской и пунической истории у нас не вызывает сомнения – греки и римляне также совершали подобные обряды. Но согласиться с постоянным, систематическим и массовым ха-

Общий вид тофета в Фаросе (Сардиния), VII-II вв. до н.э.
рактером этих ритуалов в том виде, в каком их описывали классические авторы, это означало бы оказывать больше доверия внешним источникам, чем конкретным материальным данным пунической археологии.
МАГИЯ И СУЕВЕРИЯ
Начиная от рождения и до смерти каждый карфагенянин ощущал присутствие магических сил, которые могли быть благотворными или пагубными. И, следовательно, он расходовал большое количество энергии для того, чтобы заручиться поддержкой одних и попытаться защититься от других. До самой могилы маски, амулеты и бритвы обеспечивали ему эту защиту. И именно в этой сфере египетское влияние на карфагенян оказалось самым ощутимым. Кресты с ручками, «Око Гора», скарабеи (см. Глиптика, гл. VIII) или фигурки с изображением Беса или Птаха-патека из стеклянной массы или фаянса неотъемлемой частью входили в мир, окружающий карфагенянина. Подвешиваемые под одежду или на шею, они защищали своих владельцев от пагубных влияний и событий, которые могли на них наслать их завистники и враги.
Но если амулеты оказывались недейственными, если желание избавиться от своего соперника оказывалось неистребимым, тогда карфагенянин отправлялся к чародеям и магам. Среди членов сообщества магов египтяне, как нам кажется, пользовались самой высокой репутацией. Они умели, по крайней мере их клиенты были в этом уверены, изгонять зло и отводить беду и сглаз. В случае необходимости они составляли специальные защитные тексты (заговоры, на папирусе или на листе драгоценного металла) или тексты с проклятиями (на папирусе или на свинцовой пластине), которые вставляли в специальные египетские футляры для амулетов в виде головы Сехмет или ястреба Гора. Часть такого папируса, содержащая заклинания пунических колдунов «Истребите нашего врага! Навлеките на него беды! Растопчите его!» и т.п. была найдена на Мальте.
VII ЛИТЕРАТУРА
Большая часть пунических литературных текстов, написанных на скоропортящихся материалах (папирус, кожа), погибла в огне карфагенских пожаров. По словам Плиния Старшего, все то, что не было истреблено пламенем, было по приказу римского Сената роздано нумидийским принцам, союзникам Сципиона Эмилиана. Впоследствии часть этих сокровищ принадлежала Ююбе И, царю Мавритании, который владел латинским, греческим и пуническим языками (Плутарх. Антоний. 36; Плиний Старший. Естественная история. V, 16). А через много лет Св. Авгу-

Греческая надпись на одной из стел в Карфагене
стин напомнил о том, какое значение имели все эти libri punici, то есть пунические книги (Послание. 17, 2). В связи с тем, что они не были переписаны и переведены, их постигла жалкая участь: эти произведения исчезли. И в результате сохранились только те тексты, которым повезло и которые были транскрибированы, переписаны или переведены на греческий язык. Мы имеем в виду «Странствия Ганнона», «Клятву Ганнибала», некоторые отрывки из трудов Магона по сельскому хозяйству и пунические отрывки в латинской транскрипции из «Пунийца» Плавта. Но, разумеется, пуническая литература не ограничивается только этими произведениями.
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖАНРЫ
Во многих античных источниках сообщается о наличии в библиотеках Тира и Карфагена хроник, анналов, мифологических поэм, трактатов по философии, праву, истории, географии и сельскому хозяйству. Так, Аристотель, несомненно, пользовался пунической документацией по государственному праву, когда составлял свое знаменитое описание карфагенской конституции. Точно так же обстояло дело и с документами по международному праву. И, разумеется, договоры, пакты, соглашения, заключенные Карфагеном, хранились в архивах и были зарегистрированы и прокомментированы, о чем свидетельствуют сотни печатей, обнаруженных в ходе раскопок, проведенных немецкими археологами на улице Ибн Шаббат в Карфагене.
Но именно в области философии, примером чему является финикиец Зенон из Китиона,
rw1
основатель школы стоиков, творчество карфагенян было наиболее продуктивным. Ямвлих (О пифагоровой жизни. 27, 128; 36, 267) сообщает нам имена многих карфагенских философов– пифагорейцев: Мильтиад, Анф, Годий, Леокрит. Диоген Лаэртский (VII, 1, 37; 3, 165), в свою очередь, находился под влиянием трудов Герилла– карфагенянина, ученика Зенона из Китиона, который, по всей видимости, написал множество работ по философии на греческом языке. Но самым знаменитым карфагенским философом был, разумеется, Клитомах (настоящее имя Гасдру– бал), находившийся в Афинах во время разрушения его родного города. Он составил послание к своим соплеменникам с выражением соболезнования.
Карфаген располагал своими собственными хрониками и анналами, взяв за образец архивы Тира, хранившиеся в храме Милькарта, по которым консультировался Геродот. Саллюстий (Югурта. 17, 7) сообщает, что Гиемпсал, сын Гауды и отец Юбы I, нумидийский царь, правивший в I веке, бережно хранил (а может быть, и написал) историю своей страны, составленную на пуническом языке.
Наряду со «Странствиями Ганнона», которые дошли до наших дней благодаря их переводу на греческий язык и которые, как говорят, находились в храме Баал Хаммона в Карфагене, где ими мог воспользоваться любой желающий, Со– лин (XXXII) и Аммиан Марцеллин (XXII, 15, 8) упоминают о пунических трудах по географии. Очень может быть, что карфагенские географы собирали и записывали сведения, которые им сообщали по возвращении из путешествий торгов
цы и первооткрыватели, чтобы иметь под рукой справочники по судоходству. Эта имеющая большое значение деятельность финансировалась государством, которое, кстати говоря, окружало себя всяческими предосторожностями, чтобы сохранить свое превосходство над другими нациями. И это подтверждается фактом добровольного потопления своего корабля одним адмиралом ради того, чтобы сохранить в тайне от римских моряков маршрут передвижения (см. Путешествия, гл. IX).
АЛФАВИТ
В течение второй половины II тысячелетия семиты, проживающие на пуническом западе, разработали поистине революционную систему письменности – алфавит. Тогда как для других систем (идеографических, фонографических) требовались сотни, если не тысячи, знаков для графического выражения языка, алфавит использовал их не более тридцати. Хотя нам неизвестны все этапы этого нововведения и его распространения на Ближнем Востоке, а затем на остальной части Средиземноморского бассейна, очень может быть, что первый алфавит зародился приблизительно в XVI веке на Синайском полуострове. В XIV—XIII веках в Угарите использовали алфавит, состоящий из 30 клинообразных знаков (cuneiforms, от латинского слова cuneus – гвоздь). Впоследствии финикийцы уменьшили количество знаков до 22, введя в алфавит графические символы. Они очень быстро передали его своим соседям евреям и арамейцам, а затем и грекам в конце IX столетия. Эти последние усо-
вершенствовали его применительно к особенностям своего языка, передав его, в свою очередь, италийским народам (этрускам и латинянам). Что касается финикийских колонистов, поселившихся в западном бассейне Средиземноморья, в частности в Карфагене, то в их среде с VI века начал развиваться специфический диалект, получивший название пунического языка, которому были свойственны некоторые особенности графического выражения. Незадолго до падения Карфагена разговорный финикийский язык и финикийская скоропись распространились на бывших пунических территориях. Названный неопуническим, этот язык просуществовал до расцвета римской имперской эпохи (III век нашей эры).
И только в 1758 году, благодаря усилиям аббата Жака Бартелеми, произошла расшифровка финикийского языка. Двуязычная надпись, составленная на греческом и финикийском языках на полуколонне, обнаруженной на Мальте, стала в каком-то смысле его Розеттским камнем [19].
В наше время известно около 7000 надписей на пуническом и неопуническом языках. Большая часть из них – это вотивные тексты, обнаруженные в тофетах. Но если расшифровка «классиче-

Полуколонна с двуязычной надписью (Мальта ,, Ив. до н.э.)
ского» пунического языка не представляет трудностей, то неопуническая скоропись не всегда понятна в силу графического сходства некоторых букв, например В, D, R. Отдельные короткие пунические тексты были расшифрованы, поскольку дошли до нас в греческой и латинской транскрипциях. Самыми значимыми оказались латинско-пунические тексты. Речь идет о надписях на пуническом языке, но составленных при

Финикийский , пунический и неопунический алфавиты
помощи латинского алфавита посредством внесения в него некоторых изменений, в частности для обозначения звуков, не имеющих аналогов в латинском алфавите. Эти надписи, появившиеся двумя веками спустя после падения Карфагена, свидетельствуют о жизнеспособности пунического языка в Африке и главным образом в Триполи– тании, что подтверждается также классическими источниками. Так, Апулей (около 125—180 годов нашей эры) женился на богатой вдове из Оеа (Триполи) и утверждал, что его пасынок владел только пуническим языком (Апология. 98). А в «Жизнеописаниях Августов» говорится, что императору Септимию Северу (193—211 годы нашей

Финикийская система нумерации Unites – цифры от 1 до 9; dizaine – числа, кратные дюжинам; vingtaine – числа, кратные двадцати
эры) пришлось испытать глубокое чувство стыда, когда обнаружилось, что его сестра, приехавшая из их родного города Лептис, едва могла произнести несколько слов на латинском языке (Жизнеописания Августов. XXVI, 7).
В официальных надписях числа писались словами и полностью, в некоторых случаях они дополнялись числами в цифровом выражении. Прямые черточки, сгруппированные по три, обозначали цифры от 1 до 9. Для чисел, кратных 12 и 20, 100 и 1000, использовались отдельные знаки.
ЯЗЫК
Пунический язык, как и его материнский язык, финикийский, принадлежал к северо-западной группе семитских языков, куда входили также иврит и арамейский языки. Семитские языки имеют одну особенность, которая заключается в том, что их консонантные корни служат основой для формирования словарного состава. В отличие, например, от индоевропейских языков, в них всегда легко выделить корни (так, КТВ = писать), точное значение и грамматические категории
формируются путем присоединения гласных и некоторых аффиксов, например: KiTaB – книга; KaTiB – писатель; КаТаВа – он писал; шаКТаВа – библиотека и т.д.
В морфологии пунического языка и иврита много общего. В обоих языках имеется неопределенное местоимение (h’ – множественное число, hmt – единственное число 3-го лица). Притяжательные и дополнительные местоимения образуются путем прибавления суффиксов к существительным и глаголам (-‘ – единственное число и m и пт – соответственно множественное число мужского и женского родов). Относительным местоимением является ‘s, а указательное место– имение единственного числа – st (одна форма для мужского и женского родов) и ‘1 – множественное число. Определителем существительного является артикль h– (ha). Вопросительное местоимение m’ (mu) – кто.







