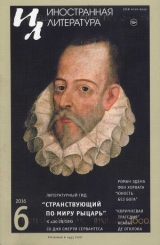
Текст книги "Юность без Бога"
Автор книги: Эдён Хорват
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
Рыба
– Итак, – продолжает допрашивать Еву судья, – ты с камнем в руке преследовала Н.?
– Да.
– И хотела его убить?
– Но я этого не сделала.
– А как было?
– Как я сказала уже, появился незнакомый парень, толкнул меня на землю и погнался с этим камнем за Н.
– Как этот незнакомый парень выглядел?
– Все было так быстро, я не знаю…
– Ах, это «большое неизвестное»! – язвит обвинитель.
– А ты бы смогла его узнать? – не ведется на удочку судья.
– Наверное. Помню только, как он смотрит круглыми прозрачными глазами. Как рыба.
Это слово для меня как удар.
Вскочив, я вскрикиваю: «Рыба?!»
– Что это вы? – спрашивает у меня судья.
Удивлены все.
И правда, что это я?
Вспомнился череп со светящимися глазками.
«Наступают холодные времена, – звучит у меня в ушах голос Юлия Цезаря. – Эпоха Рыб. И душа человеческая теперь застынет, как лик Рыбы».
Два круглых прозрачных глаза, не отрываясь, смотрят на меня. Без выражения, без блеска.
Это Т. Он стоит над открытой могилой.
Так же он стоял и улыбался в лагере, тихо, высокомерно и насмешливо.
Уже тогда знал, что это я вскрыл шкатулку?
И что было в дневнике, тоже знал?
Подсмотрел?
Тайком крался за Ц. и за Н.?
Улыбается странной, застывшей улыбкой.
Я замираю.
А судья меня опять спрашивает:
– Что с вами?
Сказать ему, что я подумал о Т.?
Чушь!
С чего бы Т. вдруг убивать Н.? Тут нет мотива…
И я говорю:
– Простите, господин судья, я немного нервничаю.
– Это и понятно! – усмехается прокурор.
Я выхожу из зала.
Ясно, теперь они должны признать Ц. невиновным и выдвинуть обвинение против девочки. И так же ясно, что всех это устроит.
Завтра-послезавтра будет выдвинуто обвинение и против меня.
За пособничество воровству и введение суда в заблуждение.
От преподавания я буду отстранен и лишусь своего куска хлеба.
Но это меня не беспокоит.
На что я буду жить?
Забавно, но мне плевать.
На ум приходит бар, где мы тогда встретились с Юлием Цезарем.
Ведь там недорого.
Но я не напиваюсь.
Иду домой и ложусь спать.
Я больше не боюсь своей комнаты. Он теперь живет и у меня?
Не клюет
Точно, в утреннем выпуске все так и есть.
За введение суда в заблуждение и пособничество воровству, принимая во внимание смягчающие обстоятельства, Ц. приговорен к непродолжительному тюремному заключению, а вот против девушки прокуратура выдвинула обвинение в преднамеренном убийстве.
Тот новый суд должен состояться через три месяца.
Это падшее создание продолжало упорно отстаивать свою невиновность, – сообщается в репортаже из зала суда, – но ни у кого из присутствующих ее слезы не вызвали доверия. Как известно «Единожды солгав, солжет и дважды!» Даже сам обвиняемый Ц. не протянул ей руки, когда, по окончании судебного разбирательства, она вырывалась у надзирательницы и кинулась к нему, моля простить ее за то, что никогда его любила.
Ага, вот он ее и возненавидел.
Теперь она остается совсем одна.
Все так же плачет?
Не плачь, я тебе верю.
Погоди, выловлю я эту рыбу.
Вот только как?
Надо мне с ним встретиться, и, чем скорее, тем лучше.
Я уже получил с утренней почтой уведомление из Министерства просвещения, чтобы не вздумал переступать порога гимназии до тех пор, пока буду находиться под следствием.
Знаю и не посмею, а не то приговорят немедленно и уж никаких смягчающих обстоятельств во внимание не примут.
Но сейчас меня тревожит не это.
Нужно поймать рыбу, чтобы девочка больше не плакала.
Моя хозяйка приносит завтрак и ведет себя робко. Вычитала в газетах про мои показания и всю шумиху вокруг процесса. Репортеры пишут: «Учитель – пособник воров». Один написал даже, что я был моральным убийцей.
Ни один не принял мою сторону.
Хорошее времечко для господина булочника Н., если его только черти еще не прибрали!
Стоя в полдень у входа в гимназию, порога которой я теперь не смею переступать, я жду окончания занятий.
Вот наконец школьники потянулись домой.
И кое-кто из моих коллег.
Им меня не видно.
Вот, наконец, показывается Т.
Идет в одиночку, сворачивает направо.
Я неторопливо выхожу навстречу.
Вот он заметил меня и оторопел.
Потом здоровается, улыбается.
– Как хорошо, что я тебя встретил, – говорю я ему. – Мне надо с тобой кое о чем поговорить.
– Пожалуйста! – учтиво кланяется он.
– Только тут на улице слишком шумно. Пошли, зайдем в кондитерскую. Я угощу тебя мороженым.
Сидим в кондитерской. Рыба заказала себе землянично-лимонное.
Отковыривает ложкой мороженое.
Он ведь даже когда жрет, все равно улыбается, констатирую я.
И вдруг, так, чтобы застать его врасплох, роняю, как будто между прочим:
– Мне нужно поговорить с тобой про этот суд по поводу убийства.
Он продолжает спокойно работать ложкой.
– Нравится?
– Да.
Молчим.
– Скажи, – снова начинаю я, – ты веришь, что эта девчонка убила Н.?
– Да.
– Ты не веришь, что это сделал какой-то незнакомый парень?
– Нет. Это она выдумала, чтобы выкрутиться.
Опять молчим.
Вдруг он откладывает ложку и смотрит на меня с подозрением:
– Что вы от меня, собственно, хотите, господин учитель?!
– Я думал, – говорю я медленно, глядя в его круглые глаза, – может быть, ты догадываешься, кто этот незнакомый парень.
– С чего бы?
И тут я рискую соврать:
– Потому что я знаю, что ты всегда все везде высматриваешь.
– Да, – отзывается он спокойно, – мне много чего пришлось наблюдать.
И он снова улыбается.
Знал ли он, когда я вскрыл шкатулку?
И я спрашиваю:
– Ты читал этот дневник?
Он пристально смотрит на меня:
– Нет. Но я видел, как вы, господин учитель, крались из лагеря и как подсматривали за той девчонкой и Ц.
Меня прошибает озноб. Он за мной наблюдал.
– Вы еще тогда мне в лицо попали. Потому что я прямо за вами стоял. Вы так ужасно напугались, а вот мне, господин учитель, было совсем не страшно.
Спокойно ковыряет свое мороженое.
И вдруг до меня доходит, что он вовсе не наслаждается моим смятением. Только время от времени бросает на меня подстерегающий взгляд, как будто что-то регистрирует.
Забавно, мне вдруг представляется охотник. Охотник, который хладнокровно прицеливается и стреляет только тогда, когда до конца уверен, что не промахнется.
Не испытывая при этом радости.
Но зачем он тогда охотится? Зачем, зачем?
– Вы вообще с Н. были в нормальных отношениях?
– Да, мы друг к другу хорошо относились.
Как мне хотелось бы его сейчас спросить:
– Так зачем же ты прикончил-то его? Зачем, зачем?
– Вы меня так расспрашиваете, господин учитель, – вдруг говорит он, – как будто это я его убил. Как будто я и есть тот незнакомый парень, хотя вы прекрасно знаете, что никому не известно, как он выглядел, да и был ли вообще. Даже девчонка помнит только, что у него были рыбьи глаза…
«А у тебя?» – думаю я.
– …А у меня глаза не рыбьи, у меня ясные глаза лани, так моя мама говорит и вообще все. А что вы улыбаетесь, господин учитель? Нет, это не у меня, скорее это у вас глаза рыбьи…
– У меня?
– Вы разве не знаете, какая у вас была в школе кличка? Неужели не слышали? Вас звали рыбой.
Он, улыбаясь, кивает мне головой:
– Потому что у вас ведь лицо всегда такое застывшее. Никогда не поймешь, о чем вы думаете, и вообще есть ли вам до чего дело. Мы еще часто говорили, господин учитель, он только все наблюдает, если кого-нибудь на улице, скажем, собьет машина – тогда он будет стоять и смотреть на сбитого, лишь бы точно знать, что он уже не встанет…
Вдруг он останавливается, как будто проболтался и бросает на меня испуганный взгляд. Правда, всего на долю секунды.
Почему?
Ага, вроде бы уже попался на наживку, но сорвался, сообразил.
Ты уже клевал, но заметил леску и теперь обратно уплываешь в свое море.
Ты пока еще не попался, но уже себя выдал.
Погоди, уж я тебя выужу!
Он поднимается:
– Пора домой, меня ждут к обеду. Если опоздаю, будет большой скандал!
Благодарит за мороженое, уходит.
Я смотрю ему вслед, а в ушах моих стоит девичий плач.
Знамена
Проснувшись на следующий день, я помнил, что мне всю ночь что-то снилось. Но не помнил что. На дворе был праздник.
Праздновали день рождения Верховного плебея.
Весь город увешен флагами и транспарантами.
По улицам маршировали девушки в поисках пропавших летчиков, юноши, желающие всем неграм смерти, и родители, верящие вранью, написанному на транспарантах. А те, кто не верит, тоже идут в ногу со всеми, в одном строю. Полки бесхребетных под предводительством чокнутых. В едином порыве, каждым шагом и вздохом.
Они поют о птичке, щебечущей над могилой героя, и о солдате, отравленном удушливым газом, о черно-коричневых девушках, которым осталось жрать дома дерьмо, и о враге, которого, собственно говоря, нет.
Так славят лжецы и слабоумные день, когда родился Верховный плебей.
И вот, рассуждая так, я вдруг с некоторым удовлетворением констатирую, что и в моем окне вьется флажок.
Вчера вечером сам вывесил.
Кому жить с идиотами и бандитами, тот вынужден поступать по-бандитски и по-идиотски. С волками жить, по-волчьи выть. Не то конец тебе, со всеми потрохами.
Свой дом надо ознаменовать, даже если нет у тебя больше дома.
Когда характер становится не нужен, требуется только послушание, уходит правда, и на ее место приходит ложь.
Ложь, мать всех пороков.
Выше флаг!
Не до жиру, быть бы живу!
Об этом я и думал, пока вдруг до меня не дошло: а что это ты? Позабыл, что тебя уже отстранили от преподавания? Что не стал лжесвидетельствовать и сознался, что взломал шкатулку? Вывешивание флагов, идолопоклонство перед оберплебеем, ползание в пыли и вранье – теперь все это позади. Всё, потерял ты свой кусок хлеба!
Не забывай, ты ведь говорил с более высоким руководителем.
Ты все еще у себя дома, только этажом намного выше.
Ты живешь в другой долине, в иной обители. Смотри, как сжалась комната? И мебель, и шкаф, и зеркало?
Ты по-прежнему можешь посмотреться в зеркало, оно еще достаточно большое – конечно, конечно! Ты же просто человек, который хочет, чтобы у него был хорошо завязан галстук. Но посмотри теперь в окно.
Каким далеким все стало. Какими крошечными стали большие площади, какими бедными – богатые плебеи. Какими смешными.
Как полиняли знамена!
Там еще можно прочесть, о чем кричат транспаранты?
Нет.
Еще пока слышен громкоговоритель?
Еле-еле.
Девочке не нужно так громко плакать, чтобы заглушить его.
А она уже и не плачет.
Только тихонько всхлипывает.
Но ее плач перекрывает все.
Один из пятерых
Я как раз чищу зубы, когда ко мне заглядывает хозяйка.
– Там ученик, хочет с вами поговорить.
– Одну минуточку!
Хозяйка уходит, я натягиваю халат.
Ученик? Сразу вспоминаю о Т.
Халат я получил в подарок от родителей на Рождество. Они все твердили: «Ну как же так, нельзя же жить без халата».
Фиолетовый с зеленым. У моих родителей отсутствует чувство цвета.
Стучат.
Войдите!
Он заходит, кланяется.
Я не сразу узнаю его, а, ну да, конечно – это один из Б.
У меня в классе их пятеро, но этот Б. выделялся меньше всех. И чего ему надо? И как так вышло, что он не марширует со всеми?
– Господин учитель, – начинает он, – я все думал, а вдруг это важно, мне кажется, вам нужно сказать.
– Что?
– Эта история с компасом покоя мне не дает.
– Компас?
– Я тут вычитал в газете, что рядом с мертвым Н. нашли компас. Про который никто не знает, чей он…
– Да, и что?..
– Я знаю, кто этот компас потерял.
– Кто?
– Т.
– Т.?! – Я потрясен.
Ты опять поднимаешься на поверхность?
Высовываешь голову над темной водой, ты заметил сеть?
– Откуда ты знаешь, что это компас Т.?
– Потому что он его всюду искал, мы же с ним жили в одной палатке.
– Не хочешь же ты сказать, что Т. как-то связан с этим убийством?
Он молча смотрит в угол.
Да, именно это он и хотел сказать.
– По-твоему, он на это способен?
Он смотрит серьезно и удивленно:
– По-моему, каждый человек способен на все что угодно.
– Но не на убийство же?!
– Почему нет?
Он улыбается, но нет, насмешки на его лице я не замечаю.
Лицо скорее печально.
– А зачем бы ему убивать Н.? Должен же ведь быть мотив.
– Он всегда говорил, что Н. очень глупый.
– Но это же недостаточное основание.
– Это – нет. Но, видите ли, господин учитель, Т. же страшно любопытен, ему все хочется знать, как оно на самом деле, он мне как-то раз сказал, что с удовольствием бы посмотрел, как кто-нибудь умирает.
– Что?!
– Да, ему хочется увидеть, как это происходит. А еще он все придумывал, как бы ему посмотреть, как на свет появляется ребенок.
Я подхожу к окну, на какой-то момент потеряв дар речи. Там, на улице, все еще маршируют родители и дети.
И тут я вдруг соображаю – непонятно, как так, почему этот Б. тут, у меня?
– А ты, собственно, почему со всеми не маршируешь? Это ведь твой долг!
Он улыбается:
– А я сказался больным.
Наши взгляды пересекаются.
Мы понимаем друг друга?
– Я тебя не выдам, – говорю.
– Знаю.
Что это он такое знает?
– Не хочу маршировать, не могу больше выносить, чтобы мной командовали, когда на тебя каждый орет только потому, что на два года тебя старше. И потом, все эти нудные речи, все одно и то же, вся эта громогласная чушь!
Не могу сдержать улыбки.
– Надеюсь, это ты один в классе так думаешь?
– Да нет, нас уже четверо.
Четверо? Уже?
Когда они успели?
– Помните, господин учитель, вы сказали про негров, весной еще, перед самым лагерем? Тогда мы все подписались, что больше не хотим учиться у вас, но я-то так поступил только под давлением, потому что вы, конечно, были правы, на сто процентов, тогда по поводу негров. А потом я нашел еще троих, кто так же думает.
– И кто эти трое?
– Этого я сказать вам не могу. Запрещено нашим уставом.
– Уставом?
– Да, на самом деле мы организовали клуб. Теперь в него вступили еще двое, но они не из школы. Один ученик пекаря, а другой – посыльный.
– У вас клуб?
– Мы каждую неделю собираемся и читаем все, что запрещается.
– Ага!
А что говорил Юлий Цезарь?
Они тайком читают все, но только чтобы потом это высмеять.
Их идеал – насмешка. Холодные наступают времена.
И я спрашиваю у Б.:
– И вы там сидите все скопом в этом вашем клубе и все высмеиваете, так?
– Ого! Высмеивать у нас строго запрещается параграфом три. Есть такие, кто вечно все только высмеивает, но это не про нас. Мы встречаемся и говорим обо всем, что прочитали.
– И что?..
– И заодно обсуждаем, как на свете должно все быть.
Я слушаю внимательнее.
– Как должно быть?
Я смотрю на Б., а вспоминаю Ц.
Он сказал судье: «Господин учитель всегда говорит только про то, как должно быть на свете, а не про то, как на самом деле».
И вижу Т.
Как говорила на суде Ева?
«Н. упал, а тот незнакомый парень наклонился над ним и стал его рассматривать. Потом поволок его в канаву».
А что только что сказал Б.?
«Т. всегда хочет знать, как все на самом деле».
Для чего?
Только чтобы надо всем поиздеваться?
Да, холодные наступают времена…
– Вам, господин учитель, – опять слышу я голос Б., – во всем можно довериться. Я поэтому и пришел к вам с моими подозрениями, посоветоваться, что теперь делать.
– Почему именно ко мне?
– А мы вчера в клубе так все и решили, когда прочли ваши показания в газете, про шкатулку, что вы – единственный взрослый, которого мы знаем, кто любит правду.
В игру вступает клуб
Сегодня мы с Б. идем к следователю по особым делам. Дело в том, что вчера, из-за государственного праздника, участок быт закрыт.
Объясняю следователю, что Б. знает, кому может принадлежать потерянный компас, но он вежливо меня прерывает, дело с компасом уже прояснилось. Совершенно точно установлено, что этот компас был украден у бургомистра деревни, рядом с которой мы стояли лагерем. Возможно, его обронила девушка, а если и не она, то кто-то из ее банды, и, возможно даже раньше, совершенно случайно, проходя мимо будущего места преступления, поскольку находилось оно невдалеке от пещеры грабителей. Компас, мол, не играет больше никакой роли.
Итак, мы прощаемся, Б. явно разочарован.
«Больше не играет роли?» – думаю я.
Хм… А ведь без этого компаса этот Б. никогда бы ко мне не пришел.
Я ловлю себя на том, что теперь думаю иначе, не так, как раньше.
Всюду ищу взаимосвязи.
Нет ничего, что бы имело значение.
Я чувствую действие неуловимого закона…
На лестнице мы встречаем адвоката.
Он живо меня приветствует.
– Хотел уже благодарить вас письменно, – говорит он, – ведь только благодаря вашему беспощадному и бесстрашному признанию я сумел прояснить эту трагедию.
Он рассказывает, что Ц. решительно излечился от своей влюбленности и что у девушки были истерические судороги, и теперь она лежит в тюремной больнице.
– Бедняжка! – торопливо добавляет он и спешит прочь, «прояснять новые трагедии».
Я смотрю ему вслед.
– Жалко девочку, – раздается вдруг голос Б.
– Мне тоже.
Мы поднимаемся по лестнице.
– Нужно ей помочь, – говорит Б.
– Да, – говорю я и вспоминаю ее глаза.
И тихие озера в лесах моей родины.
Она в больнице.
И опять на нее набегают облака, облака с серебристой каемкой.
Разве она не кивнула мне, перед тем, как сказать правду? А что говорит Т.? Она убийца, просто хотела выкрутиться… Ненавижу Т.
Резко останавливаюсь.
– Правда, – спрашиваю Б., – что вы меня между собой называли Рыбой?
– Да нет! Это только Т. так сказал. У вас совсем другая кличка.
– Какая?
– Вас зовут Негр.
Он смеется, и я вместе с ним.
Мы поднимаемся по ступенькам.
Он опять становится серьезным.
– Господин учитель, – говорит, – вам не кажется, что это все-таки был Т., хотя компас который нашли, и не его?
Я опять останавливаюсь.
Ну и что мне сказать?
Нужно сказать: «Вероятно, может быть»?
И я говорю:
– Да. Мне, кажется, это все-таки был он.
Глаза у Б. загораются.
– Все-таки он! И мы его поймаем!
– Надо надеяться!
– Мы примем постановление, что наш клуб должен помочь девочке. По параграфу седьмому, мы все в клубе не только чтобы книжки читать, но чтобы потом еще так же жить.
Я спрашиваю:
– А какой у вас девиз?
– «За правду и справедливость»!
Он весь дрожит от жажды деятельности.
– Клуб будет следить за Т., за каждым его шагом и вздохом, днем и ночью, и ежедневно будет предоставлять мне отчет.
– Отлично, – говорю я и невольно улыбаюсь.
В детстве мы тоже играли в индейцев.
Только джунгли теперь другие. Теперь они тут, у нас.
Два письма
На следующее утро я получаю взволнованное письмо от родителей. Они в ужасе, что я потерял работу. Я, что же, о них не подумал, когда выложил историю со шкатулкой? И зачем я ее рассказал?
Нет, я о вас подумал. И о вас тоже.
Успокойтесь, голодать мы уж как-нибудь не будем!
«Мы всю ночь не спали, – пишет мама, – все думали о тебе!»
«И чем мы это заслужили?» – спрашивает отец.
Он мастер цеха на пенсии, а мне сейчас надо подумать о Боге.
И все-таки, мне кажется, он у вас не живет, хотя вы и ходите в церковь каждое воскресенье.
Сажусь писать родным.
«Милые родители, не волнуйтесь, ведь Бог же поможет нам…»
Останавливаюсь. В чем дело?
Но ведь они же знают, что я в Него не верю, и подумают: вот, теперь он пишет о Боге, потому что у него дела плохи.
Нет, не надо, чтобы кто-нибудь так думал!
Мне стыдно…
Я рву письмо.
У меня пока есть гордость!
И весь день потом хочу написать родителям.
Но не делаю этого.
Я начинаю снова и снова, но душа у меня не лежит вывести слово – «Бог».
Наступает вечер, и у себя в квартире мне становится жутко.
В ней так пусто.
Выхожу на улицу.
В кино?
Нет.
Иду в бар, где недорого.
Там встречаю Юлия Цезаря, он у них – завсегдатай.
И он мне искренне рад.
– Это с вашей стороны было так достойно рассказать обо всем, и о шкатулке, в высшей степени достойно. Я б не смог! Уважаю, уважаю!
Мы выпиваем и обсуждаем судебный процесс.
Я рассказываю про Рыбу…
Он выслушивает меня очень внимательно.
– Конечно, этот самый и есть Рыба, – замечает он. А потом улыбается и говорит: – Если я смогу быть вам чем-то полезен, я в вашем распоряжении, у меня ведь тоже есть связи…
Да, связи у него, безусловно, есть.
Наш разговор то и дело прерывают. Я вижу, с каким глубоким почтением приветствуют Юлия Цезаря, многие идут к нему за советом, как к мудрому и знающему человеку.
Все они – сорная трава.
Аве Цезарь, идущий на смерть, приветствует тебя!
Внезапно во мне просыпается тоска по растлению. Как бы мне хотелось иметь булавку для галстука с черепом, у которого зажигаются глаза!
– Смотрите – письмо! – окликает меня Цезарь. – Оно выпало у вас из кармана.
Ах да, письмо!
Цезарь в это время как раз разъясняет некоей фройляйн новые параграфы в законе об общественной морали.
А я думаю о Еве…
Как она будет выглядеть в возрасте этой фройляйн? Кто поможет ей?
Я сажусь за другой столик и пишу родителям: «Не волнуйтесь, ведь Бог нам поможет!»
И уж больше письмо не рву.
Или я написал им только потому, что напился?
Неважно!








