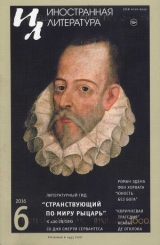
Текст книги "Юность без Бога"
Автор книги: Эдён Хорват
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
Вратарь
Когда я утром вернулся домой, хозяйка меня уже ждала.
– Там господин, – сказала она, – он вас уже двадцать минут ждет. Я усадила его в гостиной. Вы-то, где же были?
– У знакомых. Они живут за городом, а я опоздал на последний поезд, и у них заночевал.
Я вошел в гостиную. Там у пианино стоял скромный человечек небольшого роста. Он листал ноты, и я не сразу узнал его. У него воспаленные глаза. Не выспался, пронеслось у меня в голове. Или плакал?
– Я отец Ф., – сказал он. – Господин учитель, вы должны мне помочь, происходит что-то ужасное. Мой сын умирает.
– Что?!
– Да. Он же страшно простудился, уже восемь дней как, на стадионе, на матче. Врач считает, спасти его может только чудо, но чудес не бывает, господин учитель. Мать еще не знает, я пока не стал ей говорить, сын только иногда приходит в себя, а так он все время в своих горячечных видениях, но, когда сознание к нему возвращается, он постоянно зовет одного человека…
– Меня?
– Нет, не вас, господин учитель, он мечтает встретиться с вратарем, с футболистом, тем, который, видно, так хорошо играл в прошлое воскресенье, он для него просто идеал! И я подумал, может, вы знаете, где бы мне найти этого вратаря.
– Я знаю, где он живет, – сказал я, – поговорю с ним. Идите сейчас домой, я приведу вратаря.
Он ушел.
Я быстро переоделся и тоже вышел. К вратарю. Он живет недалеко, у них магазинчик спортивных товаров, за прилавком его сестра.
Было воскресенье, магазин был закрыт. Но живет вратарь в том же доме, на третьем этаже.
Он как раз завтракал. В комнате полно наград. Он вызвался идти сразу же. Даже не доел завтрак и сбежал за мной вниз по лестнице. Взял такси и не позволил мне заплатить.
Отец встречал нас в дверях. Теперь он казался еще меньше ростом.
– Он не в себе, – сказал отец тихо, – и врач там. Заходите же, господа! Я вам так благодарен, господин вратарь!
В комнате была полутьма, в углу стояла разобранная постель. Там он и лежал. На подушке рыжая шевелюра, и до меня вдруг дошло, что он самый маленький в классе. И мать у него тоже небольшого роста.
Высоченный вратарь остановился в смущении. Вот он лежит перед ним, его преданнейший поклонник. Один из многих тысяч тех, кто приветствовал его с трибун, кричал громче всех, наизусть знал его биографию, просил автограф, кто с таким удовольствием сидел у него за воротами и кого служащие гнали прочь.
Вратарь тихонько сел у кровати и стал смотреть на Ф.
Мать наклонилась над постелью.
– Генрих, – позвала она, – вратарь пришел.
Мальчик открыл глаза, увидел вратаря.
– Здорово! – улыбнулся он.
– Ты меня звал, вот я и пришел.
– Когда вы играете с Англией? – спросил мальчик.
– А Бог его знает, – пустился рассуждать вратарь, – они там все перессорились в лиге, думаю, мы вряд ли уложимся в сроки. Нам надо ведь еще сначала сыграть с Шотландией.
– С шотландцами-то легче…
– Ну не скажи! Шотландцы бьют по воротам из любой позиции…
– Расскажи, расскажи!
И вратарь стал рассказывать. О славных победах и незаслуженных поражениях, о строгих третейских судьях и продажных лайнсменах. Он встал, взял два стула, разметил ими ворота и продемонстрировал, как отбил однажды одно за другим два пенальти, показал у себя на лбу шрам, заработанный во время отважного вратарского броска в Лиссабоне. Рассказывал о дальних странах, где он защищал свою цитадель, и об Африке, где среди болельщиков сидят вооруженные бедуины, и о прекрасном острове Мальта, где футбольное поле на беду вымощено камнем…
И пока вратарь рассказывал, маленький Ф. заснул. С блаженной улыбкой, спокойный и радостный.
Похороны состоялись в среду, днем, в половине второго. Светило мартовское солнце, до Пасхи было недалеко.
Мы стояли над свежевырытой могилой. Гроб был уже опущен.
Присутствовали директор, почти все учителя, не было только нелюдима физика. Священник произносил надгробную речь, родители и немногие родственники стояли не шевелясь.
А напротив нас полукругом расположились одноклассники усопшего, весь класс в полном составе, двадцать пять человек.
Рядом с могилой лежали цветы. Великолепный венок, на зеленой с золотом ленте, и надпись: «Последний привет! Твой вратарь».
И пока священник говорил о цветке, который сломался, едва распустившись, я отыскал глазами Н.
Он стоял за В., Г. и Л.
Я начал наблюдать за ним.
Его лицо ничего не выражало. Вдруг он взглянул на меня. Вот твой смертельный враг, подумалось мне. За падаль тебя держит. Берегись, когда вырастет. Тогда он все сокрушит, даже и саму память о тебе.
Как хотелось бы ему сейчас, чтобы там внизу лежал ты. Он и могилу бы твою сровнял с землей. Чтобы никто не узнал, что ты жил на свете.
Виду не подай, что знаешь, о чем он думает, вдруг пронеслось у меня в голове. Свои скромные идеалы держи при себе. За И. придут другие, придут следующие поколения, и не надейся, друг Н., что ты переживешь то, во что я верю. Меня, – может быть, но не мою веру.
И пока я так размышлял, я вдруг почувствовал на себе еще чей-то взгляд. Это был Т.
Он улыбался тихо, высокомерно и насмешливо.
Неужели угадал, о чем я думаю?
А он все улыбался, странно и неподвижно.
Два круглых прозрачных глаза не отрываясь глядят на меня. Без выражения, без блеска.
Рыба?
Тотальная война
Три года назад Министерство просвещения выпустило распоряжение, которым отменило обычные пасхальные каникулы. То есть вышло предписание, обязывающее все средние школы выезжать на пасхальные каникулы в палаточные лагеря. Под «палаточным лагерем» подразумевались допризывные военные учения. Учащиеся должны были классами выехать на «природу» и под руководством классных руководителей в течение десяти дней стоять лагерем, как солдаты. Должны были обучаться под руководством отставных унтер-офицеров, заниматься строевой подготовкой, маршировать, а также, начиная с четырнадцати лет, стрелять. Дети, понятно, были в восторге, ну и мы, учителя, тоже радовались, что поиграем в индейцев.
В пасхальный вторник жители одной захолустной деревни могли видеть подъезжающий мощный автобус. Водитель сигналил, будто едет на пожар, куры и гуси разлетались в панике, собаки лаяли, сбежались жители. «Вон, вон те ребята! Ребята из города!» В восемь утра мы отправились от нашей гимназии, а сейчас, когда остановились перед зданием местного совета, была половина третьего.
Бургомистр приветствует нас, начальник жандармерии отдает честь, деревенский учитель естественно тоже тут, и, немного погодя, появляется священник, – полный, приятный с виду господин.
Бургомистр показывает мне карту местности, где находится наш лагерь. Отсюда пешком – не меньше часа. «Фельдфебель уже там, – говорит инспектор. – Двое саперов уже разгрузили палатки. С самого утра!» Пока мальчики высаживаются и раскладывают по рюкзакам снаряжение, я изучаю карту: деревня располагается на высоте 761 метр над уровнем моря, мы поблизости от большой горной цепи, горы от 2000 и выше. А за ними горы еще более высокие и темные, с вечными снегами на вершине.
– А вот это что? – спрашиваю я бургомистра и показываю на карте строения на краю деревни.
– Это наша фабрика, – отвечает он, – самая большая лесопилка во всей округе. Но, к сожалению, в прошлом году она остановилась. Из-за нерентабельности, – поясняет он. – Теперь у нас на беду много безработных.
В разговор вступает учитель, он рассказывает, что лесопилка принадлежит концерну; он явно не симпатизирует акционерам и совету директоров. Я – тоже.
– Деревня бедна, – объясняет он, – половина народу – надомники, получают гроши, треть детей недоедает…
– Да-да, – улыбается инспектор жандармерии, – и это на фоне таких красот природы!
Прежде чем отправиться в лагерь, священник отзывает меня в сторону и говорит:
– Уважаемый господин учитель, мне бы хотелось обратить ваше внимание на одну мелочь: в полутора часах ходьбы от вашего лагеря находится замок, купленный государством, там сейчас поселили девушек приблизительно возраста ваших мальчиков. Присмотрите за своими питомцами, чтобы потом не было жалоб. – И он улыбается.
– Да, хорошо, прослежу.
– Не подумайте плохого, просто для того, кто тридцать пять лет оттрубил в исповедальне, полтора часа пешком – не расстояние, – смеется он. – Заглядывайте ко мне, господин учитель. Мне как раз привезли отличное молодое вино!
В три часа отправляемся. Сначала идем ущельем, держимся правее, расселина остается сзади, пахнет смолой, лес все тянется. Наконец он становится реже, перед нами поляна, там и становимся лагерем. Горы близко. Фельдфебель и оба сапера сидят на палатке и режутся в карты. Заметив наше приближение, они вскакивают, и фельдфебель рапортует мне по-военному. Лет пятидесяти, офицер запаса. В простых очках, лицо радушное.
Начинается работа. Саперы и фельдфебель показывают мальчикам, как ставятся палатки, я ставлю их вместе с учениками. В центре оставляем площадку, потом мы установим там знамя. Через три часа палаточный городок готов, саперы отдают честь и спускаются обратно в деревню. Около флагштока стоит большой ящик, в нем сложены винтовки. Мишени уже установлены, фанерные солдаты в иностранной форме. Наступает вечер, мы разводим костер, готовим ужин. Едим с аппетитом, поем солдатские песни. Фельдфебель выпил шнапсу, охрип. Вот со стороны гор начинает дуть ветер.
– Это с ледников, – кашляя, говорят мальчики.
Я вспоминаю умершего Ф.
Да, ты был самым маленьким в классе. И самым добрым. Наверное ты единственный, кто не сказал бы ничего плохого о неграх. Потому и ушел. Где-то ты теперь?
Забрал ли тебя ангел, как в сказке? Взял с собой и унес в те места, где играют в футбол блаженные? Где вратарь тоже ангел, и судья, он свистит, когда кто-нибудь летит за мячом на крыльях. Там, на небесах, это считается положением вне игры. Хорошее у тебя место? Еще бы! На тех трибунах все сидят в первом ряду, прямо по центру, а злые служители, вечно отгонявшие тебя от ворот, торчат за последними скамьями, и ничего им оттуда не видно.
Наступает ночь. Мы отправляемся спать. «Завтра начнем уже всерьез!» – роняет фельдфебель. Ему спать в седьмой палатке, вместе со мной.
Захрапел.
Я в очередной раз включаю карманный фонарик, чтобы взглянуть на часы, и обнаруживаю на стенке палатки рядом с собой красно-бурое пятно. Это что?
Я думаю: завтра начнется всерьез. Да, всерьез. У флагштока в ящике притаилась война. Да, война.
Мы стоим в поле.
А я все думаю. Об обоих саперах и фельдфебеле в запасе, которому все еще приходится командовать, о фанерных солдатах, на которых тренируются стрелять. Я вспоминаю директора гимназии, Н. и его отца, как назвал его Филиппи, – господина булочника, я думаю о лесопилке, которая больше не пилит, акционерах, которые, несмотря на это, продолжают получать дивиденды. О жандарме, который улыбается, священнике, который пьет, неграх, не имеющих права на существование, надомных рабочих, у которых нет к существованию средств, Министерстве образования и недоедающих детях. И о рыбах…
Мы в поле. Но где же фронт? Дует ночной ветер, фельдфебель храпит. Что это за красно-бурое пятно? Кровь?
Венера на марше
Солнце всходит, мы встаем. Умываемся в ручье, завариваем чай. После завтрака фельдфебель велит мальчикам построиться по росту в две колонны, в затылок друг другу. Они рассчитываются, он делит их на взводы и отделения. «Сегодня пока стрелять не будем. Для начала займемся строевой подготовкой».
Строго следит, чтобы ряды были абсолютно прямыми. Один глаз прищурен: «Чуть-чуть вперед, чуть-чуть назад, особо вон тот, третий сзади, выпирает из строя на километр». Третий сзади – это Ц. Удивительно, как, оказывается, непросто построиться. Вдруг слышен голос Н., он пихает Ц.:
– Сюда, идиот!
– Ну-ну-ну! – вступает фельдфебель. – Только без хамства. Это раньше солдат бывало, оскорбляли, а теперь их больше обижать нельзя. Это ты запомни, ага?
Н. молчит. Заливается краской и бросает на меня стремительный взгляд. Так и удавил бы тебя сейчас, чувствую я, только потому, что его пристыдили. Смешно, но я не улыбаюсь.
– Полк, марш! – командует фельдфебель.
Впереди – большие, за ними – маленькие. Скоро полк исчезает в лесу. Двое остаются со мной в лагере, М. и Б., чистят картошку, готовят суп. Чистят с молчаливым воодушевлением.
– Господин учитель! – зовет вдруг М. – Смотрите, кто там к нам идет!
Смотрю: строевым шагом в нашем направлении движутся около двадцати девушек. Тащат тяжелые рюкзаки, и, когда подходят поближе, становится слышно: они поют. Трепещущими сопрано поют солдатские песни. Б. хохочет. Вот они заметили наш лагерь, остановились. Вожатая что-то говорит девушкам и в одиночку направляется к нам. Это метров двести. Иду ей навстречу. Мы знакомимся, она работает учительницей в крупном провинциальном городе, а эти девочки учатся у нее в классе, сейчас их расквартировали в замке, это о них меня предупреждал священник.
Я сопровождаю коллегу обратно, девушки пялятся на меня, как коровы на выгоне. Нет, господину священнику не о чем беспокоиться, притягательными эти создания, по правде говоря, не выглядят. Замурзанные, пропотевшие, неряшливо одетые, зрелище они собой представляют довольно безотрадное.
Учительница, похоже, угадала мои мысли:
– Мы презираем украшения и мишуру, принцип эффективности для нас ценней принципа демонстративности.
Мне не хочется рассуждать с ней о не слишком высокой цене всевозможных принципов, я просто говорю: «Ага!», а сам думаю: по сравнению с этими бедными зверьками Н. – человек.
– Мы же амазонки! – гнет свое учительница.
Но амазонки – только миф, а вот вы, к сожалению, – реальность. Просто замороченные дочери Евы!
Вспоминается Юлий Цезарь. Его не восхищает Венера с рюкзаком. Меня тоже…
Прежде чем отправиться маршировать дальше, учительница рассказывает мне, что сегодня с утра девочкам нужно разыскать сбитого летчика.
– Как? Кто-то разбился?
– Да нет, «Розыски сбитого летчика» – это новая спортивная игра для девочек-подростков. Большой белый кусок картона прячется в зарослях. Девочки цепью рассыпаются по лесу и ищут спрятанный картон.
– Это на случай возможной войны, – добавляет учительница для ясности, – чтобы нас тоже могли использовать в операциях, если кого-то собьют. В тылу, конечно, – женщины ведь, к сожалению, не пойдут на фронт.
Жалко!
И они уходят строем, а я смотрю им вслед. От постоянной маршировки короткие ноги будут еще короче. И толще. Ну, маршируйте, матери будущего!
Сорная трава
Небеса нежны, земля расплывчата. Мир – акварель под названием «Апрель».
Я обхожу лагерь и выхожу на дорогу, ведущую через поле. Что там, за пригорком?
Дорога идет через лес, делая большой крюк. Воздух тих, как вечный покой. Ни звука. Большинство насекомых еще не проснулись.
За пригорком, в лощине, уединенный хутор. Людей не видно. И даже собак. Невольно останавливаюсь: за оградой на узкой тропинке, идущей мимо хутора, три фигурки, два мальчика и девочка. Мальчикам лет по тринадцати, девочка, может, двумя годами постарше. Все трое босы. Что же они там делают, почему прячутся? Жду. Один из мальчишек внезапно выпрямляется во весь рост и заходит во двор. Вдруг, чего-то испугавшись, быстро прячется обратно за забор. Доносится громыхание телеги. Повозка с лесом, влекомая тяжеловозами, медленно проезжает мимо. Когда она исчезает из виду, паренек снова идет во двор. Подходит к двери и стучит. Наверное, дверным молотком, потому что выходит очень уж громко. Все трое прислушиваются. Девчонка встала и смотрит через забор. Высокая и стройная. Мальчик стучит в другой раз, еще громче. Тут дверь дома отворяется, показывается старая крестьянка, выходит из дому, опираясь на клюку. И как будто принюхивается. Мальчик не издает ни звука. Вдруг старуха кричит: «Кто тут?» Да что ж она кричит-то, мальчик ведь прямо перед ней? А она опять, кричит: «Это кто тут?» Идет, нащупывая клюкой дорогу, мимо мальчишки, будто его не видит – может быть, слепая? Девчонка указывает на оставленную открытой дверь, похоже, это приказ, и парнишка на цыпочках прокрадывается в дом. Старуха остановилась, прислушивается. Да, она и впрямь слепая. Тут из дома доносится звон, как будто бьют посуду. Старуха вопит: «Помогите! Помогите!», и тут на нее кидается девчонка и зажимает ей рот. В дверях появляется мальчишка с буханкой хлеба и с кувшином в руках, девчонка выбивает у старухи клюку, я бросаюсь к ней. Старуха шатается, спотыкается, падает, дети испаряются.
Я хлопочу вокруг старухи, она тихонько постанывает. Подоспел крестьянин, услыхал крики, помогает мне. Мы перетаскиваем ее в дом, я рассказываю крестьянину все, что видел сам. Он не особенно удивлен.
– Выманили мать наружу, чтобы проникнуть в дом. Да все та же сволочь, их ведь не поймаешь. Грабят, как разбойники, самая настоящая банда.
– Дети?
– Ну да, – фермер кивает. – И вон, в замок, где барышень поселили, тоже уж забрались. Недавно половину белья утащили. Смотрите, как бы и к вам в лагерь не наведались!
– Да нет, нет! Мы следим.
– Я бы им не доверял. Это сорная трава, таких уничтожать надо.
Пропавший летчик
Иду обратно в лагерь. Слепая успокоилась и благодарила меня. За что? Разве не само собой разумеется, что я не оставлю ее лежать на земле? Ну и дикая банда, эти дети!
Но вдруг я останавливаюсь. Меня охватывает странное чувство: не так уж я возмущен их жестокостью. Не говоря уже о том, что обвинить их можно только в краже хлеба. Но почему? Почему меня это не возмущает? Просто потому, что они бедные дети и им нечего есть? Нет, не то.
Дорога делает изрядный крюк, и я решаю срезать. Могу себе это позволить. Ориентируюсь я хорошо.
Пробираюсь сквозь чащу. Где-то тут водится сорная трава. Особенно мне запомнилась девочка, как она встала во весь рост и посмотрела через забор. Она у них за атаманшу? Хочется увидеть ее глаза. Нет, я не святой.
Заросли тем временем все гуще.
А что это там лежит?
Кусок белого картона. На нем красным, печатными буквами – «Самолет». Ну да, пропавший летчик! Они так его и не нашли.
Так вот ты где упал! Это был воздушный бой или тебя подбили зенитки? Истребитель ты был или бомбардировщик? Теперь лежишь тут разбитый, обгорелый, обугленный. Картон, картон!
А может, ты еще жив? Ты тяжело ранен, а тебя все никак не найдут? Ты наш или вражеский? Сбитый летчик, за что умираешь ты сейчас?
Картон!
И вдруг я слышу голос: «Ничего тут не поделаешь!» Это женский голос, теплый и печальный. Он доносится из чащи леса.
Осторожно раздвигаю ветки.
Вон сидят две девушки, из замка, с ногами короткими и толстыми. У одной в руках расческа, другая плачет.
– Ну, на что он мне сдался, этот летчик, – всхлипывает она, – почему мы носимся тут по всему лесу? Посмотри, как ноги опухли! Не хочу больше маршировать! По мне хоть совсем бы он пропал, этот летчик! Я тоже жить хочу! Нет, Анни, надо держаться отсюда подальше! Только не обратно в этот замок, там тюрьма! Помыться бы, постираться, причесаться!
– Успокойся! – утешает ее Анни, нежно собирая расческой и зачесывая назад сальные волосы с зареванного лица. – Что нам, бедным девчонкам, делать-то? Учительница тоже тут плакала потихоньку. Мама говорит, мужчины посходили с ума, напридумывали этих законов…
Я настораживаюсь, прислушиваюсь. Мужчины?
Тут Анни целует подругу в лоб, а мне становится стыдно. Как скор я был на насмешку сегодня утром.
Может быть, мама Анни и права, мужчины посходили с ума, а кто не сошел, у тех не хватает мужества засунуть буйных в смирительные рубашки.
Да, она права.
Да и сам я трус.
Домой!
Возвращаюсь в лагерь. Картошка почищена, суп кипит. Полк уже дома, ребята бодры и веселы, и только фельдфебель жалуется на головную боль.
Вдруг он спрашивает:
– Учитель, сколько бы вы мне дали?
– Лет, наверное, пятьдесят.
– Шестьдесят три! – улыбается он польщенно. – Еще в мировую войну пошел в ополчение – был к тому времени в запасе.
Я пугаюсь, что он сейчас пустится в военные воспоминания. Но, как выясняется, зря.
– Давайте не будем о войне. У меня двое взрослых сыновей. – Он задумчиво озирает горы и глотает аспирин. Человек.
Рассказываю ему про ограбление.
Он сразу вскакивает, велит мальчикам немедленно построиться. Держит перед своим полком речь: на ночь надо выставить часовых, по четыре мальчика будут сменяться каждые два часа. Западный пост, восточный, северный, южный. Лагерь будет защищаться до последней капли крови, до последнего человека!
Мальчишки восторженно вопят: «Ура-а-а!»
– Вот забавно, – говорит фельдфебель, – голова больше не болит.
После обеда я отправляюсь вниз, в деревню, надо решить несколько вопросов с бургомистром по поводу снабжения нашего лагеря: без пропитания ведь строевой подготовкой не позаймешься.
Встречаю у бургомистра священника, он неумолим – я просто обязан пойти к нему продегустировать его чудное молодое вино. Что ж, я и выпить не против, да и священник очень милый господин. Мы идем через деревню, крестьяне с ним здороваются. Священник ведет меня к себе коротким путем, мы сворачиваем в боковую улочку. И тут крестьяне пропадают.
– А здесь живут надомные работники, – говорит священник, посмотрев вверх, на небеса.
Серенькие дома теснятся друг к другу. У открытых окон сидят опрятные дети с бледными старческими лицами и расписывают цветных кукол. За ними в домах темнота.
– Тут экономят свет, – говорит священник, и прибавляет: – Они со мной не здороваются. Озлобленны.
Он вдруг ускорил шаг. И я – вслед за ним. Большие глаза детей смотрят странным, неподвижным взглядом. Нет, тут не насмешка, они не рыбы. Это ненависть. А за ненавистью сидит по темным комнатам скорбь. Они экономят свет? Да у них просто нет света.
Дом священника стоит чуть поодаль от церкви. Церковь – строгое здание, дом священника уютно пристроился рядом. Церковь окружена кладбищем, дом священника – садом. С колокольни звонят колокола, из трубы дома поднимается голубой дымок. В саду у мертвых распускаются белые цветы, в огороде у священника зреют овощи. Там кресты, тут садовый гном. И застывший олень. И грибок.
У священника дома чистота, в воздухе ни пылинки. Рядом на кладбище все – пыль и тлен. Священник ведет меня в лучшую комнату.
– Вы присаживайтесь, я пойду принесу вина. – Уходит в подвал, я остаюсь один.
Мне не сидится.
Та картина на стене, я узнаю ее.
Дома у моих родителей висит такая же. Они очень благочестивы.
Это было в войну, тогда я оставил веру в Бога. Было слишком – требовать от подростка, чтобы он постиг, что Бог может допустить мировую войну.
Я все смотрю на картину.
Бог на кресте. Он умер. Мария плачет, Иоанн ее утешает. Темное небо разрезает молния. А справа, на переднем плане, стоит воин в латах и шлеме – начальник римской стражи.
И пока я ее рассматриваю, меня вдруг охватывает острая тоска по родному дому. Хочется снова стать маленьким. Сидеть и смотреть в окошко, когда за ним гроза. Когда гремит гром, барабанит град, когда смеркается.
Вспоминается моя первая любовь. Ее я не хочу больше видеть. Но мне пора домой.
Вспоминается парта, как я сидел за ней и думал, кем хочу стать: учителем или врачом?
Больше, чем врачом, мне хотелось быть учителем. Больше, чем лечить больных, хотелось дать что-то здоровым, хотя бы крошечный камушек для постройки прекрасного будущего.
Небо затянуло облаками, сейчас пойдет снег.
Тебе пора домой!
Домой, туда, где ты родился. Чего ты тут ищешь по белу свету? Работа моя больше меня не радует. Пора домой!








