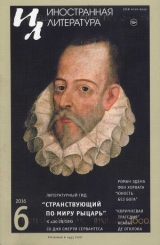
Текст книги "Юность без Бога"
Автор книги: Эдён Хорват
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
В поисках идеалов человечности
Вино у священника на вкус, как солнце, зато пирог отдает ладаном.
Мы сидим в уголке.
Он показывал мне дом.
Кухарка у него толстая. Сразу видно: должна хорошо готовить.
– Я ем немного, – вдруг говорит священник.
Читает мои мысли?
– Но тем больше пью! – смеется он.
От души рассмеяться у меня не получается. Хорошее вино, я не чувствую вкуса. Начав говорить, спотыкаюсь, запинаюсь, теряю мысль. Что со мной творится?
– Знаю, что вас занимает, – замечает священник. – Вы думаете о тех детях, которые сидят у окон, расписывают кукол и со мной не здороваются.
– Да, о них тоже.
– Кажется вас удивляет, как я угадываю ваши мысли? Но ведь это не трудно, и наш учитель тут в деревне тоже всюду видит только этих детей. Каждый раз с ним спорим, где бы мы ни сошлись. Со мной можно спокойно говорить. Я ведь не из тех священников, которые не слушают или злятся. Я тут следую святому Игнатию, он говорит: «С каждым человеком я вхожу в его двери, чтобы вывести потом через мои».
Я отмалчиваюсь, слабо улыбаюсь. Он допивает свой стакан.
Смотрю на него и жду. Пока мне не понятно.
– Причина нищеты, – продолжает он, – ведь не в том, что я наслаждаюсь вот этим вином, а в том, что лесопилка встала. Наш учитель считает, что из-за быстрого развития техники нам нужны другие производственные отношения и другой контроль над собственностью. И он прав. Почему вы на меня так удивленно смотрите?
– Можно сказать честно?
– Нужно!
– По-моему, Церковь всегда на стороне богатых.
– Ну да. Это ее долг.
– Долг?
– А вы знаете хоть одно государство, где бы правили не богатые? «Богатство» – это ведь значит не только «много денег». Пусть не станет акционеров лесопилки, все равно будут править какие-нибудь другие богатые, ведь, чтобы быть богатым, не обязательно нужны акции. Всегда будут ценности, которых у каких-то отдельных людей окажется больше, чем у всех остальных, вместе взятых. Больше звездочек на лацканах, больше нашивок на рукаве, орденов на груди, видимых или невидимых, богатые и бедные будут существовать всегда, как умные и глупые. И Церкви, господин учитель, к сожалению, не дана власть решать, как управляется государство. Но ее долг всегда быть на его стороне, а правят государством, к сожалению, всегда богатые.
– Долг?
– Так как человек по природе своей – существо общественное, он всегда нуждается в контакте с семьей, с общиной, государством. Государство – чисто человеческое устройство. У него должно быть только одно предназначение – по мере возможностей обеспечивать счастье на земле. Оно является природной необходимостью, потому и богоугодно, и подчинение ему – долг совести.
– Но вы же не станете утверждать, что нынешнее государство в меру своих возможностей обеспечивает на земле счастье?
– Да нет, я этого совсем не утверждаю, потому что всякое человеческое общество стоит на эгоизме, лицемерии и грубой силе. Как говорит Паскаль: «Мы жаждем истины, а находим в себе лишь неуверенность. Мы ищем счастья, а обретаем лишь горести и смерть». Вы удивитесь: простой деревенский священник вам цитирует Паскаля, не удивляйтесь, я не просто деревенский священник, меня перевели сюда временно. Можно сказать в каком-то смысле сослали. – Он улыбается. – Да-да! Редко становится праведным тот, кто никогда не грешил, редко – мудрым, ни разу не сделавшим глупости. А без маленьких жизненных глупостей нас всех не было бы на свете!
Он тихо смеется, но я не смеюсь с ним. Он осушает очередной бокал.
Неожиданно я спрашиваю:
– Так если государственный порядок угоден Богу…
– Чушь, – перебивает он. – Не государственный порядок, а государство является природной необходимостью, оттого оно и богоугодно.
– Так это же одно и то же!
– Нет, не одно и то же. Бог создал природу на Земле, значит – богоугодно то, что природно необходимо. Но последствия Творения, а в нашем случае государственный порядок… продукт свободной человеческой воли. Таким образом, только государство богоугодно, а не государственный порядок.
– А если государство разваливается?
– Государство никогда не разваливается, максимум – разрушается одна его общественная структура, уступая место другой. Само государство остается всегда, даже если составлявший его народ вымирает. Тогда на его место приходит другой.
– Значит, крах государственного порядка не природно необходим?
Он улыбается.
– Иногда даже богоугоден.
– Если структура государства рушится, почему же Церковь опять оказывается на стороне богатых? Почему в наше время она опять же на стороне акционеров лесопилки, а не детей в окнах?
– Потому что богатые всегда побеждают.
Я взрываюсь:
– Чудная мораль!
А он по-прежнему спокоен.
– Мыслить ясно – это и есть нравственность. – И он опять осушает бокал. – Да. Богатые всегда будут побеждать, потому что они более жестоки, подлы и бессовестны. Сказано же в писании, что верблюд скорее пройдет сквозь игольное ушко, чем богатый попадет на небеса.
– А Церковь? Она-то сама пройдет через игольное ушко?
– Нет, – говорит он и снова улыбается. – Это трудно себе представить. Ведь она сама и есть игольное ушко.
Чертовски умен этот поп, думаю я, а все равно неправ. Не прав!
– Церковь служит богатым и даже не думает бороться за бедных… – говорю.
– И за бедных она борется, – перебивает он снова, – но просто на другом фронте.
– На небесном, что ли?
– Там тоже были павшие.
– И кто же?
– Иисус Христос.
– Так это был Бог, а что пришло потом?
Он подливает мне вина и задумчиво смотрит перед собой.
– Это хорошо, – произносит он тихо, – что в наши дни у Церкви во многих странах плохи дела. Хорошо для Церкви.
– Может быть, – роняю я и замечаю, что волнуюсь. – Давайте вернемся к детям в окнах. Когда мы шли по переулку, вы сказали: «Они не здороваются – озлобленны». Но вы же умный человек, вы же должны понимать, эти дети не озлобленны – им жрать просто нечего!
Он серьезно смотрит на меня.
– Я имел в виду, что они озлобленны, – цедит он, – потому что больше не верят в Бога.
– Как можно от них этого требовать?
– Бог проходит по всем дорогам Земли…
– Как он может зайти в тот проулок, увидеть тех детей и не помочь?
Он молчит. Медленно допивает свое вино и опять серьезно на меня смотрит.
– Бог – это самое страшное на свете.
Я потрясен. Правильно ли я расслышал? Самое страшное? – Он поднимается, подходит к окну, выглядывает наружу, на кладбище.
– Он карает, – слышу я его голос.
«Что ж это за никчемный Бог, чтоб наказывать бедных детей?» – думаю я.
Теперь священник меряет шагами комнату.
– Нельзя забывать Бога. Даже если нам непонятно, за что Он наказывает. Если бы только у нас не было свободной воли!
– Вы имеете в виду первородный грех?
– Да.
– Я не верю в него.
Он останавливается передо мной.
– Значит, не верите в Бога.
– Да, так и есть. Я не верю в Бога. Слушайте, – прерываю я наступившее молчание, потому что мне очень нужно это сказать. – Я все-таки преподаю историю, известно, что мир существовал и до рождества Христова; Эллада, античный мир, мир без первородного греха…
– А вот тут вы, похоже, ошибаетесь. – Он подходит к книжному шкафу, перелистывает книгу. – Раз вы преподаете историю, так не мне вам рассказывать, кто был первый греческий философ, ну то есть наидревнейший.
– Фалес Милетский.
– Да, но только фигура эта наполовину мифическая, и мы толком ничего о нем не знаем. Первый дошедший до нас письменный документ греческой философии принадлежит Анаксимандру, тоже из Милета. Родился в 610-m, умер в 547-м, до Рождества Христова. Вот всего одна оставшаяся от него фраза. – Он подходит к окну, начало уже темнеть, и произносит: «Откуда вещи берутся, там суждено им и исчезнуть, ибо они должны понести покаяние и кару за вину своего существования».
Римский стражник
Мы в лагере уже четыре дня. Вчера фельдфебель объяснял ребятам, как действует винтовка, как ее чистить и смазывать. Сегодня целый день чистили и смазывали, завтра будут стрелять. Фанерные солдаты ждут своего расстрела.
Ребята настроены по-боевому – не то, что фельдфебель. За эти четыре дня он состарился лет на десять. Еще четыре таких же и на вид ему будет больше, чем на самом деле. К тому же он подвернул где-то ногу, видимо, повредил сухожилие и теперь хромает.
Но свои страдания скрывает. Только мне вчера признался, прежде, чем заснуть, что лучше бы сейчас сшибал кегли, играл в карты, ложился в нормальную постель и тискал крепкую кельнершу – короче, был бы дома. Потом уснул и захрапел.
И приснилось ему, что он генерал и выиграл сражение. И что кайзер снял все свои ордена и собственноручно приколол ему на грудь. И на спину. А кайзерша целовала ему ноги.
– И что бы это должно было означать? – спросил он меня утром.
– Может, ваш сон означает исполнение желаний? – выдвинул предположение я. На это он сказал, что никогда в жизни не мечтал, чтобы кайзерша целовала ему ноги.
– Напишу-ка я жене, – продолжил он задумчиво, – у нее есть сонник. Пусть там посмотрит, к чему снятся генерал, кайзер, орден, сражение, грудь и спина.
Пока он писал перед палаткой, появился возбужденный мальчишка, то есть Л.
– Что случилось?
– Меня обокрали!
– Обокрали?
– Утащили мой фотоаппарат, господин учитель.
Мальчишка не мог прийти в себя.
Фельдфебель смотрел на меня. «Что делать?» – читалось у него во взгляде.
– Объявить построение, – распорядился я, потому что ничего лучшего в голову мне не приходило.
Фельдфебель облегченно кивнул, приковылял на центральную площадку, где развевалось знамя, и взревел как старый лось:
– По-о-олк, строй-ся!
Я повернулся к Л.
– Ты кого-нибудь подозреваешь?
– Нет.
Полк построен. Я всех опросил, никто ничего сказать не смог. Сходили с фельдфебелем в палатку к Л. Спальник его лежал сразу налево от входа. Ничего мы не нашли.
– Вряд ли, – сказал я фельдфебелю, – это кто-то из наших, иначе бы кражи происходили и раньше. Я подозреваю, что часовые у нас пока что несут караул не очень-то добросовестно и кто-то из шайки сумел к нам проникнуть.
Фельдфебель дал добро, и мы решили на следующую ночь часовых проверить. Вот только как?
Приблизительно в ста метрах от лагеря находился сеновал. Там мы и хотели заночевать и проследить за часовыми. Фельдфебель с девяти до часу, а я с – часу до шести.
После ужина мы потихоньку выскользнули из лагеря. Никто из ребят нас не заметил.
Я поудобнее устроился в сене…
В час будит меня фельдфебель.
– Пока все в порядке, – докладывает.
Я выбираюсь из сена и занимаю пост в тени сеновала…
Да, именно – в тени. Ночь такая лунная.
Волшебная ночь!
Я вижу лагерь, различаю часовых. Сейчас их хорошо видно. Они стоят неподвижно или прохаживаются в ту или в другую сторону. Часовые – западный, восточный, северный, южный – по одному с каждой стороны. Стерегут свои фотоаппараты.
И пока я сижу так, мне вдруг вспоминается картина, та, у священника. Такая же, как была у моих родителей.
Идут часы. Я преподаю историю и географию.
Мне нужно объяснить, какова форма Земли и рассказать ее историю.
Земля пока еще круглая, но истории стали квадратными.
Вот сижу тут, боюсь закурить, стражников стерегу.
И правда: работа больше меня не радует.
Ну почему мне опять пришла на ум эта картина?
Из-за распятого Христа?
Да. Нет.
Из-за Богоматери? Нет. И вдруг мне становится ясно. Из-за воина в латах и шлеме, начальника римской стражи.
А что с ним?
Он руководил казнью еврея.
И вот когда этот еврей умер, он сказал: «Воистину, не человек так умирает».
То есть он узнал Бога.
Что он сделал?
Остался спокойно стоять у креста.
Молния перечеркнула небо, завеса разорвалась в храме, земля содрогнулась. А он остался стоять. В умиравшем на кресте он узнал нового бога и понял, что мир, в котором жил он сам, обречен на гибель. И?
Погиб ли он где-то в сражении? Понимал ли, что гибнет ни за что? Радовала ли его эта его работа?
Как он состарился? Вышел на пенсию?
Жил в Риме или ближе к границе, на окраине, где жизнь подешевле?
Может, домиком обзавелся? С садовым гномом?
И рассказывала по утрам ему кухарка, что с той стороны границы опять появились новые варвары, ей Богу, да, Лючия, господин майор, своими глазами видела.
Новые варвары, новые народы.
Они вооружаются, вооружаются, они ждут.
И римский офицер знал, что варвары все разрушат. Но его это не трогало. Для него все уже и без того было разрушено.
Он мирно жил себе пенсионером, он понял ее до конца. Огромную Римскую империю.
Дерьмо
Луна висит прямехонько над палатками. Должно быть, сейчас часа два. В кафе в это время, наверное, полно народу.
Как-то там наш Юлий Цезарь?
Будет включать свой череп, пока черт его не унесет.
Смешно. Вот в черта я верю, а в Бога нет.
А это правда, что нет?
Не знаю. Да нет, знаю! Не хочу верить в Него! Просто не хочу.
Такова моя воля!
Единственная свобода, которая мне осталась: право верить или не верить.
Ну, формально конечно, вроде бы да.
И потом: то да, то нет.
Как же тогда говорил этот поп? «Работа священнослужителя состоит в том, чтобы подготовить людей к смерти. Потому что им легче жить, когда они не боятся умирать».
И ему тоже легче? Что-то не верится.
«В нашей юдоли скорби и раздоров спасает единственно милость Божья и вера в божественное Откровение».
Отговорки!
«Мы наказаны и сами не знаем, за что».
Спроси у тех, кто сверху!
А что еще сказал поп?
Бог – самое страшное на свете.
Вот это вот – да…
Хороши были мысли у меня на сердце. Они лезли из головы, рядились чувствами и, едва касаясь друг друга, принимались танцевать.
Изысканный бал, высшее общество. Сегодня тут весь бомонд!
В лунном свете кружились пары.
Трусость с Добродетелью, Ложь со Справедливостью, Подлость с Силой, Коварство с Мужеством.
Вот только Разум не участвовал в танце.
Нализался и понесло его в мораль, и всхлипывал без конца: «Ой, я дурак, ой, я дурак!»
Все кругом заблевал.
Но танцам его блевотина не помешала.
Вслушиваюсь в музыку бала.
Звучит известный шлягер, под названием «Один в дерьме».
Разобравшись по языку, по расе и национальности, лежат друг перед другом кучи и меряются, которая больше. Воняют так, что тем, кто поодиночке, приходится себе носы затыкать.
Дерьмо, крутом одно дерьмо!
Так удобряйте им!
Удобрили бы землю, чтобы что-нибудь выросло.
Не цветы, а хлеб!
Но только не молитесь!
Не дерьму же, которое вы же жрали!
Ц. и Н.
Чуть не забыл про свои обязанности: в стогу сидеть, курить не сметь, стражников сторожить.
Выглядываю наружу: да вон они, сторожат.
Запад, Восток, Север и Юг.
Ну и ладненько.
А постой! Что-то там происходит?
Где это?
С Севера.
Да ведь кто-то же там разговаривает с часовым…
А кто там у нас на посту?
Ц.
И с кем это он там разговаривает?
Или это просто тень от елки?
Да нет, чья-то фигура.
Вот ее освещает луна, это парень. Чужой.
Да что же такое там?
Похоже, незнакомец отдает что-то Ц., а после исчезает.
Какое-то время Ц. стоит не двигаясь.
Прислушивается?
Осторожно озирается кругом и вытаскивает из кармана конверт. Значит, он получил письмо!
Торопливо вскрывает его и читает при свете луны.
Кто же ему пишет?
Наступает утро, фельдфебель осведомляется, не заметил ли я чего подозрительного. Отвечаю, что вовсе ничего не заметил, и постовые несли караул добросовестно.
О письме молчу, потому что не уверен, связано ли оно с пропавшим фотоаппаратом. Сначала надо разобраться, а пока ничего не ясно, не хотелось бы бросать тень на Ц. Узнать бы, что там в письме!
Ребята с изумлением встречают наше возвращение в лагерь; когда ж это мы успели ускользнуть?
– Среди ночи, – врет фельдфебель, – а шли, между прочим, не прячась, и хоть бы кто на посту нас заметил, караулить надо повнимательней, мимо такой охраны могут весь лагерь вынести: и винтовки, и знамя, и нас самих.
Потом велит своему полку построиться и спрашивает, не заметил ли кто чего подозрительного. Никто не отвечает.
Тем временем я наблюдаю за Ц.
Вон он, стоит, не дрогнет.
Что же было в том письме?
Сейчас оно у него в кармане, но я его все-таки прочту. Нужно прочесть во что бы то ни стало.
Может, спросить напрямую?
Нет, не имеет смысла.
Он будет отпираться, а письмо порвет или сожжет, и прочитать его не удастся. Может, он уже успел его уничтожить. Кто же этот незнакомый мальчик, который появляется в два ночи в часе ходьбы от деревни? Или он живет там, на хуторе у слепой? Становится все очевиднее, что он принадлежит к банде, к сорной траве. Выходит, Ц. тоже сорная трава? Предатель? Мне нужно прочесть это письмо. Обязательно!
Прочесть письмо для меня становится просто навязчивой идеей.
Бумм!
Сегодня же начинают стрелять!
Бумм! Бумм!
В полдень подходит ко мне P. С просьбой.
– Господин учитель, – говорит, – пожалуйста, переведите меня в другую палатку. Эти двое, те, кто со мной, все время дерутся, спать невозможно.
– А кто эти двое-то?
– Н. и Ц.
– Ц.???
– Ну да. Начинает, правда, всегда Н.
– Пришли их ко мне.
Он уходит, приходит Н.
– Почему ты все время дерешься с Ц.?
– Он спать мешает! Постоянно меня будит. Жжет свечку посреди ночи.
– Зачем?
– Ерунду свою пишет.
– Он что-то пишет?
– Ну да.
– А что? Письма?
– Нет. Дневник.
– Дневник?
– Да. Он идиот.
– Дневники ведут не только идиоты.
Он пронизывает меня уничтожающим взглядом.
– Ведение дневника – типичный признак личности, для которой типична завышенная самооценка.
– Может и так, – говорю я осторожно, ибо не могу припомнить, не говорилось ли такое по радио.
– Ц. специально взял с собой шкатулку, запирает туда этот свой дневник.
– Пришли-ка мне сюда Ц.
Н. уходит, Ц. является.
– Ты почему все время дерешься с Н.?
– Да потому что он плебей!
Вот те на! Мне поневоле вспоминаются богатые плебеи.
– Ага! Ему невыносимо, что кто-то может задумываться. Его это просто бесит. А я веду дневник, он у меня в шкатулке, Н. хотел ее взломать, но я начеку. Днем прячу дневник в спальник, а ночью держу в руках.
Я внимательно смотрю на него и медленно спрашиваю:
– А куда ты деваешь дневник, когда сам стоишь на посту?
В лице у него ничего не дрогнуло.
– Обратно в спальник, – отвечает.
– И в этот дневник ты записываешь все свои переживания?
– Да.
– И то, что видишь, слышишь? Всё-всё?
Он краснеет.
– Ну да.
Спросить, кто ему писал и что в письме? Нет. Теперь-то я уж точно прочту этот дневник.
Он уходит, и я смотрю ему вслед.
Как сказал этот мальчик, он умеет задумываться.
Я прочту его мысли. Дневник Ц.
Адам и Ева
В начале пятого полк опять уходит. В этот раз даже «работники кухни», потому что фельдфебель хочет объяснить, как окапываться и где земля пригодна для рытья окопов и блиндажей. С тех пор как он захромал, он больше объясняет, чем делает.
В лагере, таким образом, остаюсь я один. Как только полк исчезает в лесу, я иду в палатку, в которой живет Ц. вместе с Н. и Р.
В палатке лежат три спальника. На левом – письмо. Нет, не то.
«Господину Отто Н.» – стоит на конверте. Отправитель: Елизабет Н. – ах, супруга булочника!
Не удерживаюсь, читаю, что пишет нежная мама своему детке.
Милый Отто! Спасибо тебе за открыточку. Мы с папой были рады, что чувствуешь ты себя хорошо, дай Бог, чтоб так было и дальше. Следи за своими носками, чтобы их опять не подменили. Прошло всего два дня, а вы уже стреляете? Боже мой, как летит время! Папа просит передать, чтобы ты вспомнил о нем, когда будешь стрелять в первый раз, ведь он же был лучшим стрелком у себя в роте. Только подумай, вчера умер Манди, позавчера так бодро и весело прыгал у себя в клеточке и радовал нас своим щебетом. А сегодня его не стало. Какая-то канареечная болезнь. Бедненький протянул ножки, я сожгла его в камине. Вчера у нас на ужин было отличное седло косули с брусникой. Мы вспоминали тебя. Хорошо ли ты там питаешься? Папа шлет тебе самый сердечный привет. Докладывай ему обязательно, не позволяет ли себе учитель этих своих высказываний, вроде того о неграх. Будь начеку! Папа шею ему свернет! Целую тебя и обнимаю, милый Отто! Любящая тебя мамочка.
В следующем спальнике ничего нет. Тут, значит, спит Р. Тогда шкатулка должна быть в третьем. Там она и оказалась.
Это была голубая жестяная коробочка с простеньким замком. Она была заперта, и я попытался открыть замок проволокой. Поддался легко.
В коробке лежали письма, открытки и книжка в зеленом переплете. «Мой дневник» вытеснено на нем золотыми буквами. Открываю. «От мамы на Рождество».
А кто у Ц. мать? Кажется, вдова чиновника или что-то вроде этого.
Потом шла первая запись, что-то про рождественскую елку, листаю дальше, и вот уже Пасха. Сначала Ц. делал записи каждый день, потом через день, каждый третий, пятый, шестой день. А вот и письмо. Это оно. Измятый конверт, без марки, без адреса.
Ну, ну, скорее! Что в нем?
«Сегодня прийти не могу. Приду завтра в два. Ева».
Всё.
Кто эта Ева?
Пока я знаю только, кто Адам.
Адам – Ц.
Читаю дальше.
Среда. Вчера мы поднялись в лагерь. Все очень обрадовались. Сейчас вечер, вчера писать не было времени – все очень устали: ставили палатки. У нас даже знамя есть. Фельдфебель – старый лох, не замечает, что мы над ним смеемся. Мы быстрей него бегаем. Учителя, слава Богу, почти не видно. Не обращает на нас внимания. Ходит кругом с постной рожей. Н. тоже лох. Сейчас опять орет на меня, уже во второй раз, чтоб я тушил свечку, а я не тушу. Тогда я вообще ж доберусь до дневника, а мне хочется, чтобы осталась память о том, как тут было. Сегодня после обеда у нас был большой марш-бросок, до самых гор. По дороге мы проходили под скалами, там много пещер. Вдруг фельдфебель командует, чтобы мы рассыпались по лесу и шли цепью, чтоб обойти неприятеля, который закрепился на высоте с тяжелой артиллерией. Разошлись довольно далеко друг от друга, а заросли все гуще, гуще, и вдруг, оказывается, я ж вижу уже ни того, кто справа, ни того, кто слева. Ото всех оторвался и заплутал. Вижу, я опять стою у пещеры – наверное, сделал круг. И вдруг передо мной девчонка. Темнорусые волосы и розовая блузка. Удивился – откуда она вообще взялась. Спрашивает, кто я. Ответил. С ней были еще двое, мальчики, оба босиком и в рванине. Один с буханкой хлеба, у другого крынка. Смотрели они на меня недобро. Она им сказала идти домой. Сейчас приду, говорит. Только выведу его из чащи. Я об радовался, и она пошла меня провожать. Спросил, где она живет. Отвечает: за скалами. А на военной карте, которую нам дали, нету никакого дома и вообще ничего. Карта врет, говорит. Выходим на опушку, вдалеке уже виден лагерь. Остановилась и говорит: мне теперь надо назад. Говорит, она меня поцелует, если я не скажу никому на свете, что ее встретил. Почему? – спрашиваю. Потому что ей этого не хочется. Ладно, говорю, и она меня поцеловала, в щеку. Так не считается, сказал я, поцелуй – эта когда в рот. И она меня поцеловала в рот. И засунула мне в рот язык. Я сказал, что она свинья и что она там у меня во рту своим языком делает? Она засмеялась и еще раз точно так же меня поцеловала. А я ее оттолкнул. Она взяла камень и швырнула в меня. И если б попала в голову, был бы мне каюк. Я ей так и сказал. А мне по фигу, говорит. А я сказал: тогда б тебя повесили. А она: мне все равно. И тогда на меня вдруг напала жуть. Она велела, чтоб я подошел к ней близко. Я не хотел быть трусом – подхожу. Вдруг она меня обхватила и опять затолкала язык в рот. Тут я психанул, схватил ветку и как стукну ее. Попал по спине и по плечам, но только не по голове. Она рухнула, и даже звука не издала. Рухнула и лежит. Я испугался, решил, а вдруг она умерла. Подошел, пошевелил ее суком, а она не шевелится. Я подумал: если умерла, надо мне ее тут оставить и сделать вид, будто ничего не было. Хотел было идти и вдруг вижу, она притворяется. Лежит и моргает. И я опять к ней подошел. Нет, не умерла. Я уже повидал много мертвых. Они совсем не так выглядят. Мне еще семи лет не было, когда я видел мертвого полицейского и четверых мертвых рабочих, это была забастовка. Ну постой, подумал я, ты меня напугать хочешь, но сейчас ты у меня вскочишь. Взялся за ее юбку и задрал. На ней не было трусов. Она все равно не шелохнулась, а мне стало не по себе. И тут она вдруг как вскочит, потянула меня на себя как сумасшедшая. Я знаю уже, что это. Мы занялись любовью. Хотя рядом был огромный муравейник. А потом я пообещал, что никому не скажу, что видел ее. Она убежала, а я сообразил, что забыл спросить, как ее зовут.
Четверг. У нас расставили посты от грабителей. Н. снова орет, чтобы я тушил свечку. Если не заткнется, я ему врежу. Всё, врезал. А он не дал сдачи. Дурак Р. орет так, как будто это ему досталось. Трусишка. Злюсь на себя, что не договорился с девушкой. Мне бы так хотелось еще раз ее увидеть, поговорить с ней. Сегодня чувствовал ее под собой, пока фельдфебель командовал «Встать!» и «Лечь!» Только о ней и думаю. Вот только язык мне у нее не понравился. Но она сказала, это так принято. Как ехать на автомобиле быстро. Думаю, любовь – это как летать. А может, летать еще лучше. Не знаю. Хочу одного – чтобы она сейчас лежала тут, рядом со мной. А то мне так одиноко. Пускай даже язык мне в рот засовывает.
Пятница. Послезавтра мы стреляем. Наконец-то! Сегодня вечером подрался с Н., я его убью. Р. тоже заодно получил, а что он как дурак стоит на дороге?! А вообще мне на все это плевать, я только про нее думаю, сегодня даже еще сильней. Потому что она сегодня ночью приходила. Неожиданно, когда я стоял на посту. Я сперва испугался, а потом страшно обрадовался и застеснялся. Но она не заметила, слава Богу! От нее так чудесно пахло, духами. Я спросил, где взяла, в аптеке, говорит, в деревне. Должно быть, дорого стоит, спрашиваю. Нет, говорит, ничего не стоило. Потом обняла меня, и мы снова были вместе. Спрашивает, что мы сейчас делаем? Я сказал: занимаемся любовью. Мы будем часто заниматься любовью? Да, говорю, очень часто. А она не грязная девка? Да нет, как она может так говорить! Когда лежит со мной рядом ночью. Святых не бывает. И вдруг вижу – у нее слеза на щеке, луна ей в лицо светила. Почему ты плачешь? Потому что все так ужасно. Что? И она спросила, буду ли я ее все равно любить, если она пропащая душа. Это что значит? Это значит, говорит, что у нее нет родителей, и с двенадцати лет она работала горничной, хозяин к ней постоянно приставал, а она отбивалась. Она украла деньги, чтоб удрать, потому что хозяйка лупила ее по лицу из-за хозяина. И так она попала в исправительный дом, но оттуда вырвалась и живет теперь в пещере, ворует, хватает что придется. С ней четверо мальчишек из деревни, которые не хотят больше расписывать кукол, но она у них старшая и предводительница. Но чтобы я никому не смел про это говорить, а то она опять попадет в исправительный дом. И мне стало ее ужасно жалко, и я вдруг понял, что у меня есть душа. Я ей про это сказал, а она говорит: да, и я тоже чувствую, что у меня есть душа. И чтобы я не удивлялся, что, пока мы тут вместе, что-то в лагере пропадет. Я говорю, ты не смеешь воровать, раз мы принадлежим друг другу. А потом нам пришлось расстаться, потому что меня сменили. Завтра опять встретимся. И теперь я знаю, как ее зовут. Ева.
Суббота. Сегодня большой переполох, у Л. стибрили фотоаппарат. Ну и фиг с ним! У него, у папаши, три фабрики, а Еве, бедной, приходится ютиться в пещере. А что она будет делать зимой? Н. опять требует, чтобы я потушил свет. Я его прибью. Поскорей бы она пришла. Хочется жить с ней в палатке, только безо всего этого лагеря. Совсем одному. Только с ней. Лагерь мне больше не нравится. Все это чепуха. Ах Ева, я всегда буду рядом с тобой! Ты никогда больше не попадешь в исправительный дом, клянусь. Всегда буду тебя защищать! Н. орет, грозится взломать завтра мою шкатулку. Пусть только попробует! В ней мои сокровенные тайны, они никого не касаются. Кто мою шкатулку тронет, тот умрет!








