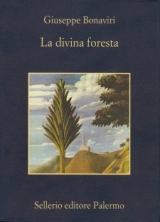
Текст книги "Волшебный лес"
Автор книги: Джузеппе Бонавири
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
X
Вернувшись в долину, я обнаружил там большие перемены. Люди теперь чуть не каждый день устраивали охоты и облавы. Стало опасно летать: нежданно-негаданно в тебя могла попасть стрела и расщепить надвое.
Вырубать деревья было у них у всех самым любимым делом. Вот потому-то и долина, и холм, возвышавшийся по другую сторону Фьюмекальдо, почти совсем оголились, открыв взору клубки высохших трав, широкие полосы красноватой земли и груды камней.
– Если и дальше это пойдет так быстро, что будет с нами? – спрашивал Аполлодор, залетая ко мне.
Многие птицы из дневных превратились в ночных, устраивали себе гнезда в самых необычных местах – в дуплах дубов и ореховых деревьев.
Другие – их было большинство – улетали прочь, я видел их удаляющиеся вереницы, когда глядел в небо, чтобы заглушить подступающие воспоминания, и заслонялся крылом от зноя позднего лета.
После истории с удодом меня вовсе не манила пылающая даль неба, где не встретишь взмаха нежного крыла; у меня были другие желания; и земля меня больше не привлекала, я знал, что вряд ли найду там молодые сочные побеги, пучки распустившихся листьев, а только узловатые, облезлые, чахлые стволы да замшелые пни и еще самое живучее, что там было, – бескрайние заросли колючей красной ежевики.
Словом, то был полный переворот в нашей жизни. Стало трудно добывать еду; хорошо еще, что на равнине Ваттано, на жнивье и среди скудной, быстро засыхавшей травы, водилось множество белых улиток, замкнувшихся в вековечной неподвижности в своих домиках-раковинах.
Туда, на эти высоты, люди добирались редко, там и следов их не встречалось, только гора Минео, напротив нас, за крутым обрывом над Фьюмекальдо, была заселена ими окончательно.
А между тем мысли мои снова и снова обращались к Тоине, всякий раз воспоминание воскрешало прежние краски, прежние заботы, печали, шелест листьев.
Увы, все поиски, предпринятые во времена дядюшки Микеле, не дали ничего, хотя в них и приняло участие немало птиц. Кто-то предлагал одно, кто-то – другое; обычно это бывали самые невероятные гипотезы или премудрости, которые весьма нелегко было бы претворить в жизнь.
И вот, поскольку меня охватывало томление всякий раз, когда я глядел на луну, будь то сквозь ряды опунций на склоне Минео, или на самом гребне горы, или над рекой, где колыхалось ее отражение, или где угодно еще, даже в прорехах между листьями, я все более и более убеждался, что подруга моя какими-то таинственными путями отправилась туда.
Я долго раздумывал над этим. Наконец решился поговорить с друзьями, и прежде всего с Антисфеном.
Однако мы с ним разошлись во мнениях, и очень скоро в дело вмешался Аполлодор.
Антисфен утверждал, например, что луна находится не так уж далеко и что это вовсе не другой мир, а просто сквозное отверстие в небе. Или, быть может, рассуждал он, это шарообразное скопление внеземных птиц (он говорил так, желая обнадежить меня насчет Тоины), но, уж во всяком случае, не настоящий мир вроде нашего, с оврагами, равнинами и прочим, как утверждал я.
Я же, если была охота, спорил с ним, говоря, что ореол, порою окружающий луну, создается током воздуха, который обегает это светило и отражает лунные лучи, приобретающие, таким образом, радужные отливы.
Аполлодор, прыгая из угла в угол в моем гнезде, говорил, что, если всмотреться, станет очевидно: это никакой не мир, это часть моря, на далеком расстоянии оно кажется белым; оно заключено в непроницаемую, гигантскую оболочку из протоплазмы – оторвалось от земли в незапамятные времена, и сильный ветер унес его в пространство.
– Вот увидите, так оно и есть, так и есть, – напевал он, возможно издеваясь над нами.
В одном только мы были единодушны: этот спутник земли освещен солнцем. Но и тут возникали некоторые разногласия, поскольку я утверждал, что солнце движется с востока на запад, разливая свет в эфире, и потому освещает эту штуку со всех сторон.
Я надеялся, что уговорю друзей отправиться туда вместе со мной на поиски Тоины: она могла попасть туда, сбившись с пути, ослепленная разноцветным свечением воздуха.
Антисфен в пылу своих рассуждений кричал, что луна движется сама собой, освещается только с одной стороны и лучи света падают на нее отвесно, по параллельным траекториям.
– Вот почему она не сплошь светлая, а в пятнах тени!
Все это были пустые разговоры. Но я, как уже было сказано, поддерживал их ради поисков Тоины. Кроме того, мне казалось, что после вторжения людей мир наш обречен на упадок и разорение, и все мои надежды были связаны лишь с путешествием за пределы земли.
И вот мы отправились в путь. Однако этому предшествовали нелегкие переговоры. Мы хотели взять с собой Кратета, но от него давно уже не было вестей – одни говорили, будто он сгинул у себя в лесу, другие думали, что он улетел в дальние страны.
Палимиро переселилась в небогатую лесами долину Виццини и там открыла школу, где учила птиц мастерить разные пустяки и несложные устройства, которые в теперешнее бедственное время действительно могли пригодиться.
– От старых друзей толку не жди, – заметил Антисфен: предстоящее путешествие в неизведанные края пугало его.
Панеций охотно согласился, его привлекали рискованные приключения и возможность подстраивать всякие каверзы обитателям тех мест, которыми мы полетим.
Самым упрямым оказался Аполлодор, он дал себя уговорить чуть ли не в последнюю минуту, рассчитывая, очевидно, что при его маленьком росте будет нетрудно укрыться от нападения – хотя бы в гуще трав или же застыв и слившись в одно бурое пятно с поверхностью скал или обнажившейся землей.
Мы тронулись в путь ранним утром; я поднялся высоко вверх, друзья последовали за мной, чтобы в последний раз взглянуть на долину Фьюмекальдо и горы Камути; бросив прощальный взгляд, я обнаружил там столько неизведанных мест, которые никто никогда не нашел бы, по большей части выжженных солнцем, покрытых густой сетью голых красных ветвей. Мы повернули к пруду Каталларио, и скоро он появился перед нами, подобный голубому зеркалу, словно опрокинутый сам в себя; мы спустились туда напиться. Стайка водяных птиц, увидев нас, улетела прочь, из воды выглянули любопытные лягушки, а кругом без устали сновали необыкновенные розовые стрекозы.
– Никогда не видел стрекоз такого цвета, – сказал Панеций; он стал гоняться за этими созданьицами и переловил, сколько смог.
Пруд окружали заросли камыша, тростника и папируса.
Мы спросили у одной куропатки, видела ли она людей; она ответила, что никогда не встречала этих вредоносных животных.
– Счастливая! – воскликнул Аполлодор.
Не мешкая, мы продолжали путь.
Я летел впереди, посредине небосвода, ведя за собой остальных и не торопясь, чтобы не так быстро устать.
Как только темнело, мы спускались на землю, садились на дерево или на пригорок, где ничто не нарушало тишину, и ждали восхода луны, которая должна была указать нам дорогу.
В те дни она появлялась, обращенная вогнутой стороной к западу, вдвое меньше своей величины, но сжатая черным кольцом, которое позволяло определить ее истинный размер.
– Мы приближаемся к ней, – говорил Панеций.
Так нам казалось.
Однажды мы летели над оврагом, и вдруг нам навстречу повалил густой дым, поднимавшийся над какими-то кучами песка. Дым был удушливый, как сера, он валил безостановочно и вверху стлался зловещим облаком.
– Что бы это могло быть? – недоумевал Аполлодор.
Мы круто устремились вниз, прямо на этот дым. И оказались на изрытом норами пригорке; в каждой норе лежало множество больших фиолетовых яиц.
– Ну и ну! – сказал Панеций. – Знаете, мне кое-что пришло в голову. Спустимся, посмотрим?
Аполлодор сказал, что лучше, мол, все оставить как есть и не обращать внимания на этот питомник вонючих яиц.
– Надо же чем-нибудь развлекаться в дороге! – настаивал Панеций.
В овраге лежало поваленное дерево с целым лесом вывернутых корней; мы опустились на, него.
– Интересно, – сказал я.
Дятел одним прыжком вскочил на яйцо, которое вдруг треснуло, выпустив густой дым, скрывший от нас нашего друга. Скорлупа лопнула с резким звуком, и, к нашему изумлению, из яйца вылез человечек, влажный и желтый, словно вымазанный серой. Воняло от него ужасно.
– Гляди-ка! – удивился Аполлодор.
Из яиц вылуплялись все новые человечки, и Панеций хотел было склевать их, но Антисфен сказал: нет, это бесполезно, все равно очень скоро они наводнят весь мир и превратят его в кучу отбросов.
– Брось, Панеций, не надо!
Все человечки катились, будто шарики, к большой луже посреди питомника и погружались в нее по пояс, словно должны были еще повариться в клокочущей серной жиже.
– Кто бы мог подумать? – сказал Аполлодор.
Мы продолжали наблюдение. Какое-то время не было видно ничего, кроме бугорков желтоватой земли, чахлых деревьев и тумана.
– Летим дальше! – крикнул Антисфен: путешествие казалось ему полным превратностей.
Мы встретили еще не один такой ров, где люди отложили яйца. Все они были одинаковы: застланные пеленой дыма, наполненные оглушительным треском непрерывно лопавшейся скорлупы.
Когда мы пролетали над этими местами, Антисфен замечал однообразие происходящего в них необъяснимого круговорота. Люди, по его словам, были лишь простые феномены на извилистом пути бытия, а вот мы, птицы, представляем собой ноумены.
– Не только птицы, Антисфен, – уточнил я.
Я стал говорить о растениях, о цветах и об остальном; тут мы горячо заспорили, нам приятно было лететь и беседовать, так как лучи солнца жгли не особенно сильно, а желтизна лесов и сверкание потоков под нами умиротворяли душу.
Панеций не принимал участия в этих спорах: он считал, что бесполезно отстаивать или исследовать превосходство одной породы существ над другой, ибо все они подвержены тлению и находятся в непрерывном развитии и становлении.
Поэтому он часто оставлял нас и отправлялся выискивать насекомых, пронзая стволы насквозь или обдирая с них кору, чтобы мы прервали беседу и вслушались, с какой необыкновенной четкостью он работает клювом. Аполлодор все время был с нами, а если вдруг чувствовал усталость, улетал в густые заросли ивняка и резвился там, выделывая пируэты в воздухе.
Так, беседуя, наслаждаясь беззаботным и приятным полетом, мы достигли крайнего предела Сицилии, где горы террасами спускаются к морю, стремящему волны на скалы. Солнце заканчивало свой небесный путь, горизонт охватывала багровая полоса, цвет ее постепенно менялся, приближаясь к желтому. Аполлодор держался рядом с нами, часто взмахивая крыльями, чтобы не отстать; он показал на воду и сказал, что даже в небольшом количестве она расплывается по воздуху и образует ровную поверхность, где невозможно отличить единицу от множества, отделить каплю от капли.
Мы все еще летели с легким ветерком над деревьями и над водами, и Панеций предложил отдохнуть перед тем, как помериться силами с морем.
– Летите за мной, – сказал он. – Нам нужно подкрепиться.
Под нами был морской берег, дробивший солнечные лучи на тысячи осколков, и мы направились к скале, сплошь заросшей фиговыми деревьями.
Там было хорошо и вдоволь плодов. Панеций помогал нам собирать фиги и аккуратно сдирал с них кожуру своим длинным клювом; он сказал, что многие завидуют нашей безмятежности и нашему покою, а потом заговорил об этих сладчайших плодах и, потешаясь над нами, важно сообщил, что они бывают черные, белые, каштановые, зеленые, голубые.
– Сколько же всего разновидностей ты знаешь?
Панеций был в ударе, он ничуть не устал и, прыгая с ветки на ветку, заговорил о красных, лиловых и еще каких-то фигах.
Место было удобное: нам не мешали ни докучный бриз, ни грохот прибоя в скалах; мы спокойно могли дождаться восхода луны.
Позади меня взбирались на обрыв колючие заросли, внизу лежали огромные валуны, на земле виднелись странные веерообразные следы морских птиц. Фиги были в самый раз, не жесткие и не переспелые, и я с удовольствием ел их, слушая болтовню Панеция.
Но вот солнце скрылось, на его месте взошли Плеяды; наползала тьма, и морские водоросли казались черными. Аполлодор еще ухитрился разглядеть на стволе дерева запоздалых муравьев. Я различал ручейки прибывающей и убывающей воды, когда волны накатывали на песок.
Мы ждали. Луна взошла на горизонте, она была больше обычного, вспухшая и красная – ни дать ни взять раскаленный камень.
Антисфен сказал, что чем дальше мы продвигаемся, тем ближе становится к нам луна, поднимающаяся из таинственных лабиринтов моря.
Панеций тоже взглянул на луну, задумчиво повертел длинным клювом.
– О-о! – сказал он. – Мы на верном пути.
Мы уютно устроились среди ветвей фигового дерева. На луне хорошо были видны выступы и темные прогалины, можно было подробно рассмотреть ее, а от ее краев лился свет, широкой полосой перерезавший морскую гладь.
– В Камути такого не увидишь, – заметил Аполлодор.
Между морем и луной лежали дископодобные пространства, четко разделявшие эти две стихии; окрест, сколько хватал глаз, простирались песчаные дюны и струился лунный свет.
Антисфен предложил нам продолжить путь, раз налицо имеется столько полезных указаний, облегчающих нам дело.
– Скорее в путь! – восклицал он. – Не будем расслабляться!
Мы оставили позади фиговое дерево и полетели вдоль лунной дорожки, которая разматывалась серебристой лентой, а в просветах иногда виднелся остров Пантеллерия.
Вот, подумал я, уже второй раз приходится лететь через море, и опять все с той же целью, но только теперь от самого моря мне не требовалось ничего, разве только верный след, который привел бы меня туда, наверх, в новый, неведомый мир, где предположительно затерялась Тоина.
– О Тоина! – вздохнул я.
Никто меня не услышал, мы летели на большой скорости, против волн. И тут Панеций, разразившись визгливым смехом, заявил, что мы тут любуемся луной, вечно всплывающей из морских глубин, а луна-то, если вдуматься, вовсе не далекая и странная область земли, вовсе не континент, сонно блуждающий в пространстве, а просто колобок из муки, сыра и масла, нехитрая сельская еда.
– Что ты сочиняешь? – откликнулся Антисфен, летевший рядом со мною.
А Панеций, визжа и смеясь, сказал, что мы наедимся вволю, как только доберемся туда.
Мы летели очень быстро еще и потому, что дыхание моря наполняло ночь прохладой. Рыб видно не было, наверно, мы не могли их разглядеть с нашей высоты, а по волнам пробегала обманчивая мелкая рябь.
– Где остановимся? – спросил Аполлодор.
Мы опустились на остров, где над темной низиной, заросшей ежевикой и кактусами, возвышался гребень горы. Посмотрев на небо, мы рассчитали дальнейшее направление полета по луне – она все еще была далеко.
Антисфен, задрав голову, говорил, что на этаких высотах уже нельзя определить, где верх, а где низ, поскольку вселенная тождественна себе во всех своих областях.
А Панеций отстаивал свою теорию луны-лепешки, пригодной лишь к тому, чтобы клевать ее и с боков и посредине; он приплясывал в воздухе, веселый, живой, неутомимый, ухитрявшийся перепрыгивать из верхнего слоя воздуха в нижний.
Мы летели всю ночь. Луна зашла с противоположной стороны, но мы знали, что она снова взойдет там, впереди, где горизонт перед рассветом стал белеть.
– Пора отдохнуть, – посоветовал Антисфен.
И, остановившись посреди круга, который он очертил взмахами крыльев, он указал нам атолл, смутно видневшийся невдалеке внизу.
Там нас ждало необычное приключение. Мы парили в воздухе, слегка раскачиваясь то вперед – при взмахе крыльев, то назад – от дувшего нам навстречу бриза. Мы вознесли хвалы небу, когда увидели на острове леса, тропинки, быстрые реки, казавшиеся темно-лиловыми в неверном свете зари.
– Как здесь чудесно, – заметил Аполлодор.
Чтобы размяться, мы не спеша облетели этот клочок земли, окруженный скалистой грядой и весь потонувший в густом тумане.
Панеций пел, как поют дятлы, подражая разным птицам; стремительно пролетая между нами, складывал одно крыло, чтобы показать свою удаль и чтобы другим крылом тут же чиркнуть у нас под хвостом.
Мы опустились в рощицу, где среди крохотных озер суетливо носились стрекозы и водяные птицы. Отыскали себе большой куст боярышника, забрались в него (боязливый Аполлодор попросился в самую середку), и я не в силах описать вам, как радовались мы этому желанному пристанищу.
Проспали мы долго. Поутру позавтракали рыбами, равнодушно высунувшими головы на поверхность озерца: глупые, они не знали, что, помимо их однообразных и холодных игр, от века неизменных, у них на острове может происходить и что-то еще, что-то совсем новое. Лучше всех с этим управлялся, конечно, Панеций – он мгновенно хватал длинным клювом рыбешку, испуганно трепыхавшуюся в воде, затем глотал ее.
– Что за блаженство! – говорил дятел.
Аполлодор летал над озером и почти что прыгал по его поверхности – просто ради удовольствия окунуться в воду.
Подкрепившись, мы полетели обследовать остров – теперь нам было достаточно одного мощного взмаха крыльев, чтобы потом по инерции нестись дальше, и довольно далеко. Антисфен заметил обширный лес, где слышалась непонятная возня и равномерный шорох ветвей. В этом лесу чувствовалась некая размеренность, это-то и привлекло наше внимание.
Мы опустились туда. Я первым нырнул в гущу ветвей, друзья последовали за мной; нелегко было пробраться через хоровод листьев – осень шла к концу, и листья осыпались то редко, то часто, но все, кружась, слетали в одном направлении.
– Гляди, гляди! – крикнул Аполлодор; он был маленький и без труда шнырял с дерева на дерево.
Я всмотрелся, насколько это было возможно. И увидел, что на ветвях деревьев, особенно пробковых дубов, красовались странные каракули, изображения, причудливые и непонятные письмена – думаю, они были выведены соком трав или алым порошком кармина.
Наконец мы выбрались на поляну, всю изрытую кротовьими норами; маленькие птички прилежно перетаскивали какой-то груз на стволы и на верхушки сосен.
– Куда мы попали? – спросил Панеций, описывавший широкие круги над поляной.
Наше появление смутило птичек, они спешно укрылись в ветвях деревьев на опушке.
– Кто вы? Что вам? – крикнул птенчик по имени Лот.
Не спускаясь на землю, мы спросили, где находимся; нам ответили: на землях Новилка.
Хозяин, предупрежденный Лотом, не замедлил явиться; у него была престранная манера летать, то и дело снижаясь, а затем сразу взмывая вверх.
– Добро пожаловать в мой сад, – сказал он.
У него было темное оперение и живые быстрые глаза.
Не так-то легко преодолеть море и добраться до этого острова, сказал он нам; разве что тут помогла судьба или направление ветра, угаданное заранее.
– Прошу, – сказал он.
И показал нам кусты и деревья, чьи стволы, если поглядеть на них сверху, были разноцветными, а ветви, еще полные листьев, были выщипаны в определенных местах. Когда Новилк пролетал мимо, маленькие птички и кроты приветствовали его громкими криками, хлопаньем хвоста о землю и другими знаками восхищения.
Пролетая меж ветвей эвкалипта, Антисфен спросил, для чего, собственно, он исчертил знаками большую часть этого леса, куда мы углублялись, – его тускло-зеленый неприветливый свод уже нависал над нами. Новилк ответил, что заносил на кору свои мысли, воспоминания, все изменчивое и несуразное, что приносит с собою время, для того чтобы создать из этого бессмертное произведение.
Мы не стали осматривать весь сад. Аполлодор что-то щебетал – то ли дивился словам Новилка, то ли не верил ему.
Мы решили провести несколько дней на острове, так как ночи стояли сырые, по небу носились рваные облака, временами скрывавшие от нас луну.
Там было хорошо, легко было прокормиться желудями, лисятами, козьим сыром (Панеций и Аполлодор обожали его), мелкими перелетными птицами. Но маленьких птичек и кротов из сада мы не трогали.
Перед расставанием Новилк рассказал нам о своих творениях, написанных на деревьях, и о способах чтения; устойчивый способ состоял в том, чтобы двигаться вверх по стволу, описывая виток за витком; для второго, воздушного способа надо было неторопливо кружить возле дерева.
Более того, он проводил нас в глубину сада и показал свои лучшие, как сам он считал, произведения.
– Вот на этом клене записаны мои размышления на тему: «Все надо делать на совесть». На этом ясене мое сочинение «О смысле жизни и скоплении газов в кишечнике птиц». Вот фиговое дерево с трактатом «Любовь и атомы». На этом вот вязе исследование «О звуках леса». А на этом рожковом дереве мои «Размышления о космосе, о ветрах и о певчих лягушках».
Лес был большой, однако Новилк неутомимо летел дальше, показывая все новые и новые свои сочинения, а за ним летела свита маленьких птичек; Антисфен между тем заметил, что с наступлением зимы от всех этих трудов ничего не останется.
Новилк улыбнулся и, протянув крыло к кактусам, сказал, что на них распорядился высечь трактат «О рождении человекоидов и об их дидимах».
– Ты знаешь людей? – спросил Аполлодор.
Новилк молча кивнул, а затем подвел черту, заявив, что в его лесу нет ни вымысла, ни миражей, ни иллюзий, а одни лишь истины, до которых он дошел после долгих размышлений.
Поднялся ветер, он играл то на одной, то на другой струне, и шелест листьев и ветвей звучал по-разному.
Вокруг нас птички Новилка чертили на ветвях монограммы, выводя их ярко-синей краской.
– Это еще не все, – сказал Новилк. – У нас тут растут повсюду всевозможные превосходные плоды, придающие саду золотистый цвет.
Я сказал ему, что недостаточно перечислять и оценивать дела и обстоятельства, запечатлевая их навсегда в дереве тончайшими сосновыми иглами или другими средствами, ибо время развивает и преобразует всякое деяние.
– Ха-ха-ха! – заливался Новилк. – В моих владеньях я всемогущ.
Повсюду видны были истерзанные листья, ветер прогонял их стаями сквозь кусты и травы, скручивал, заносил неведомо куда.
Один крот, по имени Минкино, сказал нам, что Новилк изобретает новые составы, которые будут навечно впитываться в древесную кору, более того, он хочет обратить свои богатые познания к постижению светил, в неизменности движущихся по своим неизменным орбитам.
– У-у, – сказал Панеций; он летел над самой землей, чтобы лучше слышать крота. – И как же он за это возьмется?
– Ах! Говорят, он сделает новые краски из моченой человечины.
Больше он ничего не сказал. И убрался в свою нору.
Ветер утих. Мы собрались в дорогу, и в эту минуту я думал о Тоине, которую теперь мог найти только на луне, и до нее еще долгий путь через многие земли. Лениво падали листья, не будя никаких звуков, только давая однообразную работу силам притяжения, уже усеявшим подлесок желтыми клочками.
Перед наступлением вечера мы поднялись в небо.
Новилк попрощался с нами, сидя на огромном тополе, издавая унылые однозвучные крики, которым вторили жалобные голоса птичек, рассыпанных по лесу.
Мы без труда взяли курс на юго-запад. Вдали уже виднелись берега Африки, смутные, неясные, переменчивые очертания их освещали лучи Большой Медведицы, медленно поворачивавшейся в небе прямо над нами. Вскоре остров Новилка остался далеко, затерянный в морской шири, серый и застылый.
Панеций был весел, быть может, радовался живительной прохладе; отовсюду исходило молчание звезд, лишь изредка нарушаемое плеском волн там, внизу.
Луна должна была вскоре взойти, судя по тому, что слева от нас над цепью гор в небе уже появилась белизна. Крылья раскрывались словно сами собой в прохладном воздухе, мы бодро двигались вперед. Аполлодор летел позади.
Антисфен то и дело делился сомнениями насчет успеха нашей затеи. Он не верил, что Тоина смогла бы в одиночку пуститься в такое опасное путешествие и попасть на это далекое светило.
Панеций все шутил.
– Большой прок будет нам от этого путешествия, – говорил он. – Летим в землю, которая годится лишь на то, чтоб ее съесть.
И в заключение, повернув клюв к Антисфену, с увлечением рассекавшему крыльями ночной воздух, изрек:
– Luna est quodam pulmentum farina caseo butyroque compaginatum![3]3
Луна есть некое лакомое вещество, нечто среднее между сыром и маслом (лат.).
[Закрыть] Вот увидите! Увидите!
Так или эдак, но путь нам предстоял еще долгий. Теперь мы летели над самым берегом, по большей части пустынным, где на рассвете звезда Венера рылась в спутанных клубках водорослей.
Еду мы раздобыли с большим трудом. Пришлось выискивать по расселинам сонных летучих мышей, скорпионов, тысяченожек. Больше всех страдал Аполлодор, привыкший в долине Фьюмекальдо выбирать самые спелые ягоды, самые изысканные плоды, в изобилии висевшие на деревьях.
К счастью, на берегу были ручьи, не слишком полноводные, но их нам хватало, чтобы утолить жажду и расположиться на краткий отдых в зарослях кипрея; попадались там и маленькие, темные от мелководья пруды, окруженные кувшинками (так их называла девчонка Пиния).
Иногда Панеций отламывал длинные шипы кактуса, брал их в клюв и пронзал насквозь рыб, изредка мелькавших в пруду. Этим он очень радовал Аполлодора, который теперь мог полакомиться рыбкой.
Ночи становились все более странными, сверху лился поток бледного света, затоплявший все кругом и сгущавшийся в недоступных дремучих лощинах, где при ярких отблесках звездного сияния были видны наши проносящиеся тени.
– О-о! – удивлялся Антисфен. – Куда же мы летим? Здесь искажается сам облик мира, его величина.
Мы летели, можно сказать, в подлунном море. Помимо прочего, здесь требовались новые принципы астрономии, если надо было выправить небольшое отклонение от курса.
Когда луны не было видно, мне казалось, что я сам стал частью этого бледного пространства, где даже движение крыльев становилось вялым и неравномерным. В тени, которую отбрасывал звездный небосвод, местами затянутый обширными мглистыми полосами, наши тела были словно призрачными. Аполлодора почти не было видно. Растительность была скудная и чахлая. Нам попадались навстречу ушастые совы – вопреки законам привычной анатомии они сверкали перед нами красными срамными частями.
– Сюда, сюда! – кричали они.
Но мы летели своим путем, только иногда хватали когтями одну из сов и бросали в овраг. Когда всходила луна, мы не могли смотреть вверх: свет был слишком яркий.
Мы двигались в светоносном эфире, по видимости спокойном, но на деле сотрясавшемся под действием неведомых нам законов. Антисфен говорил, что под нами словно лежит гладкое, без единого пятнышка зеркало. Он говорил нам о завихрениях, об атомах, от которых пошло начало мира и, что еще важнее, движение в небесах.
Ночи стали мучением, и если бы мы не сверяли курс по климатическим линиям луны, то просто заблудились бы.
– Куда же нам теперь лететь? – говорил неунывающий Панеций. – Здесь даже воздух сгущается и застывает… Чувствуете, как пахнет молоком?
Мы видели внизу обширные долины или цепи гор, меж которых поднимался и стихал ветер. Материальными здесь были разве что лунные лучи да густой сумрак, залегший в оврагах, но подлинная, весомая материя явно отсутствовала. Я испытывал скуку, проносясь этими пространствами, почти неотличимыми друг от друга. Ветер стал дуть чаще: он подымался чуть не каждую минуту, налетая то с одной, то с другой стороны.
В итоге это помогало нам: воздух становился все более разреженным, а ветер подталкивал нас вперед.
Больше всех это устраивало Аполлодора, который без всяких усилий несся по воздуху над горами и долами и был совершенно счастлив.
И все же, надо сказать, путешествие не было веселым. Нам встречались сплошные трудности, и не всегда легко было их преодолеть. Панеция угнетало отсутствие деревьев: прежде, говорил он, на досуге я даже пересчитывал на них листья.
– Могу сказать вам, – развлекал он нас, – что на иных ветках бывало по триста-четыреста листьев. У фигового дерева они растут редко, у олив и тополей – густо. На одной оливе может быть до четырехсот-пятисот листочков. Каково?
А в пустынных областях, которыми мы пролетаем, продолжал он, ничего подобного нет, ибо даже ветер здесь – лишь слабое дыхание, мнимая сущность, ведь здесь нет ни дрожания веток, ни шелеста листьев – того, что в Камути, да и в других местах отвлекало нас от земных дел, в чем мы находили забвенье.
Аполлодор же вспоминал, как осенью в предвечерние часы вокруг тополей вьются столбы мошек, четко различимые во влажном воздухе среди деревьев. Пролетишь там – наешься вволю.
– А вкусно как было! – восклицал он.
Но мы продолжали путь. Пили воду из стоячих прудов. Спали меж высохших стеблей трав, на каменистой земле или в расселинах скал. Нам встречались горные хребты, солнце освещало их косыми лучами, не так ярко, как прежде; часто мы пролетали над обширными угрюмыми плоскогорьями.
Однажды мы встретили старого отшельника: не желая больше жить вместе с братьями, он удалился в дюны. Звали его Джузеппе. Язык его был близок к нашему, многие фонемы совпадали, а трели его голоса были в общем приятны, хотя иные ноты звучали глуховато и хрипловато.
Узнав о цели нашего путешествия (кстати, Антисфен, боявшийся людей, не хотел, чтобы мы доверялись ему), отшельник сказал, что лучше всего луна видна вон с той горы.
– Я покажу вам дорогу.
– К чему торопиться? – заметил Панеций. – Она же никуда не денется.
Мы полетели туда сразу же, но не торопясь: старик передвигался крайне медленно.
Там, внизу, он рассказывал своим гнусавым голосом, резонировавшим не так, как у нас, о строгой гармонии красок на небосводе или же занимал нас пустой болтовней и несерьезными рассуждениями.
Я глядел, как он тащится внизу, жалобно кряхтя от каких-то своих болей, опираясь на посох, и думал, что люди, наверно, все же играют второстепенную роль в жизни вселенной.
– Не так ли, Антисфен?
Он летел рядом, внимательно следя за тем, чтобы взмахивать крыльями нечасто и размеренно. Он ответил мне, что отчасти это верно, как верно и то, что все мы живем под знаком бесцельности и ненужности.
– Вот она, вот! – воскликнул Джузеппе, указывая нам на двурогую вершину. – Отсюда ближе всего до луны.
Аполлодор признался мне, что одновременно взволнован и разочарован видом места, куда мы все так долго стремились. Кое-где виднелись деревья, а вообще земля была глинистая и бесплодная.
Устроившись на вершине горы, мы ждали восхода луны. Она не заставит себя ждать, думал я.
Мы сидели среди ветвей низенькой ивы, чуть поодаль расположился старик. Он захватил с собой из дому маленькую цитру и теперь играл и пел один-одинешенек у костра. Поднялся ветер, но, к счастью, не докучный, он не нес с собой скверных запахов или смолистого духа леса.
Аполлодор вспомнил, какие ветры дуют в наших краях: северный ветер, восточный, который свистит меж ветвей, западный и еще совсем легкие ветерки, ласковые и веселые.
Отшельник перестал играть, он глядел то на Аполлодора, то на огонь, полузакрыв глаза и облизывая губы.








