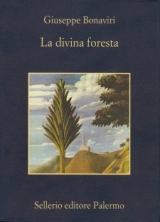
Текст книги "Волшебный лес"
Автор книги: Джузеппе Бонавири
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
V
И вот однажды утром я решил лететь прочь. Снялся с гнезда, взмыл высоко над вершинами Камути, оставив далеко позади мою долину со всей ее пестротой.
На возвышенности, куда я затем опустился, росли оливы, рожковые деревья и попадались нагромождения камней – по направлению к равнине Ваттано эти груды лежали теснее. Я увидел холм Минео, в ту пору не слишком приветливый и весь побуревший от зноя. Там я лишь напрасно потерял время. Птиц оказалось великое множество, поэтому лететь мне приходилось очень высоко.
«Полетим-ка в другую сторону», – сказал я себе.
Сначала я хотел направиться к хребту Кальтаджироне, но затем передумал: меня сильнее привлекала своим обликом и расположением небольшая рощица акаций, ежевики и рожковых деревьев, которую я заприметил в широкой расселине вблизи Джанфорте.
Место было удобное, к тому же не столь далекое от Фьюмекальдо. Прохладно, и воды вдоволь. Я задержался там. Все было бы хорошо, если б не уйма дроздов, горлиц, воронов, с нестерпимым гомоном носившихся туда-сюда, – мне приходилось либо прятаться, либо отставать от них, чтобы не набраться дурных и вредных привычек.
Понимая, что жизнь моя отравлена тоской и праздностью, что я в плену у самого себя и у собственных заблуждений, в которых упорствую все больше и больше, я собирался покинуть Джанфорте и уже пустился в путь, пронизывая одну за другой верхушки деревьев, как вдруг кто-то позвал:
– Апомео! Апомео!
Я застыл в нерешительности, не зная, меня ли это зовут. Неподвижно паря в воздухе, я ждал и пристально разглядывал то, что было внизу.
– Апомео, Апомео, Апомео!
Я повернул к тому месту, откуда донесся этот зов, не слишком желанный для меня.
В колючих зарослях ежевики запутался ястреб; он не мог выбраться оттуда, а между тем бесконечные вереницы муравьев уже наползали ему на лапы и на глаза, спеша прикончить его и сожрать.
– Апомео, Апомео, Апомео! – услышал я опять.
Видно, меня с кем-то спутали.
Я устремился вниз, обломал клювом ветки и освободил Тоину – так я назвал мою будущую подругу.
Она взлетела, зашумев крыльями, а муравьи, словно тягучие черные капли, попадали в пустоту и, наверное, погибли там.
Тоина приблизилась ко мне, по пути выдергивая у себя перья с застрявшими в них колючками и муравьями.
– Ты спас меня, – сказала она.
– Прощай, – ответил я в твердой решимости блуждать отныне из одной земли в другую.
– Я не отстану от тебя. Здесь орлы, это они напали на меня.
Она полетела со мной к остроконечной горной вершине, где лежала израненная птица, а чуть дальше виднелись две другие, такие же.
Впервые мне приходилось видеть подобное зрелище. Тоина сказала мне:
– Спустимся пониже.
Я не шелохнулся. Я смотрел, как бьются в кустарнике раненые птицы, тем временем подруга моя вернулась, неся в клюве мелкие черные камешки, и стала бросать их вниз по одному.
– Что это ты делаешь? – спросил я.
– Таков наш обычай: мы это делаем всякий раз, когда видим, что птица больше не сможет летать.
Я понял, что жил всегда обособленно и потому не могу представить себе, сколько надуманного и причудливого в обычаях, которые установило для себя сообщество птиц»
В воздухе никого не было видно. Должно быть, орлы вернулись к себе в скалы.
Бросив последний камешек, Тоина полетела ему вслед – по ее словам, для того, чтобы воздух вокруг раненых птиц стал чище и легче.
Без промедления оставили мы эти места, сплошь заросшие колючками. Я последовал за Тоиной, направившейся к Фьюмекальдо.
И вот началась жизнь вдвоем. На первых порах это не слишком мне нравилось, ведь надо было приспосабливаться к привычкам Тоины, к частым перепадам в ее настроении. У нее были свои странности. Скажем, в полет она пускалась только с одной целью: добраться до нужного места – и вовсе не замечала перемен, происходивших вокруг.
И все же спустя некоторое время мы увлеклись друг другом. Вначале Тоина нередко повторяла мои слова, просто ради удовольствия лишний раз ощутить, что я здесь, рядом с нею.
Мы часто прилетали вдвоем к тому месту, где жизнь свела нас. Поднимались высоко и парили на распростертых крыльях.
Как-то раз мне не захотелось спускаться. И она последовала за мной в непомерную высь, где не было иных истин, кроме пустоты да палящего солнца. Она приблизилась ко мне, побуждаемая страхом или, быть может, желанием, и крыло ее в медленном взмахе касалось моего крыла.
– Никогда еще я не взлетала так высоко, – сказала она.
Непостижимым образом она ухитрилась устроиться на мне сверху – наверно, съежившись, – и тогда я снова направил полет в поднебесье. Зияющая пустота была под нами – и больше ничего.
– О Апомео! – восклицала она. – О Апомео!
Однажды Тоина сказала мне:
– Давай кувыркаться.
Я кубарем покатился вниз – не умею объяснить иначе. Тоина оказалась надо мной, потом подо мной, и я почувствовал, какие мягкие и нежные у нее перья, и опять перевернулся в воздухе и понял всю прелесть этой игры, неведомой прежде.
– О Апомео, Апомео!
Мы тесно прижимались друг к другу. То не были поцелуи и объятия, подобные вашим, но стремительные вращения, головокружительные броски, переносившие нас из верхнего слоя воздуха в нижний. Теперь мне уже некогда было предаваться тоске и унынию.
– Еще, еще! – говорила мне подруга.
А иной раз мы вонзались в облака, те немногие, что попадались на нашем пути, и там не было видно ничего, кроме нашего бесконечного движения, да еще рассеянный свет проникал к нам со всех сторон, пока мы не выныривали наружу, неизменно слитые воедино.
– Погляди-ка, – сказала мне однажды Тоина.
Я остановился, размеренно покачивая крыльями, и поглядел вниз.
– Взгляни на долину!
Между нами и долиной, лежащей далеко внизу, колыхалась пелена воздуха, которая заполняла невидимые промежутки между ощутимыми предметами, а также крохотные пустоты в самих этих предметах.
– Это высота, – ответил я, – На большой высоте всегда так кажется.
Мы стали спускаться. Тоина пощекотала меня, и я, сам того не желая, два или три раза перекувырнулся – я уже знал, что так можно пробудить грезы и нежные чувства в сердце подруги.
– Хи-хи-хи! – смеялся я.
Я не прочь был спускаться кувырком еще и потому, что так зной меньше докучал мне; по пути я заметил, что другие птицы покинули небо, дабы отдохнуть в прохладе дремучих зарослей.
Все вещи кругом словно увеличились в размерах и, казалось мне, источали гнилостные испарения, затуманивавшие светлые краски дня.
– Какое море зелени, – сказала Тоина.
А я, вторя ей:
– Море зелени!
А она снова:
– Море зелени! Море зелени!
Однажды я овладел ею. Известно, в таких делах всегда этим кончается.
Бесполезно объяснять вам, как это произошло, достаточно сказать, что разрозненные сущности слились воедино или, точнее, что скрытые первозданные частицы начали разбухать и разрастаться, пока не смогли, устремившись наружу, объять всю вселенную.
Мы любили встречаться на ветвях рожкового дерева, чья крона со дня на день меняла очертания – так буйно разрастались ветви и распускались листья. Там мы упивались прохладой.
– Иди, Апомео, иди ко мне! – едва слышно звала меня Тоина, и никто другой не смог бы понять этот зов.
Она сидела на ветке, ее переливчатые перья выглядывали из густой листвы.
– Апомео!
– Тоина!
– Апоме…
– Тоин…
– Ап…
– То…
В общем, дело известное. Вы можете сказать, что все это давно знаете. Пусть так, но вам никогда не доводилось соединяться высоко в небе, как иногда делали мы для развлечения (а я еще и для того, чтобы развеять печаль), и потом вместе неподвижно царить там, а затем кувыркаться, тесно прижавшись друг к другу, с волнением в душе, чтобы наше взаимное познание стало еще прекрасней.
Другие птицы в это время удалялись. Возможно, из стыдливости или затем, чтобы предоставить нам место для забавы и для праздника чувств.
Мы решили свить гнездо, дабы обрести надежное убежище от холода и от жары, и только с этой целью.
Нашлось подходящее отверстие в скале над Фьюмекальдо, на самом верху, и Тоина пожелала сделать его возможно более удобным для меня, всегда защищенным от непогоды; она даже выстелила его в глубине сухими листьями шиповника, а у входа – плющом, который посадила в трещине скалы, чтобы лучи солнца почти совсем не достигали гнезда.
– Нравится? – спрашивала она то и дело.
Я каждый раз отвечал «да», но при этом не переставал мечтать и грезить даже беспросветно темными ночами, когда бодрствовали одни лишь совы – ближние повторяли за дальними тоскливый напев, твердивший нам, что все на свете суетно и убого.
Еду приносила Тоина. На заре, когда я еще нежился, досматривая последний сон, она улетала и возвращалась, нагруженная всевозможными припасами.
– Все еще спишь? – спрашивала она, обмахивая меня крылом.
Я открывал сонные глаза и видел, как подруга моя складывает в уголок гнезда всякие странные вещи: еще влажных улиток, раков с оторванными клешнями, орехи, птичьи яйца, душистые травы необычного вида.
– Где ты все это добываешь? – спрашивал я, щурясь от яркого утреннего света.
По правде говоря, такая пища не слишком прельщала меня, ведь я привык есть кроликов, лисиц, на худой конец ящериц.
Думаю, эти привычки появились у Тоины еще до того, как она попала в горы Камути, во время долгих странствий, когда ей приходилось промышлять себе еду в самых неожиданных местах.
Первое время я брезгливо отворачивал клюв, потом стал нехотя клевать улиток, цветы мальвы, чудом попавшихся маленьких ящерок, а сидевшая рядом Тоина глядела на меня полными самозабвенной любви глазами.
– Счастливцы, счастливцы, счастливцы, – часто говорил нам старый филин, в одиночку устроивший себе гнездо на выступе скалы недалеко от нас.
– Угощайтесь, угощайтесь, тут на всех хватит, – отвечала Тоина, подлетая к печальному филину.
Но он не всегда принимал приглашение, он был весь поглощен отыскиванием причин, внезапно лишавших его способности думать.
Филин ел мало: две-три улитки, несколько цветочков цикория, яйцо.
– Вкусно, вкусно, – бормотал он.
Теперь я редко охотился в долине, мне больше нравилось летать в сторону Джанфорте и укрываться в густой чаще кустарника – просто так, прохлады ради. Порой я оглашал заросли криками любви – подхваченные эхом, они становились звонче и протяжнее.
Какая-нибудь птица спрашивала:
– Кто он?
Думаю, в подлеске водилось немало змей, лис, зайцев, но я не мог добраться до них сквозь густое сплетение ветвей.
Словом, я был счастлив и даже не помышлял, что счастье мое вдруг может пойти на убыль или исчезнуть вовсе.
– Кью-кью-ви, кью-кью-ви! – пел я.
От Джанфорте я летал к равнине Ваттано, потом обратно над ручьем Буккерезе и его берегами, заросшими ежевикой. Вернувшись, я обнаруживал Тоину в каком-то непонятном настроении, но не оттого, что я долго отсутствовал, а оттого, что неотвязная мысль тяготила ее душу.
– Что с тобой, Тоина? – спрашивал я.
В ответ она лишь встряхивала крыльями, и я замечал, что перья у нее поблекли и потускнели, теперь они были почти темными.
Я рассказал об этом дядюшке Микеле, как называл я старого филина.
– Подождем, – ответил он. – Понаблюдаем за ней.
Я стал реже отлучаться, чтобы быть возле нее. А она по-прежнему летала в долину за припасами, которыми уже наполнила наше жилище.
– Зачем ты так надрываешься? – спрашивал я у нее.
Сразу же после захода солнца она устраивалась рядом со мною и долго шептала мне нежные, грустные слова.
Как-то раз, когда к нам залетел дядюшка Микеле, она не смогла удержаться от пространных рассуждений, в которых нам открылась ее огромная потребность любить. Позже, вечером, у себя в гнезде филин сказал мне, что Тоина чахнет из-за меня.
– Как это? – спросил я.
– А вот увидишь. Придет время, и она станет искать путь к невозможному.
Я не понял его, но не стал больше расспрашивать, чтобы не причинять себе боли.
– Подождем, – сказал он мне.
И вот однажды Тоина сказала мне, что любит меня, как божество, а еще она порою сетовала вслух, что не нашла во мне божественной взаимности.
Я понял и не понял ее. Филин заметил, что она нуждается в лечении.
– Лети со мной, поищем одну известную мне травку, – сказал он как-то к вечеру, когда Тоина задремала, спрятав голову под крыло и погрузившись в никчемное упоение сна.
Мы пролетели над равниной Пещер, потом направились к долине Инкьодато, гнетуще мрачной от беспощадного солнца и плавающих в небе коршунов.
– Это здесь, – сказал филин.
Мы стали снижаться, неторопливо, как того требовал почтенный возраст дядюшки Микеле.
– Лети за мной, – повторял он.
Я мало верил в целебную силу трав.
– Она растет на крутых скалах, – бормотал филин.
Вскоре он опустился на склон крутого утеса. Я последовал за ним. Он приблизился к крошечному кустику со словами:
– Вот первая из трав. Это рута.
Мы набрали в клювы по пучку, потом направились в глубь долины и там, пролетая над самой Землей, нашли другую траву.
– Это майоран! – воскликнул дядюшка Микеле.
Наконец мы нашли последнюю из нужных трав, и филин так напыщенно-гнусаво произнес «тимьян», словно хотел воспеть хвалу целебным свойствам травы.
Невозможно описать, до чего душисты были эти травы; друг мой, нарвав их и разобрав одну к одной, вымыл их затем в узенькой канавке, причем рыбы и лягушки повысовывали головы из воды, изумленные, быть может, этим доселе невиданным занятием.
– А вы уверены, что эти травы помогут? – спросил я.
– Тихо, тихо, тихо!
На обратном пути я нес пучки трав в когтях, а дядюшка Микеле объяснял мне, сколь разнообразны и многочисленны целебные свойства руты, тимьяна и майорана. Мывдвоем забрались в гнездо филина, и он стал клювом и когтями растирать листья, смачивать их слюной, превращая в кашицу, затем сделал из этой смеси несколько маленьких шариков.
– Готово?
– Сейчас, сейчас.
Мы дождались, пока Тоина проснется. Она была все такой же ленивой и вялой и, желая что-то сказать, только бормотала с утомительным однообразием:
– Мнямнямнямня…
– Это симптом болезни, – шепнул мне на ухо дядюшка Микеле. А ей он сказал: – На, попробуй. Мы их сделали для тебя.
Тоина понюхала ароматные шарики и воскликнула:
– Вкусно!
Она съела два или три.
Не стану отрицать, это помогло ей.
Конечно, выздоровление шло медленно, и я заметил улучшение только тогда, когда Тоина, говоря о любви, перестала прямо называть меня, она даже стала реже произносить мое имя, а только временами спрашивала сама себя, от каких причин в душе рождаются небесные чувства.
– Ей лучше, – потихоньку сказал я другу.
Мы с ним ежедневно летали в долину Инкьодато за новой порцией трав. Теперь я сам научился разбираться в них и даже умел различать с высоты, учуяв запах руты или майорана.
– Как ты наловчился, – говорил мне филин.
Здоровье Тоины улучшалось на глазах, и, по обычаю самок, она уже болтала обо всем подряд, о глупостях и о серьезном, о рождении на свет и о гибели, порою я даже задавал себе вопрос: что дали ей травы дядюшки Микеле – успокоение или буйство? Она стала иногда покидать гнездо – как правило, в одиночестве. Летала над Фьюмекальдо и его берегами на небольшой высоте, то и дело поглядывая на нашу скалу, откуда мы с дядюшкой Микеле приветствовали ее громкими криками или хлопаньем крыльев.
К моему удивлению и негодованию, она завела дружбу с растениями, и я хотел было отругать ее, однако филин посоветовал не делать этого; по его словам, подобное увлечение так или иначе должно было пробудить в ней любознательность и интерес к жизни и вместе с тем успокоить.
Итак, я ничего не сказал ей, но понял, что дядюшка Микеле гораздо мудрее меня благодаря природному логическому складу ума, и в шутку прозвал его «патруус Вериссимус»[2]2
Разумнейший дядюшка (лат.).
[Закрыть].
Это его рассмешило.
Иногда Тоина проводила время со мной, летая на прогулку, но при этом нечасто бывала веселой, порою ей хотелось отдохнуть на дереве, обычно на фиговом, потому что ей нравился запах его листьев, и, устроившись там, она начинала одну из своих песен, и мелодия наполняла долину.
В общем, я был ею доволен, даже когда она в одиночку летала к пещере возле Фьюмекальдо и там подолгу беседовала с колючим кустарником, усеянным странными белыми цветами.
– Терпение, терпение, – повторял мне патруус Вериссимус.
Однако и сам я как-то незаметно смирился с существованием растений, колючих зарослей и трав и начинал понимать, что бытие не целостно, но изменчиво и обладает бесчисленным множеством лиц.
– Все равно я доволен, – отвечал я дядюшке Микеле.
Наша дружба с филином все росла, помимо прочего, я начал проникаться к нему почтением, хоть ему порою и изменяла память и тогда он спрашивал меня:
– Ты знаешь, кто я?
– Конечно, вы – дядюшка Микеле.
Сперва я думал, что он просто-напросто смеется надо мной или желает порассуждать о скудости наших познаний. Но вскоре я понял, что разум его слабеет по причине преклонного возраста.
Впрочем, это случалось с ним редко и всего на одно мгновение, потом он сразу же приходил в себя и принимался говорить о Тоине и новых снадобьях, которые желал на ней испробовать.
Однако так продолжалось недолго.
Тоина снова загрустила, она говорила только обо мне, называла меня «дух, цветок, светоч, истина», а порою даже, слив все это в одно слово, произносила:
– Духцветоксветочистина!
Тогда дядюшка Микеле один отправился за новыми целительными снадобьями и к вечеру вернулся в сопровождении дрозда: оба с трудом несли ворох листьев, стеблей и корней. Он целый день просидел у себя в гнезде и принес нам несколько душистых смесей. Тоина не пожелала их принять, она опять заговаривалась, рассуждая среди прочего о неких животворящих началах всех вещей. Успокаивалась она только к вечеру.
– Что нам делать, патруус Вериссимус? – спрашивал я.
Старик качал головой, с которой сыпались перхоть и мелкие клочки листьев, и шептал мне:
– Не знаю, Апомео, не знаю.
Я улетал высоко, нырял в какое-нибудь облако и раздумывал над множеством происшедших событий.
Однажды дядюшка Микеле все-таки сумел уговорить Тоину принять целебные шарики. Но всякое лечение, как вы знаете, помогает, только если проводится должным порядком, иначе действие его непродолжительно.
Так и вышло: все оказалось напрасным.
Теперь Тоина разговаривала лишь с тем кустом, покрытым белыми цветами, о котором я вам уже говорил. Она кружила над ним совсем низко, рассказывала о себе, обо мне и о великом страдании, выпавшем ей на долю.
– Тоина, лети ко мне, – звал я.
Она не всегда узнавала меня. Случалось, начинала яростно клевать, принимая за кого-то другого. Только изредка соглашалась она сделать круг в воздухе вместе со мною, и то едва-едва поднявшись над землей; при этом она объясняла мне, что растения во всем подобны нам, хотя и существуют во множестве видов, весьма отличных друг от друга.
– Поднимемся выше, – упрашивал я.
Но все было бесполезно. Какой-то необъяснимый каприз привязывал ее к этой долине, сплошь заросшей колючками и дурной травой.
Однажды мы не нашли ее.
Мы летали там и тут, звали, искали ее повсюду. Нашел ее наш приятель дрозд: она сидела на болоте, беседуя с лягушками, которые, едва завидев меня, тут же прекратили свой глумливый хохот.
– Надо за ней приглядывать, – сказал филин.
И мы договорились следить за ней по очереди.
Дрозд Кратет вызвался помогать нам и ради этого оставил подлески Джанфорте, где жил всегда.
– Вот и хорошо, вот и отлично, – бормотал в первые дни патруус Вериссимус, удовлетворенный тем, как мы несли дежурство.
Когда Тоина улетала из гнезда, мы тихонько следовали за нею, давая ей всласть наговориться с чертополохом, клевером и агавами.
– Терпение, – говорил Кратет.
Как-то раз мы с Кратетом (патруус Вериссимус в это время почивал у себя в гнезде) кружили над рожковым деревом, дожидаясь, когда Тоина кончит излагать свои бредни очередным лягушкам и поднимется вверх, но так и не дождались.
– Что случилось? – спросил Кратет.
– Давай спустимся на землю.
На земле никого не было; цветы закрылись, погруженные в сон, стебли тростника сомкнулись, и за ними ничего нельзя было рассмотреть. Даже воды Фьюмекальдо словно бы задремали.
– О-о! – крикнул дрозд, чиркнув лапами по мелководью, чтобы вызвать лягушек.
Но на поверхности показались лишь горстка песка да обрывок водоросли, тут же уплывший по течению.
– Тоина, Тоина! – позвал я.
Никто не ответил. Мы кружили над местами, где она любила бывать, но не нашли никаких примет, никаких следов, и сама эта тишина, и умышленная оцепенелость всего кругом казались мне дурным знаком.
– Давай разбудим дядюшку Микеле, – сказал дрозд.
Это нелегко было сделать: старик спал мертвым сном, выставив кверху пузо с взъерошенными перьями, весь ушедший в себя.
– Что-что-что-что? – не понял он сначала.
Потом, уразумев, в чем дело, сказал, что Тоина, как видно, желая уберечь от распада свое «я», полетела к морю или в неведомые страны, а быть может, на луну в поисках абсолюта, который, по сути, был не чем иным, как постепенным угасанием ее чувства.








