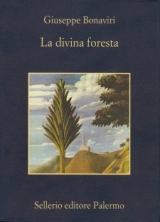
Текст книги "Волшебный лес"
Автор книги: Джузеппе Бонавири
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)

Джузеппе Бонавири
ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС
…Ибо некогда был я
Юношей, девой, кустом,
птицей и рыбой безгласной.
Эмпедокл
I
Надеюсь, что история моя не вызовет смеха или жалости, хоть она и полна событий, берущих начало в те времена, когда не было еще верха и низа, а воздух еще не отделился от поверхности вод. Вокруг меня была пустота и раздавались невнятные звуки, а я, захваченный быстрым движением, смысл коего не мог уразуметь, вопрошал себя: «Что тут? Что там?» И эта моя первая попытка вступить в общение с миром была словно пылинка в непроглядной ночи.
Пока я выжидал, притаившись за прозрачной пеленой, странные тени прибывали со всех сторон и клубились вокруг, и ничего нельзя было разглядеть отчетливо, но всякая вещь виделась сквозь испарения, вихри, водовороты таинственных сил.
– О-о! О-о! – воскликнул я.
В ответ мне грянуло дробное эхо, словно неистовый звон огромной связки бубенцов, и я ощутил холод, затем жар, ввинчиваясь в бескрайнюю первичную материю.
«Кричать бессмысленно», – сказал я себе.
Я простер наружу щупальца – кажется, это было так, – но сразу же втянул их, чтоб избежать первых впечатлений.
Между тем я чувствовал, что продвигаюсь вперед, словно я удлинился и расширился среди неведомого скопища частиц; и, сам не знаю как, перекувырнувшись, нашел себе угол зрения. Тут я увидел крутой завиток, он медленно разворачивался, а от него разлетались, то вспыхивая, то угасая, слепяще-темные линии.
– Хи-хи-хи! – рассмеялся я.
С того мгновения, когда я стал двигаться, и начинается мое существование, потустороннее вначале; не могу сказать, каким было оно: легким либо утомительным, медленным или стремительным.
Нельзя сказать, что я видел в том смысле, как это понимаете вы, имеющие органы чувств. Скорее можно сказать, что я не замечал вокруг следов подобных мне существ, но ощущал в себе некий ритм, обособлявший меня от этой вселенной, бесконечно открытой, ибо бесконечно ускользающей.
Однажды я воскликнул:
– Огонь!
Мне вдруг показалось, будто что-то вспыхнуло. Не знаю, был ли там огонь на самом деле, достоверно лишь, что горизонт впереди то багровел, то наливался тьмою.
Не желая без толку смешиваться с тем, что меня окружало, я решил, что двинусь вперед, первородный и неделимый. Я продвигался, не распространяясь за пределы самого себя, в этом безводном, неодолимом океане, пробирался галереями, где царил запекшийся мрак, и всякий раз оказывался вновь во власти пространства, в котором тянулись длинные хвосты метеоров – они то раскалывались, то пламенели вновь, усеивая весь видимый горизонт.
Но я хотел поскорее окончить это томительное движение, прекратить монотонную жизнь существа, затерянного в глубинах пространства. Я хотел определиться, принять какой-то вид, впитав, вкусив, я чуть не сказал – всосав, жизненные соки извержения космоса – рассеянные в нем электрические заряды или нечто подобное.
Однажды (как могу я сказать иначе об извилистом потоке времени, в котором разворачивалась моя жизнь?)… однажды неизбежное свершилось.
Я плыл среди безрадостных скоплений дымных туч и вдруг, остановившись, ощутил, что со мной совокупилась неведомая сила, возникшая из слияния бесчисленных ничтожных сил.
– Кто соединяется со мной? – спросил я себя.
Думаю, я хотел тогда дознаться, что со мной происходит, что нарушило мое замкнутое единство; я отрешенно предавался тихой радости, когда услышал:
– Наконец-то нас двое!
Это не было сказано так внятно, как я передаю сейчас, а звучало как «Пир-пур, пир-пурпирпур», и чудесным образом вокруг меня стало разливаться тепло.
Теперь, глядя на это издалека и без волнения, я не понимаю, почему так радовался и ликовал, когда влился в иную, извечную ипостась всего сущего.
– Кто ты? – спросил я, едва улеглось первое волнение.
– Кто знает… Наступает наше начало.
Внезапно во мне поднялась как бы волна противодействия этому внешнему возбудителю, затем охватил ужас, и, уже не ослепленный неистовой жаждой, я делал отчаянные усилия, чтобы освободиться, чтобы существо мое, которое я считал безупречно законченным, не сделалось бы чересчур плотным и тяжелым.
– А теперь довольно, – сказал я. – Отпусти меня.
Но нет, какое там! Все было напрасно, мы различались все меньше и меньше, постепенно превращаясь в существа одной породы.
– О Грумина! – воскликнул я тогда.
Поневоле я должен был остаться с этим сгустком космических частиц, проникавшим в меня насильственно, как теперь было для меня очевидно. У нас обоих клетки начали делиться и соединяться между собой; бесполезно было просить, умолять, слезно жаловаться.
– О Грумина, – сказал я, – оставь меня!
Все было напрасно. И тогда я заставил себя легко и весело принять случившееся, нежданный поворот судьбы, превративший нас в единое непостижимое мыслящее нечто.
Я привык к своему новому положению.
Другой на моем месте, возможно, тщился бы, напротив, отвратить роковой исход или стал бы прилежно перечислять все преимущества недавнего прошлого, я же принял это воссоединение как свершившийся факт.
Иные впоследствии говорили мне, что это произошло у меня от неразвитой (в то время, разумеется) склонности к размышлению или оттого, что мне не хватало осторожности, столь необходимой в первобытном мире при случайных или опасных встречах. Не знаю, так ли это. Обсуждение тут неуместно.
Вокруг меня стлалось гигантское газовое облако, оно теснило меня и сидевшую на мне Грумину, а обмен молекулами между нами не прекращался, и сочетания их становились все причудливее.
Мы уже не обращали внимания друг на друга, мы были покорны судьбе и не имели других желаний, кроме как попасть в иную, более светлую часть пространства, где мы не были бы обречены на вечные скитания, куда-нибудь подальше от вспышек молний, грома, бурлящих водоворотов пламени и тьмы.
Короче говоря, простое перемещение уже не удовлетворяло нас, и, чтобы воодушевить меня, Грумина то и дело впивалась (яснее выразиться не могу, ведь у вас нет вместилища чувств, есть только селезенка, да прямая кишка, да детородные органы и все прочее) в какое-то место, не знаю, в какое именно, знаю лишь, что это пробуждало во мне игру фантазии, целую череду образов.
Так, в сопровождении свиты грез, мы продолжали беспечно бороздить вселенную, вовсе не думая, что наши странствия – неразрешимая загадка. Наконец хаос, коему не было ни начала, ни конца, остался позади, и мы оказались в тихом месте, полном рассеянного желтого света.
Грумина спросила меня:
– Ферменцио, где мы?
Трудно определить, с каким чувством я отвечал ей, я больше думал о том, как бы ослабить сотрясавшие нас волнообразные вибрации с помощью точного тормозящего механизма.
– Какое странное место, – сказала она еще.
Мне оно таким не показалось. Я видел край сплошной лазури, окруженный светящимися зубчатыми выступами неосязаемой материи, где царили покой, непрерывная качка и зной.
– Что делать дальше? – спросила моя подруга.
Эта бесконечная болтовня раздражала меня сверх всякой меры, особенно когда ставила передо мной загадочные проблемы.
Поэтому я не ответил.
Под собой я различал подобие колодца, он все расширялся, захватывая планеты – красноватые пласты материи, совершавшие неторопливое вращательное движение; кругом виднелись обломки метеоров, плавали тучи едкого, зловонного дыма.
– Уфф! – Так Грумина выражала свое удивление – думаю, неподдельное.
Этот свистящий звук был не так уж неприятен, однако я не придал ему большого значения, поглощенный зрелищем этого места, объятого сплетением слепяще-белых лучей. Быть может, именно тогда мы перестали жить только воображением, обрели способность рассуждать; теперь для меня это непреложная истина, рожденная простым логическим умозаключением, но в те времена подобные вещи не занимали меня вовсе.
Вокруг разливалось дыхание радости, все исходило несказанной кроткой нежностью, особенно сияющее вдали солнце и вертящиеся планеты, чуждые прежнему хаосу.
О, что за волшебный сон объял меня!
II
Проснулся я расслабленный и вялый. Потянулся и несколько раз зевнул.
«Что мне делать?» – спросил я себя.
Моя подруга бодрствовала, подобная чистой идее, она вся превратилась в зрение. Чтобы окончательно пробудить меня от тяжелого сна, она ущипнула меня за хвост, вернее, за ложноножку, безжизненно лежавшую в космической пыли.
– Все еще спишь, милый Ферменцио?
Ох и надоел же этот пронзительный голосок, трескуче звонкий, прыгающий в воздухе!
– Погляди, Ферменцио!
Вокруг меня многое переменилось.
Объясню вам вкратце. Посредине было солнце, а вокруг, в стройной законченности бесчисленных окружностей, большие и малые планеты, освещенные с одной стороны и темные с другой, плыли по своим эллиптическим орбитам.
– Вернемся, – предложил я, смущенный столь совершенной гармонией миров.
– О нет, – ответила Грумина, снова ущипнув меня. – Вперед, скорее!
И, хоть я пребывал в нерешительности, мы двинулись вперед. Моя подруга говорила мне, привизгивая, как всегда, что настало время получше узнать друг друга, затеяв новое приключение.
Нас словно подталкивал какой-то ветер, и сладостно было оставлять в небе узкий, мгновенно расплывающийся след. Сами не ведая того, мы рассеивали по пути наше семя, и не по нашей воле стало оно потом зловещим, печальным и бедоносным для всех.
Подхваченные спиралевидными гравитационными потоками, мы без всякого усилия оказались на планете (ставшей потом моим пристанищем), которую занимали обширные моря и бескрайние леса, перемежавшиеся горными хребтами и грядами скал.
Пробиваясь сквозь эфироподобную влагу, где мы увязали, а потом освобождались, исчезая и вновь появляясь, подобно падучей звезде, мы устремлялись все ниже и ниже, пока не оказались над горами, которые я назвал Камути, чтобы не путать с прочими; и там, в долине, я впервые увидел горный поток, стремивший воды бурливо и задорно, вопреки их естеству.
– Думаю, здесь нам будет хорошо, – сказала подруга.
Прямо у наших ног зияла трещина, в ней я заметил пучки трав и мха, торчавшие из расселин между камнями.
– Останусь здесь, – сказал я.
Странное дело, Грумина согласилась.
Мы пробрались вверх по влажной, еще не успевшей высохнуть глинистой тропке и, словно робея перед всеми этими созданиями природы, тысячей красок переливавшимися вокруг, притаились за скалой.
Там было неплохо. Я проснулся, чувствуя на себе Грумину, и, хоть ново и неслыханно было положение, в котором мы очутились, без устали глядел наружу, наблюдая за происходящим.
Пока я так смотрел, мне открывались все новые и новые необычайные картины, и под конец я оказался в раздоре с моими же собственными желаниями.
Внизу, в ущелье, зияла пещера, наполненная тенью, а над нею начинался подъем, усеянный камнями и странно неподвижными деревьями.
Признаюсь вам: приучившись различать и делить на разновидности все в окружающем меня мире, я заметил, что при каждом новом впечатлении волнение мое нарастало и это повторялось в определенном ритме.
– Что со мной? – спросил я себя.
Я вернулся в мое темное, поросшее мхом прибежище. Когда я видел, что все краски блекнут, расплываются и гибнут в слабеющем свете, я говорил себе: «Эти изменения преходящи, вот какое им название».
Меня обуревали всевозможные догадки.
– Что ты об этом думаешь, Грумина? – то и дело спрашивал я.
Грумина не отвечала, всецело поглощенная своим занятием: она скакала на мне верхом (выражаюсь так, чтобы вам было яснее) и таким образом вызывала в моем естестве бесчисленные перемены, превращая меня в систему живых органов, какой я никогда прежде не был. Скользя вместе со мной среди мха, она наполняла меня тончайшей россыпью частиц.
– Да оставь же меня, оставь, – говорил я.
Между тем мне захотелось сделать обратимой эту цепь превращений, которую я решил назвать временем (а другие могут назвать бедой, гибелью, воплем отчаяния, созиданием, разрушением и так далее), и, как мне кажется, я хотел бы, чтобы большая часть всего живого не была обречена исчезнуть. Вот почему я стремился обратно в скорлупу прежнего бытия, прежних познаний.
Заметив мою задумчивость, Грумина спросила:
– Чем ты занят?
В страхе, что она не поймет меня, я ответил:
– Смотрю – и больше ничего.
Она улыбнулась и хотела было снова пуститься вскачь, но вдруг как-то съежилась и ушла в себя, успев перед этим двусмысленно усмехнуться. Тем временем снаружи наступил вечер – начавшись в уголке неба, он постепенно захватил его целиком.
Это происходило не так, как теперь, когда сперва убывает свет и птицы смолкают в лесах: тогда из долины поднимался густой туман, приносивший с собой докучное кружение чего-то – я так и не смог определить, что это было. Поток по-прежнему мчал свои воды, но становился едва виден, вместо него оставалось лишь бледное мерцание.
– Что происходит? – спросила меня подруга. Она, по-видимому, вся ушла в какие-то свои игры, делавшие ее бесконечно далеким, почти чуждым мне суетным, мелким созданием.
Вот и хорошо, подумал я, смогу поразмышлять спокойно. Я увидел, что все живое клонилось в одну и ту же сторону, как бы растягиваясь, расширяясь, искривляясь под действием какой-то системы сил. Казалось, что и во мне самом происходит нечто подобное: быть может, это зной отяготил меня или я растворился в самой сердцевине Грумины, которую звал непрестанно; меж тем ни из долины, ни с нависавших гор не доносилось ни звука.
Можете смеяться над моими странными приключениями, но, уверяю вас, они не вымышлены.
Я заметил, что всякая вещь пережила превращение, утратив свой образ, и оставалась такой до тех пор, пока с гор Камути не явилось белое сияние и поток не заблистал снова среди тростника, густой невысокой травы, возле запруды, где росли первые цветы.
– Грумина! Грумина! – позвал я.
Никто мне не ответил – тогда еще не было эха, которое разнесло бы голос на огромные расстояния, – тут я впервые ощутил томление и отвращение к раздумьям.
Там, снаружи, мир все раздвигался так, как я вам описывал, я даже чувствовал это по странному зуду в своих ложноножках. Тогда я подумал, что, если бы мне удалось сократить мой крошечный мирок и подчинить все его части центростремительной силе, я смог бы вернуться в прошлое. В эти минуты во мне нарастало какое-то странное изумление, я чувствовал, как шатаюсь, словно сморенный сном, но еще не понимал, что для меня начинается череда новых жизненных испытаний.
Только много времени спустя я понял, что был бессилен остановить движение мира, который непрестанно раздвигался, изменялся и лишь в некой равноценности очертаний и красок отчасти оставался тем миром, какой я знал прежде.
III
Когда я превратился в огуречную траву, этому не способствовало какое-либо усилие воли.
Это просто случилось.
Я находился на черном остром выступе скалы, уже облепленном первыми лишайниками. Мне надо было успеть всосать побольше влаги, чтобы бутоны мои могли налиться до нужного размера – они всё вылезали и вылезали, не давая мне опомниться, меж стеблем и черенками листьев, покрытыми тоненькими густыми щетинками. Я хотел было задуматься, как это я сумел преодолеть одну преграду и оказался на подступах к другой, но копаться в прошлом было некогда, слишком много было неотложных насущных дел.
Однажды, когда отовсюду исходил несказанный покой, я услышал зов:
– Сенапо! Сенапо!
Понятно, я не обернулся, не зная, что зовут именно меня. Наклонившись, я разглядывал мои бутоны, даже пересчитывал их: один, два, три, четыре и так далее, словно для чего-то нужно было точно знать их число; и вот тот же голос позвал снова:
– Сенапо! Сенапо!
Я поглядел туда, откуда доносился этот звук, и увидел скалу, кругом покрытую сплошным, утомляющим взор ковром вьющихся, сплетенных побегов, (среди которых цветы росли гроздьями либо поодиночке спускались далеко вниз – даю вам слово, вплоть до теснины, где поток обновлял и умножал свои воды.
– Кто зовет меня? – спросил я в растерянности.
Рядом со мной росла ромашка (потом я узнал, что она так называется); она клонилась ко мне, раскачивая венчик.
– Чего тебе? – спросил я.
– О Сенапо, Сенапо! – позвала она опять.
То был радостный зов, без всяких оттенков настроения, и только потом я догадался, что эта попытка завязать беседу была предпринята не с целью совершить какое-либо волнующее открытие, а просто из внезапной (быть может, странной и нелепой) прихоти: почувствовать, что живешь.
– Я Ромашка, разве не знаешь?
Я был немного раздосадован – необходимость без конца наливать бутоны не располагала меня к беседе – и сказал:
– Ладно, ладно.
Более того, я с неодобрением глядел на листья и цветы, быстро и беспорядочно раскрывавшиеся на горе напротив (ее впоследствии назвали Минео), и, быть может, меня снедала бесстыдная жестокая гордыня от сознания, что я окружен толпой низших существ, размножаемых и воспроизводимых многократно, и мучила обида, что и сам я стал одной из их разновидностей.
Но в общем я приспособился. И было там не так уж плохо. Мы стали знакомиться, хотя делалось это, разумеется, очень сдержанно. Один обращался к другому, один подражал другому в сходных обстоятельствах, или все обменивались соображениями о каком-нибудь непредвиденном событии; однако я всегда держался в стороне – возможно, из-за моей дурной привычки к размышлениям.
Вне всякого сомнения, мы не разговаривали, как это делаете вы и как вообще принято это представлять; мы общались иным, более примитивным способом – возможно, потому, что были заключены в слишком тесные пределы. Средством общения был едва слышный шелест или просто изменчивая игра красок, которую мог распознать и правильно понять лишь очень опытный глаз.
Ромашка, пустив корни вширь, приближалась ко мне.
– Добрый день, Сенапо, – говорила она. – Как поживаешь?
Или:
– Отчего ты так насупился? Погляди, вся скала в цвету!
Однажды, помахивая головкой, она поведала мне, что я, как видно, не похож на остальных, ибо непонятно, к чему я стремлюсь, ведь другим довольно сиюминутных радостей.
Я слушал ее с любопытством, это помогало рассеять давящую тоску, донимавшую меня уже не первый день. Ромашка улыбалась мне легким колыханием лепестков.
– Отчего ты не отвечаешь? – не отставала она. – Ты чем-то недоволен? Здесь все довольны всем.
– О Ромашка! – вздохнул я.
Это безбрежное море маленьких растеньиц было всегда одинаковым, волнами пробегали по нему шелесты, шуршания стебелька о стебелек, безжалостный свет был для него бедствием, вид его утомлял взор, ибо оно ведать не желало ничего иного, кроме блаженного трепетания листьев. Это была реальность, на значительном протяжении своем замкнувшаяся в неизменном тождестве красок и настроений.
В этот день приступ тоски был сильнее обычного, даже мне самому он внушил отвращение, ибо начался беспросветно унылым флейтовым звуком. Длился он дольше, чем когда-либо, и я вспомнил Грумину, которая больше не была со мной и блуждала теперь по каким-нибудь иным планетам, гонимая ветром или неведомой колдовской силой.
Я вздохнул раз-другой, чтобы рассеяться, и поглядел вверх, на небосвод, откуда уже изливался ранний зной.
О, что же со мною происходит! – думал я.
Прошло немного времени, солнце палило все сильнее, оно иссушило нас, сделав молчаливыми, чтобы мы не замечали друг друга; для цветов и кустарников кончились дни лени и забав. Один ежевичный куст первым догадался о том, чтó нам угрожает, и крикнул со своего утеса:
– Надо сочетаться браком, не то скоро мы все исчезнем. Мы должны передать пыльцу от одного к другому.
Это была трудная задача.
Летний зной распространился повсюду, и бесполезно было искать влагу, пронзая почву корнями, – они упирались в безводную скалу.
По обоим склонам оврага возникали и унимались глухие раздоры, и повсюду видны были скорбно поникшие лепестки, побуревшие листья.
И тогда у меня впервые проявился комплекс рокового столкновения с окружающим миром.
Ромашка удрученно говорила мне:
– Кто бы мог такое подумать, а, Сенапо?
Однажды, когда я раздумывал, до какой степени все кругом превратилось в символ и бесполезное украшение погибающего мира, я различил очень далекий звук, который вскоре стал слышнее, и это не был обман чувств, но действительное приближение.
Заросли воскликнули:
– Что происходит?!
Звук этот иногда ненадолго смолкал, и горечавки, росшие возле меня, вскрикивали:
– Что же это может быть такое?
А куст дрока (единственный уцелевший на выжженном склоне) сказал:
– Ветер.
Он был несильный, дул с гор Камути продолжительными порывами, которые становились все чаще, и, пролетая, он смешивал нас, переносил пыльцу с одной скалистой террасы на другую, из расщелины в расщелину и даже через русло потока. Клянусь вам, это была целая туча желтой пыли, кружившая то там, то тут, и от нее каждый миг менялся вид всего пространства.
Мы не знали, промолчать нам или воспринять это событие как окончательную катастрофу, и в итоге промолчали, замкнувшись каждый в себе. А я первый понял, что только так мы сможем продлить наше существование и не зачахнуть от зноя этого безумного лета.
– О Ромашка, радуйся, – сказал я.
Ветер продолжал заигрывать с нами, прыгал по прожилкам листьев, сгибал вянущие темные стебли.
– Почему ты так говоришь, Сенапо? – вполголоса спросила Ромашка. Она была уже не белая с желтым, а походила скорее на труп, с обнажившимися корнями.
Так для нас начался новый этап в жизни. Вместо нас родились другие растения, но это были те же мы, и облик был тот же, мы просто размножились различными путями, преодолев беды, муки и лишения. Я сам после этого превращения без особого труда нашел себя: листья, бутоны, тычинки – словом, все было таким, как прежде.
Следует добавить, что в наших чувствах наступила перемена, как будто в этом сообществе зародился простейший вид знания.
В самом деле, какой-нибудь хрупкий ползучий росток или совсем молоденький дубок с еще пунцовыми от недостатка хлорофилла листьями, услышав, как ветер сердито скребется по оврагам, говорили:
– Вот Бог Ветер.
Кончилась моя тихая жизнь. Должен вам сказать, такие выражения задевали меня. И я замкнулся в негодующем молчании – по правде говоря, не слишком для меня выигрышном.
На той стороне тоже находились такие, кто говорили:
– Вот Бог Ветер! Бог Ветер!
Когда в разгар весны он заставлял себя ждать, все замирали в смутном ужасе перед жалким концом, который наступил бы для них без опыления; даже я, честно говоря, обращал вверх мои соцветия в надежде на скорое возвращение ветра. Тем временем у меня появился новый друг – красный кустик валерианы (его звали Ордирио), пожелавший расти прямо надо мной, чтобы веселить меня, когда я бывал не в духе.
– Сенапо, – говорил он мне, – не гляди внутрь себя. Разве ты не видишь, как изменчиво все снаружи?
Благодаря ветру растительность стала гуще, многие кусты и травы переменили место и положение, и теперь уже нелегко было отыскать клочок голой земли, ибо оливы, миндальные деревья, агавы, травы и первые опунции заполнили все пустоты, словно притянутые друг к другу неодолимой жаждой любви.
– Ты прав, Ордирио, – ответил я. – Все переменилось.
Как видно, эта земля, названная Сицилией, властью потаенных сил взламывала и покоряла несокрушимую скалу, утверждая на ней царство зелени и цветов.
К счастью, появились первые пчелы, бабочки и жуки в красных хитиновых панцирях. Эта пора была для меня самой счастливой за все время моей бытности растением. Вокруг меня прибавилось движения, это уже не был прежний пустой, звенящий от ветра воздух.
Бабочки тогда все были белые, с бледно-голубой кромкой на крыльях и летали стаями, держась довольно далеко друг от друга.
Глядя, как они порхают, я переполнялся наслаждением, какого не знал дотоле.
Особенно нравились мне одинокие шмели, которые своим жужжанием распугивали бабочек. Те поспешно улетали прочь, избегая презренных перепончатокрылых.
– О-го-го! – говорила, завидев их, Ромашка.
Поглощенный этими играми, я забыл о собственных трудностях (кто знает, быть может, я вырождался в простую материю?). Мало-помалу пчелы и шмели стали казаться мне уже не далекими, едва различимыми точками, рассеянными в воздухе, а занятными существами, с которыми мне хотелось завязать дружбу.
И вот однажды один шмель (я назвал его Иррумино), устав от золотистой солнечной пыли и от блужданий по долине Фьюмекальдо, опустился на один из моих цветков.
Знакомство было не из легких, ведь я, как вы знаете, был весь покрыт колючими волосками и щетинками и потому Иррумино должен был пробираться так, чтобы не задеть листьев, когда нацеливался на сиреневый колокольчик цветка.
Я словно преодолел какой-то барьер. Не только растения и цветы вокруг, вседневно возрождавшие меня самого посредством одних и тех же символов, зажили новой жизнью, но и сам я почувствовал оживление в некой области, неведомой прежде.
В то время для меня всякий предмет был сгустком красок, рождавшим одни и те же световые лучи. Они отражались моей верхней поверхностью, нижней поверхностью, а также центром, освещая, таким образом, все в целом. Это было просто, ведь растения неподвижны. Теперь, когда появились пчелы, шмели и бабочки, я приметил, что повсюду распространялись колебания света – очень слабые, но расходившиеся концентрическими кругами, как приливающие волны. Я отвлекся от привычных занятий с другими растеньицами и, не стану спорить, забавлялся этим бескрайним колыханием волн – оно слегка щекотало меня и навевало приятный сон.
– Вот еще одна новость, – говорил я себе.
Известно, что перепончатокрылые непоседливы; от их непрестанного снования туда-сюда возникали темные и светлые полосы в прихотливом сплетении красок на моих листьях.
Изумление возрастало, когда в поле обзора вдруг не попадало ничего, оставалось лишь пустое пространство. Я пытался, насколько это позволяла моя природа, войти в соприкосновение с лучистыми зигзагами светотени, которые были не что иное, как биение крыльев бабочек и их извилистый полет.
И потом, как я вам уже говорил, мое внимание занимал Иррумино – для меня он был излучавшей яркий свет точкой, поминутно реявшей вблизи.
Однажды утром он покружил возле меня, залетел в один из моих колокольчиков и там (как бы это получше объяснить?) задвигался, обшаривая меня и высасывая мой нектар. Это вызвало у меня странное, но приятное ощущение, какое бывает, когда пригрезится радостное событие.
Думаю, он проник в меня уже с первого раза.
Когда он улетел, быстро растворившись в воздухе, меня охватило оцепенение, и вот тогда, наверно, я впервые подумал, что познавать мир надо по-иному: принимая его звуки, краски и линии как повторяющиеся варианты нас самих.
Дружба наша продолжалась.
Я научился распознавать Иррумино по особой манере рассекать воздух: он не снижался, описывая небольшие круги, но, как бы рассчитав для себя параллелограмм сил, спускался прямо ко мне, весело шевеля усиками, раздвигал тычинки, осыпавшие пыльцой его крылья и хоботок, и проникал в глубь колокольчика.
Что я ощущал в эти мгновения? Не могу сказать вам. Несомненно, он зачаровывал меня, ибо я ничего не видел и не слышал – ни солнца, ни горного потока, ни бабочек.
Такие встречи доставляли огромное наслаждение, которое не убывало и не омрачалось со временем. Вылетев из цветка, Иррумино принимался весело виться надо мной; думаю, другие растения глядели на нас в упорном молчании и даже ветер удалялся – то ли от мнимой стыдливости, то ли из боязни утратить славу божества.
Ромашка, выдвигая корни, медленно перебиралась в сторону от меня к пригорку, поросшему клевером и молоденькими масличными деревьями.
А я не обращал на нее внимания. Я был словно в каком-то надзвездном пространстве, во власти нового для меня стремления к потустороннему; не знаю, мог ли я тогда снизойти до обычного чувства. Я осознал, что мне открылись иные образы. И когда шмель вился возле меня, выделывая в воздухе замысловатые пируэты, я изучал вблизи строение его тела и исходившие от него преломленные лучи. Таким образом, я видел его и в уменьшенном, и в увеличенном виде.
Потом случилось так, что Иррумино дал мне понять, насколько я ему нравлюсь; он, надо отметить, был весьма искусен в любовных поединках.
Для меня же он был предметом, охваченным вибрациями, меняющимся в размерах и, быть может, рассеивающим ионизированные частицы.
– О-о-о! – восклицал я.
Когда Иррумино был далеко, он виделся мне иным, совсем крошечным, а я глядел на него сквозь тесноту моих соцветий и в щели между листьями, без устали дивясь на него и восхищаясь им; и все же для меня он был лишь светящейся точкой, которая наделяла смыслом громадный простор небес.
Он прилетал утром и вечером в одни и те же часы, когда все краски долины менялись, словно приглашая насекомых, растения, лягушек и змей прервать вседневную болтовню, чтобы взамен вкусить бесценное утешение дня.
Однажды Иррумино, быть может устав от прилежных трудов, так и заснул в моем колокольчике. Я тихо-тихо баюкал его, боясь, как бы кустики горечавки, валерианы, крапивы не принялись разглядывать нас в ужасе или в растерянности. Между тем во тьме наступившей ночи разлилось какое-то белое сияние.
Проснувшись, Иррумино спросил:
– Сенапо, что случилось?
Я сказал, что держал его в гинецее моего цветка, повинуясь простейшему закону жизни, а друг мой ответил, что ему понравилось быть внутри меня, где никому бы не вздумалось его искать, ибо огуречник слывет растением странным, колючим и нелюдимым.
Это было сказано не вполне искренне. Он смутился; но мало-помалу из шороха и жужжания мы создали себе язык, и только тогда я узнал, что Иррумино было хорошо со мной потому, что, неведомо для меня самого, мы пришли к единству чувств и красок. Он говорил, что я очень много знаю, и это заставляло меня улыбаться (по-своему, медленно отряхивая лишнюю пыльцу) – я не хотел его огорчать. О чем бы я ни заговорил – даже если это было не очень интересно слушать и очень трудно понять, – он приходил в восторг, и беседы наши все больше оживлялись, неизменно сотканные из воображаемых слов.
К сожалению, вскоре я убедился, что Иррумино умел только летать и любить и никакие иные затеи не прельщали его – даже попытка изменить свой облик во времени.
А он, видя, что мое воодушевление ослабевает, в какой-то мере становится показным, спросил однажды:
– Что это с тобой?
Я не ответил, стараясь обратить в веселье охватившую меня скуку.
В тот день Иррумино улетел от меня опечаленный. Я заметил это по нешироким виткам, которые он совершал в полете.
Прилетая потом, он не раз спрашивал:
– Скажи, Сенапо, что с тобой?
Из сочувствия я продолжал принимать его в свой гинецей, но от печали, о коей я уже упоминал, лепестки мои никли и вяли.
Однажды я сказал ему:








