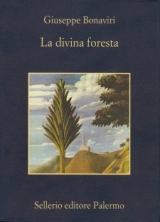
Текст книги "Волшебный лес"
Автор книги: Джузеппе Бонавири
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
– Иррумино, столь многое в мире изменчиво.
Он спросил, что я этим хотел сказать.
– Как тебе объяснить? – продолжал я. – Во всем живущем происходят перемены.
Я попытался объяснить причину моего томления и некоторые законы мимолетности, но это было бесполезно: он не понимал меня и, как всегда, пытался рассеять мое уныние, участив и усложнив затейливые полеты вокруг меня, ибо чувствовал, что наша связь распадается.
Лето в том году выдалось необычайно жаркое, даже жарче того, что я уже описывал. Не каждому растению хватало тени от олив и миндальных деревьев, росших на всем обозримом пространстве.
Поток почти высох, и тонкая струя его, словно обезумев, билась о камни, но постепенно жалоба эта стихала, растворялась в безразличной покорности перед лицом близкой гибели. И раскаленные камни бесконечно долго удерживали жар. Даже сейчас, если идти вдоль Фьюмекальдо (как с тех пор нарекли этот поток), со стороны Камути найдешь под скалой горячий ключ: вода его еще не остыла.
Мне, однако, все это пошло на пользу. Объясню – почему. Иррумино прилетал теперь только утром – зной мог повредить этому хрупкому созданию – и старался развлечь меня всевозможными играми.
А мне, как я уже говорил, все опостылело, и в первое время я, сам того не желая, утратил все познания о мире, лишился всех своих способностей.
Прочие же растения, по правде говоря, ничему не научились в то лето и даже не подозревали, что тут можно было чему-то научиться.
Иррумино приносил мне последние новости.
– Жара не спадает и в других долинах. Даже в горах.
Я притворился, будто мне интересно.
– Кто тебе сказал?
Друг мой стал рассказывать о каких-то своих расчетах, о более жарких и менее жарких слоях воздуха, сквозь которые он пролетал, но говорил все это для пущей важности, на самом деле ему страшно было летать под палящим солнцем.
Я глядел на него искоса и видел в нем лишь возможную ипостась меня самого, беседующую со мною же; даже преломляемые им лучи были какие-то бледные, слабые.
Однажды он сознался, что все эти новости узнал от первых птиц, недавно появившихся на Сицилии.
Я говорил «Да, да», чтобы сделать ему приятное.
Объясню вам, в чем было дело. По ночам, когда кусты, травы и даже лягушки были скованы долгим, глубоким сном, я думал свою думу. Я хотел доказать себе, что все живущее должно погибнуть, и не просто затем, чтобы погибнуть, но повинуясь закону превращений. Как я мог сказать такое моему другу, умевшему только жужжать да перелетать с цветка на цветок?
И потому мне смешно было его упорное желание ставить преходящее выше истинного, к которому стремился я сам.
Я решил тихо уничтожить себя самого и не слушать, что скажут соседи, быть может удрученные моим состоянием.
– Это ни к чему, – бормотал я.
Я вздумал расстаться с моим тогдашним бытием и обрести иную природу.
– Это будет нетрудно, – подбадривал я себя.
Я не мог поверить, что для меня все будущее сведется к бликам света, к роению активированных частиц и к неудавшейся беседе с колючими кустарниками, пчелами, потоком, скалами и завихрениями ветра.
– Добьюсь своего, – говорил я себе.
Первой моей задачей было свернуть листья поплотнее, чтобы воздух меньше овевал их и они не могли бы расти; так мне удалось наполовину уменьшить ту мою часть, что была простерта наружу. Это оказалось нелегко, к тому же я не мог проверить, какую форму принял. Долгие часы ушли на то, чтобы с помощью хитрейших уловок тайно подстроить ловушку самому себе.
А однажды, когда все застыло в неподвижности, когда на горе Минео нарастал зной и разгорался непомерный свет, клонивший долу оливы и опунции, я решил не вбирать больше влагу из земли, где родился, тут, на самом краю оврага.
– Будь стоек, – шептал я себе.
Дело было трудное, ведь следовало вытащить корни, облепленные землей; однако я добился и этого – медленно, с невероятным усилием растаптывая собственную душу.
Делал я это так: когда влажный отросток корня хотел напоить меня, я перекрывал доступ влаге, выворачивая корень в сторону, противоположную этому маленькому водоносному сосуду. Конечно, то была мука, смертельный недуг, порой я падал духом, полагая, что действия мои не дадут желаемого результата. Крохотные каналы, по которым двигались соки, сужались, а потом их заполняло студенистое вещество. Я притаился, напрягая все силы, все меньше и меньше внимания обращая на происходящее вовне и на обширнейшие участки зелени, растерзанные солнцем.
Полагаю, что зной слабел и убывал изо дня в день, а может быть, мне это только казалось, ибо я начал освобождаться от докучной обузы плоти. Во всяком случае, я с каждой минутой все больше и больше терял упругость. Очевидно, я выбрал правильный путь.
Иррумино теперь почти не расставался со мной, все время вился поблизости, охваченный беспокойством; особенно его тревожило то, что на обоих склонах долины облик других растений не изменился.
– Сенапо, что с тобой случилось? – спрашивал он.
И удалялся, навещая другие цветы и прося их о помощи, но у каждого были свои нелегкие заботы, и никто не мог дать дельный совет, говорили только:
– Скоро появится вода с небес!
Я замечал, что между мною и почвой образовалось равновесие противодействующих сил, но продолжал отчаянно бороться, стремясь завершить мутацию.
Иррумино невольно помог мне.
Однажды, летая вокруг, он вонзил жало в мой стебель. Эта часть стебля скоро высохла.
Вот и хорошо, подумал я, несмотря на сильную боль.
И сказал:
– Иррумино, поищи воды и принеси мне. Может быть, спасешь меня.
И вот маленький шмель, не сумевший слиться со мной в нерасторжимое целое, не понявший меня, хоть и безмерно довольный нашей встречей, принялся за свою смертоносную работу. Он стал делать то, чего не делал никогда раньше: отравлять меня, вонзая свое жало повсюду – в развилку корней, в стебли, в черенки оставшихся листьев, даже в верхушку, – и делал это с похвальным усердием, видимо желая продлить нашу близость на возможно более долгий срок.
– Как хорошо! – шептал я. – Продолжай!
Иногда, устав от этих трудов, он садился на то, что от меня осталось, и печально жужжал, быть может непроизвольно оплакивая недавнее прошлое, случайности и заблуждения, соединившие нас.
Я сумел все-таки обособиться от почвы, выделяя клейкую жидкость; после этого я превратился в едва различимый темный остов.
– Сенапо! – то и дело окликали меня с цветущих склонов, но я, поглощенный саморазрушением, словно бы не слышал этих голосов.
Иррумино улетел, потом вернулся с целой стайкой своих родичей, и все они с жужжанием стали носиться вокруг меня.
Появилось нечто новое: я перестал ощущать собственный временной ритм; и мне казалось, что цветы, пчелы, воздух, зной – лишь пустые, бессмысленные явления.
– Что со мной? – спрашивал я.
Тем временем начали опадать листья, они слетали легко, ложились на землю или без устали крутились в овраге.
Как я уже говорил, я, судя по всему, больше не чувствовал ни удовлетворения, ни недовольства, а только бесстрастно преломлял световые лучи да следил за центробежными процессами, происходившими внутри меня.
Тому, кто смотрел на меня со стороны, могло показаться, что я становлюсь все меньше и меньше: почти не оставалось уже тычинок, лепестков, бутонов. Но при этом я чувствовал, как разрастаюсь в каком-то другом гравитационном поле, в каком-то другом измерении. Что-то нарастало у меня внутри; думаю, то была просто-напросто деформация занимаемого мной пространства.
Но остальные видели только убогий остов растения, вянущие стебли, опадающие листья.
Я почти ничего не видел, из внешнего мира до меня лишь изредка доходили световые волны, но я не замечал их, я презирал этот знойный, без единого дуновения, воздух, эти густые заросли трав и кустарников и даже собственное поразительное превращение, которое ощущал одновременно во всех частях тела.
От Иррумино в моей памяти остались не веселое жужжание, не стремительные перелеты от меня и ко мне, а лишь еле видный цветной зигзаг или колыхание воздуха в моем родном овраге. До меня доносился какой-то рокот – то ли он шел от Иррумино, то ли от других, – и я не могу с уверенностью сказать, была ли то музыка, или какое-то странное звяканье, или треск; помню только невнятные, едва различимые звуки:
– Necmihiconsuetosamplexunutritamores… amores, Senapenecnostradulcisinauresonat…[1]1
«Не насыщает моей любви, как бывало, в объятьях / Кинфия, голос ее сладко в ушах не звучит» (лат.). Проперций, I–XII. Цит. по кн.: Катулл. Тибул. Проперций. М., «Художественная литература», 1963. У Бонавири «Кинфия» заменена на «Сенапо». – Примечания переводчика.
[Закрыть]
Словом, это был нежно-заунывно-трескучий погребальный плач, то смолкавший, то звучавший вновь, но я был слишком поглощен созданием собственной исключительной структуры, могущей опрокинуть прошлое и связи, на которых оно держалось, и не мог внимательно вслушиваться в эту мелодию.
Правда, в какую-то минуту возник страх утратить истины, обретенные в эти годы, и тогда я признал всякую вещь обманом и подумал, что Иррумино для меня был лишь чистым понятием в бесплодной погоне за знанием.
Не знаю, как удалось мне обнаружить струйку воды меж двух расселин в камне, можно было напиться, но я отвел от нее последние уцелевшие корни, отторгнув навсегда прекрасное обличье растения, присущее мне прежде.
Ромашка и остальные – чем были они теперь? Безмерно далеким, в пятнах светотени переплетением каких-то линий.
Помню только, что некая колючка вздумала прийти мне на помощь (правда, под впечатлением общей беды) со своего уступа на гребне скалы. Она захотела утолить мою жажду. Невероятно, да? Воодушевленная этой благородной целью, она молниеносно взрывала шершавые коробочки плодов, разбрасывая семена и брызги жидкости, часть которых долетала до меня.
– Давай-давай, – сумел выговорить я.
Потом я понял, что ей нужно было главным образом воспроизвести себя на большом расстоянии и вряд ли я так уж занимал ее в эти трудные дни, ведь, живя там, на вершине скалы, она, наверно, считала себя хозяйкой всей долины.
И вот мне остались лишь снопы лучей, отбрасываемые выступами и провалами, преградами и прогалинами, да певучие волны, набегавшие одна на другую. Под конец я слышал непрерывный поток звуков, мое ослабевшее внимание бесчисленное множество раз подхватывало и теряло его. Раскаленный зноем воздух – и эта вековечная, застывшая песнь.
Но мне все было безразлично.
Я дошел до крайней черты, последние мои корни засохли и вылезли из земли, я мог выхватить из тьмы лишь какие-то смутные очертания и уловить время от времени какие-то невнятные голоса.
Быть может, я доверил налетевшему ветру то, что от меня осталось, и унесся с ним; во всяком случае, я долгое время ничего не сознавал; но думаю, что существование мое продолжалось – в виде сгущавшейся материи либо стремительного движения воздуха.
Я пробыл в этом состоянии довольно долгое время, но постепенно начал узнавать себя в новом, странно неуклюжем обличье и возликовал, словно внутри у меня отдавалось непривычно звонкое эхо.
– О, охо-хо-хо! – крикнул я.
Так я превратился в птицу и начал свой полет в залитом светом безбрежном просторе.
IV
Не всякому дано превратиться в ястреба на горах Камути, да и что за наслаждение рассекать воздух то одним, то другим крылом!
– Вот здорово, – сказал я себе. – И кто бы мог подумать!
Я был немного растерян: не привык еще к раскованности моего нового бытия, к непостижимой прозрачности обнимавшей меня пустоты. Поэтому, должен вам признаться, в первую минуту я был ошеломлен, когда почувствовал, что, слегка покачиваясь, парю в воздухе.
– О-о! – неустанно повторял я.
Это был не просто возглас удивления, а еще и способ распознать себя в сочетании множества разных элементов, составлявших мое новое существо. Тем временем я поглядел вокруг, поглядел вниз, в долину, где, как мне показалось, не было ничего похожего на оставленное там, и рассмеялся при мысли, что мог принять эти отдаленнейшие подобия растений за образ собственного прошлого.
Я свободен, могу лететь куда захочу!
Так бывает каждый раз, когда мы замечаем, что стали другими, сбросили с себя бремя горестей, страхов, бессонницы и тому подобного.
Я мог лететь куда вздумается – на юг, на запад, на восток, юго-восток, северо-запад; все эти направления были неотличимы друг от друга в небе над Минео, над этими склонами, поросшими оливами и миндальными деревьями.
По правде говоря, я не ломал себе голову над происшедшим. Мне просто нравилось учиться летать и так, и эдак, вверх, вниз, стремительными кругами, снова и снова испытывая наслаждение от ощутимых переходов из одного слоя воздуха в другой.
– Вот здорово, вот здорово! – говорил я себе то и дело.
Я пробовал нырять вниз головой, и тогда мне казалось, что земля и небо бросаются в бездну вместе со мной, я ввинчивался в круговорот потревоженного воздуха, затем снова и снова поднимался ввысь и при этом чувствовал себя лучшим из всех, противостоящим всем и нерасторжимо связанным со всеми на свете.
– А ну-ка переплюнь меня! – говорил я.
Но это длилось недолго. И вот почему.
Я почувствовал голод. Не могу объяснить вам, что это было.
Внезапно я понял, что опустился до состояния смертной твари, и, куда бы я ни повернулся, сразу во мне воскресала забытая наклонность к созерцанию. Теперь уже она не была простым томлением, но леностью ума, крыльев и полета.
– О! Что со мной?
Я застыл на мгновение в воздухе, разглядывая лежащую внизу долину, и вдруг увидел крохотную точку, двигавшуюся по скале, что нависала над Фьюмекальдо.
– Нашел! – воскликнул я.
Это, как я думаю, не был настоящий крик – просто краткий звук, грозно разнесшийся над всеми видимыми и невидимыми вещами в моих земных владениях.
Я стал медленно снижаться.
Когда я был уже над самой скалой, то заметил белого кролика, пробиравшегося сквозь заросли.
– Хи-хи! – вырвалось у меня.
Я вдруг ощутил внезапное влечение к этому кролику, что было, в сущности, не чем иным, как ощущением собственной тяжести или просто чувством угнетенности. Я неподвижно парил на распростертых крыльях. Природа, казалось мне, растворилась в глубоком бесстрастии форм. Кролик остановился, словно повинуясь некоему древнейшему закону.
– Вперед! – воскликнул я.
Камнем упав на кролика, который без единого звука распластался подо мной, я запустил когти в его загривок и ощутил при этом ни с чем не сравнимое наслаждение.
Какой он мягкий, подумал я.
Кролик перевернулся на бок на белом известняке скалы, я запустил в него когти поглубже и, клянусь вам, не чувствовал себя злодеем, это было просто приобщением к новой форме жизни.
Кролик жалобно пищал. Лишь много спустя мне стало ясно: он тщился понять, что с ним случилось, почувствовав, что жизнь повернулась к нему обратной стороной и сторона эта была страданием. Кровь текла у него из глаз и изо рта. А я стал клевать его, возбужденный аппетитным запахом.
Он все еще стонал: «Что случилось? Что случилось?», тщетно пытаясь вырваться из моих когтей.
Впервые слышал я такую однообразно жалобную речь, звук ее то нарастал, то затихал в одном и том же ритме.
Я перевернул кролика. И увидел его белоснежное, уже в пятнах крови, брюшко.
– Хватит хныкать, – сказал я ему, весь во власти этой новой, захватывающей игры.
Кролик, сотрясаемый непрерывной дрожью, глядел вокруг полными слез глазами и, быть может, только теперь заметил непроницаемое равнодушие растений.
Я прикончил его несколькими ударами клюва и, набравшись терпения, подождал, пока из него вытечет кровь.
Он лежал скрючившись возле кустика горечавки, который только чуть-чуть возвышался над ним и не давал тени.
– Я голоден, – сказал я себе.
И принялся за еду. Спокойно, без ожесточения. И не подумал, что, делая так, покидаю пределы своего «я» и вливаюсь в окружающий мир.
Все безмолвствовало. Лишь удары моего клюва эхом отдавались в тишине, даже поток, казалось, прервал свой бег.
– Кто счастливее меня? – воскликнул я.
Наконец, когда от моего пиршества осталась кучка мелких костей, я медленно взлетел сквозь ветви оливы и оттуда увидел пять или шесть кроликов, они глядели на меня из широкого отверстия в земле и на своем языке говорили, что наверху, над ними, совсем пусто, а про звуки, доносившиеся со стороны Минео, говорили, что это им просто почудилось.
– Пусто, пусто, пусто, – услышал я.
Я хотел было вернуться ввысь, в неведомый угол неба, чтоб не слышать докучных слов, но не смог: во мне появилась тяжесть. Не знаю, как объяснить это вам. Ум мой был свободен от каких-либо мыслей. Вокруг пахло кровью и травами, сожженными солнцем.
– Ох-хо-хо! – пробурчал я.
И все же то было блаженство в полном смысле слова, прорыв из былого в нечто новое, непохожее. Кролики белыми пятнами мелькали у входа в свою нору и все время жалобно повизгивали, словно были начисто лишены воображения и не понимали, что для меня они стали одной из струн мировой цитры.
– Ах-ха-ха! – рассмеялся я.
Только к концу дня вернулся я в мои владения и забавы ради принялся описывать изощренные круги в воздухе, переносившие меня из этой долины в иную область, где ничто не тревожило, даже полузабытое желание вернуться в достойное смеха и порицания прошлое.
Охота стала для меня удовольствием, и не всегда только голод побуждал к ней: передвижения животных, нарушавшие уныние долины, сами по себе привлекали меня.
Я научился правильно охотиться. Поднявшись в воздух, отправлялся на поиски добычи, казавшейся мне единственным островком настоящего среди однообразной протяженности цветов и растений.
С рассвета я принимался за дело.
– Вперед! – говорил я себе.
Вначале я летал просто так, для разминки, вновь и вновь бросаясь в необъятный, прохладой дышащий простор. Оттуда глядел вниз и постепенно различал четко даже то, что происходило в овраге.
– Еще виток-другой, – говорил я.
И спускался пониже, паря над верхушками деревьев. Оттуда охватывал цепким взглядом горизонт, и если, предположим, замечал ящериц, то с легкостью учащал взмахи моих крыльев. Змеи, метнувшись, исчезали между камнями или в кучах сухой травы и, чувствуя, что действительность их исказилась, спрашивали себя: «Что это за тень, внезапно являющаяся с высоты?»
Ну скажите, пожалуйста, какое мне дело было до их испуга? Для меня это была забава или скорее прельстительная игра, противопоставлявшая меня их живому океану.
– Ввысь! – командовал я себе.
И снова поднимался вверх, как по отлогому склону, держа в когтях двух змей; вырванные из своего земного предела, вознесенные в неведомые края, они спрашивали:
– Кто ты? Бог всемогущий?
Вот потеха!
Охваченные ужасом, они обвивались вокруг моих черных лап. Я же поднимался все выше, не ведая, что и сам я лишь видимость и все отличие мое лишь в том, что я могу переноситься с места на место и видеть природу, как она есть, явленную в тысяче обличий и веществ.
– Кто ты? – все спрашивали змеи.
Я замирал на месте. И, словно вторя мне, все лежащее внизу замирало тоже. Разжимал один коготь, затем другой, и крохотные создания падали. Падали, крутясь винтом, право же, это было страшно забавно, и, скатываясь с верхнего слоя воздуха в нижний как по бесчисленным ступеням, вплоть до последней, они все еще спрашивали:
– Кто ты? Бог всемогущий?
Быть может, своевольные эти поступки нарушали стройный порядок мироздания своей излишней причудливостью. Змеи разбивались на мелкие куски о камни Камути.
– Вперед, поищем что-нибудь другое, – говорил я себе.
И спускался к потоку.
Я садился на молоденький дубок или на куст ежевики. И там ждал, пока всплывут на поверхность рак или рыбешка в поисках новых познаний, какие не встретишь в надоедливом обилии вод.
Я подстерегал их. Взмах крыльев – и я уже над огромными валунами, среди которых несла свои воды Фьюмекальдо; я хватал клювом этих рыб и выбрасывал на берег – по одной, по две, а то и сразу по три. Иные пытались соскользнуть обратно в воду, но не всем это удавалось. Потому что я садился на камень посреди реки и вытаскивал их. Кругом слышались их сетования, они жаловались на меня, но без толку, я вылавливал все новых и новых, подымал их в воздух и швырял в кусты ежевики или на плети плюща.
– Что случилось? – дивились они.
А мне нравилась прохлада вод, порой я даже окунал туда крылья и, не буду спорить, от души веселился, глядя, как глупые, глупейшие рыбы мало-помалу прекращали свои жалобы и замолкали, бедняжки, судорожно хватая воздух ртом.
А еще я искал раков, клювом переворачивая камни, под которыми они прятались. Они угрожающе протягивали ко мне клешни, но я когтил их и бросал в колючий ежевичник.
Потом снова принимался летать среди миндальных деревьев и олив, всегда одинаковых по величине и расположению, и начинал петь; не знаю, ласкало ли слух это пение, но, возвысив голос, я наполнял звуками долину так, что вся она гудела. Заслышав меня, кусты, цветы и травы клонились к земле, а я то и дело разражался смехом, ибо чувствовал себя самой природой, духом и словом божьим.
Так создалась легенда обо мне. И я узнал, что в этом копошащемся мирке был признан богом, мудрым и всеведущим, на самом же деле я не ведал иного, кроме моих забав да неистового желания переноситься из близкого места в далекое.
Но где два, там и третье, вы это знаете. И вот что случилось.
Однажды ночью я спал в расселине скалы, спрятав голову под крыло, и не слышал, не чувствовал ничего, ровно ничего, разве что – собственное тяжелое забытье. И вдруг проснулся: и снизу, и сверху на меня надвигался какой-то смутный непрекращающийся гул.
– Что случилось? – удивился я.
И хотел было заснуть опять, но гул не умолкал.
– Посмотрим, что там, – сказал я себе.
Со стороны Минео, высоко в небе, где рождалась заря, плыло облако, из которого неслась странная, чарующая мелодия. Мне стало неуютно. Тень эта надвигалась, распространялась по всем направлениям, в первую очередь захватывая мою долину.
– Откуда они летят? – недоумевал я.
То были птицы, огромными стаями летевшие к Фьюмекальдо. Уже светало, все становилось видимым. Крылатые твари, ничуть не похожие одна на другую, с пением разлетались по всему обозримому пространству.
Так для меня началась новая жизнь. И я понял это сразу еще в то утро, когда птицы говорили друг другу:
– Сколько здесь трав! Сколько деревьев! Все это словно создано для нас!
Вскоре места, где я обитал, и узнать нельзя было. И непонятно было, кто виной всему этому, и невозможно было уяснить себе, для какой цели нужны здесь эти птицы.
Здесь, пожалуй, мне надо сделать одно отступление.
По правде говоря, я уже слышал о предстоящем прибытии птиц, но не поверил, поскольку узнал эту новость от белки, которая беседовала с другой белкой на стволе дерева:
– Слыхала? Говорят, ожидается большое событие. Птицы покидают землю, называемую Африкой.
Я сидел на верхушке этого дерева, в прохладной тени листьев. Я думал, они секретничают только затем, чтобы побыстрее сблизиться, сплести хвост с хвостом и шептать друг другу слащаво-томные словечки. Чтобы спугнуть их, я внезапно слетел с дерева, захлопав крыльями и всколыхнув ветки, а они, разбегаясь, снизу кричали:
– Что случилось? Что случилось?
Не одни только белки толковали об этом, но также и ежи, и даже кузнечики в травах на высоком берегу Фьюмекальдо.
Я так и не узнал, какими путями доходили до зверюшек эти слухи.
Я попытался свыкнуться с новым положением вещей. Самым мучительным было то, что, глядя из гнезда вниз сквозь сплетение колючих кустов или вверх, чтобы развеяться и утешиться зрелищем огромного разноликого пространства, я видел стаи птиц всевозможных видов и цветов, собиравшиеся и разлетавшиеся в ослепительном солнечном свете.
Что же делать? – подумал я.
Теперь я редко покидал гнездо. Вначале мне захотелось затеять вражду со всеми, даже с мне подобными (ястребы неустанно кружили в небе надо мной), потом я понял, что это бесполезно – ничего не даст.
Неужели это надолго? – пытался я понять.
Следя за полетами этих птиц, я стремился развить у себя нечто вроде ясновидения, если можно так сказать, ибо я хотел установить связь с подобными мне, чтобы узнать законы и порядки, которым они были подвластны.
Иногда я улетал куда-нибудь в поисках еды, все больше по глухим чащам и дремучим зарослям. Остальное время отсиживался в гнезде; так проходили день за днем, и я подсчитывал их – впрочем, без горечи досады.
– Если так будет продолжаться, это будет стоить мне перьев, – сказал я себе.
Не правда ли, сказано точно?








