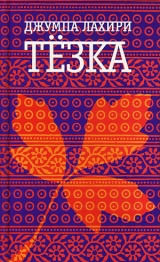
Текст книги "Тезка"
Автор книги: Джумпа Лахири
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 20 страниц)
Несмотря на то что делать на даче абсолютно нечего, дни проходят по определенному порядку, заведенному и поддерживаемому годами. Они просыпаются рано под щебет и гомон птиц, когда восточную сторону неба прочерчивают розово-черные полосы рассветных облаков. Завтракают всей семьей на веранде с видом на озеро – обычно домашними заготовками, намазанными или положенными на толстые куски хлеба. Единственный источник новостей – местная газета, которую Джеральд приносит из сельского магазина. Вечером они принимают душ и одеваются к ужину, а потом какое-то время сидят на лужайке перед домом, потягивая коктейли и наблюдая, как солнце закатывается за верхушки гор, освещая их разноцветными тонами – от розового до багрового. После захода солнца начинается ночная жизнь. Мелкие летучие мыши шныряют между величественных сосен, поднимающихся на высоту десятиэтажного дома, а их разноцветные купальники висят в ряд на веревке. Они закусывают вино сыром, привезенным из Нью-Йорка, затем идут на веранду ужинать.
На ужин Лидия готовит простую пищу: салаты из собственных трав, помидоров и огурцов, вареную кукурузу, макароны с соусом песто, курицу. А еще Лидия печет пироги с ягодами, которые собирает в лесу. Иногда она исчезает на целый день – или за черникой для варенья, или проверить блошиные рынки в окрестных деревнях, откуда частенько возвращается с какой-нибудь антикварной покупкой. В доме нет телевизора, только старый проигрыватель, на котором они слушают классические симфонии или джаз. Когда наступает дождливая погода, Джеральд и Лидия учат Гоголя играть в бридж и покер. Спать они ложатся часов в девять. В доме есть телефон, но звонит он крайне редко.
Никхилу нравится такая жизнь в полном отрыве от цивилизации. Он привыкает к тишине, к ароматам цветов и трав, к острому, свежему запаху наколотых дров. Тишину нарушает только тарахтение далекой моторки на озере или хлопанье оконной створки. Гоголь дарит хозяевам рисунок их дома, который он сделал в какой-то из дней, – первый рисунок за долгое время, выполненный не на заказ и не для работы. Его ставят на захламленную каминную полку вместе с другими рисунками, фотографиями и книгами. Джеральд обещает окантовать его. Гоголя поражает то, что двери не запираются ни в хозяйском доме, ни у них с Максин. Кто угодно может запросто войти внутрь. Он вспоминает сигнализацию, которую установили в своем доме его родители, – ну почему они не могут просто наслаждаться жизнью, почему им надо всего бояться? Вот Ратклифы живут в гармонии с жизнью, посмотришь на них, так кажется, что они владеют правом на луну, что пускает серебряную дорожку над озером, и на солнце, и на облака. Они так любят свою дачу, что она вросла в них, стала частью их самих. Гоголю ужасно нравится идея проводить лето в одном и том же месте, возвращаться туда год за годом. Однако он не может представить себе своих родителей живущими на такой вот лесной даче. Как им было бы скучно играть в бридж в дождливые дни, считать падающие звезды по ночам, варить варенье и щипать базилик! Ашок и Ашима в жизни не пошли бы гулять по горам, как это делают они с Максин и ее родители почти каждый день, чтобы полюбоваться на закат из разных точек окрестных вершин. Мать жаловалась бы на то, что она все время одна, что вокруг нет других бенгальских семей, кроме того, она не любит купаться и не умеет плавать. Он с содроганием вспоминает о путешествиях, в которые ездил с семьей. Вечно они куда-то спешили: то мчались в Калькутту, то путешествовали по местам, не представляющим для них, детей, никакого интереса. Несколько семей объединялись вместе, брали напрокат фургон, набивали его едой, одеждой и спальниками и отправлялись в Торонто, Атланту или Чикаго – к очередным бенгальским друзьям. Отцы сидели впереди, изучая карту, дети – скорчившись на задних сиденьях, с бутербродами и пирожками, обернутыми в фольгу, которыми они перекусывали на заправках и стоянках дальнобойщиков. Ночевали в мотелях, для экономии все в одной комнате, купались в придорожных прудах…
Однажды они с Максин решают переплыть через озеро на каноэ. Максин учит его грести, стоя на одном колене, перекидывая весло с одной стороны на другую, рассекая им тугую, стального цвета воду. Она рассказывает ему о детстве на даче. Это ее самое любимое место во всем мире, говорит она, и Никхил понимает, что этот пейзаж, эта вода, это озеро – неотъемлемая часть ее, так же как и дом в Челси. Максин признается, что здесь она потеряла девственность: это случилось, когда ей было четырнадцать лет, в старом лодочном сарае, с мальчиком, родители которого привезли его сюда погостить. Он вспоминает себя в четырнадцать лет – надо же, как это не похоже на его детство! Тогда он был Гоголем, и только Гоголем. Впрочем, когда он рассказал Максин историю своего имени, она ужасно смеялась. «Никогда не слышала ничего прикольнее!» – заявила она и поцеловала его в щеку. А потом, видимо, начисто забыла об этом, пожалуй, самом важном факте его биографии, видимо, он вылетел у нее из головы, как вылетала вся кажущаяся ей ненужной информация. И Никхил понимает, что для нее это место – последнее убежище, куда она будет стремиться всегда. Он представляет ее себе старухой, сидящей на раскладном стуле на берегу озера: ее изборожденное морщинами лицо все еще красиво, ее гибкое тело только слегка раздалось в бедрах, а волосы подернуты сединой. Он представляет себе, как она скорбит, приезжая сюда проведать родительские могилы, как учит своих детей плавать и нырять с мостков в воду, как берет их за обе руки и кружит по воде вокруг себя.
Здесь они отмечают его двадцать седьмой день рождения. Это – первый день рождения, который он встретил не в родительском доме, не в Калькутте и не на Пембертон-роуд. Лидия и Максин решают приготовить праздничный ужин: за несколько дней они начинают изучать рецепты, валяются на пляже, полностью погрузившись в свои кулинарные книги. Наконец они останавливают свой выбор на классической испанской паэлье и едут в Мэн закупать креветки, мидии и другие морепродукты. На сладкое Лидия жарит рассыпчатый, обсыпанный сахарной пудрой «хворост». Стол выносят на лужайку, расставляют вокруг него стулья. Кроме Хэнка и Эдит, они пригласили в гости еще несколько супружеских пар, что живут по соседству на своих дачах. К середине дня их лужайка уже забита машинами. Женщины в широкополых соломенных шляпах и полотняных платьях собираются около Лидии, маленькие дети носятся по лужайке вокруг машин, визжат, играют с Сайласом. Кто-то жалуется на то, что слишком много развелось на озере моторок, кто-то рассказывает местные сплетни: говорят, что жена владельца единственного магазина в поселке сбежала с другим мужчиной, что теперь он подал на развод.
– А вот и наш архитектор, которого привезла Макс, – представляет его Джеральд.
Он подводит его к паре, желающей пристроить флигель к своему нынешнему жилищу. Гоголь обсуждает с ними варианты проектов, обещает заехать к ним до отъезда. За ужином его соседка по столу по имени Памела интересуется, в каком возрасте он переехал в Америку из Индии.
– Я родился в Бостоне, – говорит он.
Оказывается, Памела тоже из Бостона, но, когда он называет ей пригород, в котором живут его родители, она качает головой.
– Никогда о таком не слышала, – говорит она. – Однажды моя подружка ездила в Индию в отпуск.
– Правда? Куда именно?
– Понятия не имею. Я помню только, что она вернулась оттуда ужасно худая и что я ей страшно завидовала. – Памела смеется. – Но вам-то в этом смысле повезло, верно?
– В каком смысле?
– Ну, у этой моей подружки было расстройство желудка и все такое – у вас-то иммунитет на эту заразу.
– Вообще-то это совсем не так, – говорит Никхил, слегка задетый за живое. Он бросает взгляд в сторону Максин, но она, по обыкновению, целиком погружена в разговор с соседом. – Мы с сестрой в Индии всегда болели. У моих родителей был даже специальный «аптечный» чемодан.
– Вот странно-то! – восклицает Памела. – Вы же индус. Как может ваш собственный климат так сильно на вас действовать?
– Памела, Ник – американец, – нетерпеливо произносит Лидия, перегибаясь через стол и спасая Никхила от продолжения разговора. – Он здесь родился. – Она поворачивается к нему, и по выражению ее лица он внезапно понимает, что на самом деле она в этом не уверена. – Правда ведь? – спрашивает она.
Джеральд откупоривает бутылку шампанского.
– За Никхила! – провозглашает он, поднимая свой бокал.
Гости, смеясь, поют «С днем рожденья тебя!», чокаются с ним, шутят. Они видят его в первый раз в жизни и забудут через полчаса. И вдруг посреди веселого праздника, в компании подвыпивших американцев, под визг их детей, гоняющихся по лужайке за бабочками, он вспоминает, что его отец уехал в Кливленд больше недели назад, а он так и не удосужился ему позвонить. Он и матери не позвонил, не спросил, как она там одна. Ночью, когда он лежит, обняв Максин, его будит звонок телефона в главном доме. Он вскакивает с постели, уверенный, что это родители звонят, чтобы поздравить его с днем рождения, ужасно смущенный тем, что звонок, наверное, разбудил Джеральда и Лидию. Он уже выбегает на прохладную, влажную от росы лужайку, как вдруг понимает, что этот звонок ему приснился. Постояв минуту на улице, он возвращается назад, снова залезает в постель, поворачивает сонную Максин к себе спиной, устраивается сзади, подсовывая ноги ей под колени, крепко прижимает ее к себе. Макс сонно мурлычет. В окно Никхил видит, как из-за деревьев медленно, робко поднимается заря, и, хотя последняя россыпь звезд еще видна на небе, очертания сосен и домов постепенно проясняются. Он вдруг понимает, что родители все равно не смогли бы ему позвонить, он ведь не дал им номера здешнего телефона, а в телефонной книге его нет. Здесь, рядом с Маке, в этом замкнутом, – отгороженном от всех мирке, он свободен.
7
Ашима сидит за кухонным столом на Пембертон-роуд, надписывая рождественские открытки. Рядом с ней остывает чашка чая, а на столе разложены три телефонные книжки, ручки с тонкими перьями, которые она нашла в комнате Гоголя, чернила, пачка открыток и влажная ватка для смачивания марок и чтобы заклеивать конверты. Самой старой телефонной книжке двадцать восемь лет – Ашима прекрасно помнит, как купила ее в канцелярском магазине на Гарвард-сквер, обложка у нее шершавая, черная, а страницы голубые, их теперь приходится скреплять резинкой. Две другие книжки больше по размеру, новее, у одной – бархатистая обложка темно-зеленого цвета, а обрез отделан золотом. Но ее любимая книжка – третья, подарок Гоголя на какой-то из дней рождения, у каждой буквы помещены репродукции картин из Музея современного искусства. Задние страницы всех трех книжек густо исписаны номерами, начинающимися с 800: это телефоны авиакомпаний, которыми они летали в Калькутту. Мелким почерком написаны номера рейсов и время прибытия, а поля испещрены нетерпеливыми росчерками, сделанными, пока она ждала ответа на линии.
Конечно, с практической точки зрения следовало бы перенести все адреса в одну книжку, тем более что за такое время у многих ее друзей номера телефонов изменились, а с кем-то связь просто прервалась. Но Ашима не хочет вычеркивать имена умерших родственников и затерявшихся в вихре жизни знакомых. Наоборот, когда она листает страницы телефонных книжек, она вспоминает всех бенгальских друзей, с которыми ее и Ашока судьба свела в чужой стране. В день, когда она купила свою первую книжку, в кармане у нее лежало пять долларов, тогда это казалось ей целым состоянием! «Я хотела бы вот это», – проговорила она медленно и четко, выкладывая на прилавок книжку, волнуясь, что продавец ее не поймет. Но он даже не взглянул в ее сторону, буркнул цену, отсчитал сдачу. Она прибежала домой и сразу же записала в книжку адрес родителей на Амхерст-стрит, адрес свекра и свекрови в Алипоре, а потом их собственный адрес на Сентрал-сквер, чтобы не забыть. Потом записала добавочный номер Ашока в университете, в первый раз в жизни вывела на бумаге его имя, подумала – и написала фамилию. Вот каким был ее мир в то время!
В этом году она сделала новогодние открытки своими руками, следуя советам «Энциклопедии домашней хозяйки», которую взяла в местной библиотеке. Обычно Ашима закупала целые коробки открыток в конце января со скидкой пятьдесят процентов, да только на следующее Рождество никогда не могла вспомнить, куда она их засунула. Она всегда тщательно выбирала открытки – чтобы на них не было этих «рождественских» деталей типа ангелов с крылышками или волхвов со звездой. Ей больше нравились зимние пейзажи с летящими санями, запряженными четверкой лошадей, или дети, катающиеся на коньках. Но в этом году, совершенно неожиданно для себя, она взяла да и нарисовала слона, наклеила его на серебряный фон, а сверху обсыпала красной и зеленой мишурой. Он оказался точной копией слона, которого когда-то нарисовал ее отец на полях одного из своих писем, чтобы повеселить Гоголя. Она не выбросила ни одного письма своих давно умерших родителей, они и сейчас хранятся в платяном шкафу в белой сумке, которую она носила в семидесятых годах, пока не порвался ремешок. И каждый год Ашима вытряхивает все конверты на кровать, забирается на нее с ногами и целый день проводит за чтением родительских писем, позволяя себе вволю наплакаться. Она снова и снова перечитывает написанные ими строки, полные такой искренней заботы и тревоги за нее, вспоминает пересказанные в письмах новости – хоть они и не касались ее жизни в Кембридже, ей было так важно их узнавать! И вот, увидев нарисованного на полях отцовского письма слона, Ашима решила, что в этом году она всех удивит. Она сама поразилась, как хорошо ей удалось его перерисовать. Она ведь никогда не увлекалась рисованием, никогда не думала, что владеет искусством переносить на бумагу образы животных и людей, что с таким блеском делал ее отец, а теперь и Гоголь. Целый день Ашима корпела над своими слонами, а потом съездила в копировальный центр при университете и сделала двадцать копий. А вечер посвятила походу по местным канцелярским лавочкам в поисках красных конвертов, которые по размеру подошли бы ее открыткам.
Теперь-то у нее полно времени – занимайся чем хочешь. Ни кормить никого не надо, ни развлекать, молчи хоть целую неделю. В сорок восемь лет Ашима впервые в жизни узнала, что такое одиночество, и, хотя ее муж и дети хором утверждали, что в этом ничего страшного нет, Ашима чувствовала, что ей поздно переучиваться. Она и сейчас, через полгода после отъезда Ашока, все не может привыкнуть возвращаться вечерами в пустой дом, зияющий темными провалами окон, засыпать на одной стороне кровати и просыпаться на другой, есть и пить в одиночестве.
Оставшись одна, поначалу Ашима нервничала, чувствовала возбуждение и проявляла чудеса активности: расчистила завалы в чуланах, разобрала полки на кухне и в холодильнике. Все перетерла и перемыла. Спокойно спать по ночам она не могла, несмотря на установленную сигнализацию, ей все время что-то мерещилось, то ли голоса, то ли шаги на лестнице. Каждый вечер она проверяла, закрыты ли защелки на окнах и замки на дверях. Однажды ночью она проснулась от ужасного грохота: кто-то барабанил в дверь. Ашима в панике даже позвонила Ашоку, разбудила его. Взяв с собой телефонную трубку, она, по настоянию мужа, все-таки спустилась вниз и открыла входную дверь – оказалось, вечером она просто забыла закрыть ставню, и та на ветру колотила по стене.
А теперь Ашима стирает свои вещи раз в месяц. Она больше не вытирает пыль, да и вообще не замечает ее. Ест она обычно, сидя на диване перед телевизором, хлеб с маслом и дал, который готовит на неделю вперед. Иногда Ашима может поджарить омлет, но чаще всего ей и это усилие делать неохота. Она даже переняла некоторые дурные привычки своих детей: перекусывает, стоя у холодильника, не подогрев еду, даже не положив ее на тарелку. Волосы ее поредели, поседели, и теперь она не носит косу, а укладывает их в узел на затылке. У нее испортилось зрение, и читает она только в очках. Три раза в неделю она выходит на работу в местную библиотеку, как это делала Соня, когда училась в школе. Для Ашимы это – первая работа с тех пор, как она вышла замуж. Свою зарплату она отдает Ашоку, а он переводит ее в банк на их общий счет. Деньги ей не нужны, она работает, просто чтобы провести время. Она же всю жизнь ходила в эту библиотеку, сначала водила туда детей на «час сказки», сама проводила там много времени, рассматривая журналы по вязанию и книги по кулинарии, и вот однажды миссис Бакстон, старший библиотекарь, спросила ее, не хочет ли она поработать у них на полставки. Поначалу Ашима выполняла самую примитивную работу: расставляла по полкам книги, возвращенные читателями, проверяла, чтобы все они стояли строго по алфавиту, иногда пылесосила полки. Она оборачивала потрепанные книги в полиэтиленовые обложки, выбирала книги для ежемесячных тематических выставок: «Садоводство», «Президентские выборы», «Поэзия девятнадцатого века» или «Афроамериканская проза». А с недавних пор она работает на раздаче книг. Многих постоянных читателей знает по имени, составляет запросы на книги, которых в их библиотеке нет. Она поддерживает приятельские отношения с другими женщинами-библиотекарями – как и у нее, у многих дети выросли, некоторые живут одни: или овдовели, или разведены. Ее коллеги – первые американские друзья Ашимы за всю ее жизнь. За вечерним чаем они обмениваются новостями, сплетничают о читателях, о мужчинах и о своих семьях. Иногда она приглашает их к себе на ужин, а бывает, они вместе ходят по магазинам.
Каждые три недели ее супруг приезжает на выходные домой. Он обычно берет такси из аэропорта – несмотря на то, что Ашима не боится ездить на машине по городу, она категорически отказывается выезжать на шоссе, ведущее к аэропорту Логан. Когда муж возвращается домой, Ашима готовит и убирает дом как обычно. Если она приглашена к друзьям, они идут вместе, едут на машине, с грустью думая о том, что их дети уже большие и что у них теперь своя жизнь. Во время своих коротких визитов муж делает то, чему Ашима так и не научилась: оплачивает счета, сгребает листья с лужайки, заправляет ее машину бензином на автоматической заправке. Он даже не развешивает одежду в шкафу, так и держит ее в чемодане, а свою бритву и шампунь – в несессере под зеркалом. Эти визиты так коротки, что Ашима не успевает оглянуться, как опять остается одна. Правда, они каждый день разговаривают по телефону, ровно в восемь вечера. Иногда к этому времени она уже в постели, смотрит старый черно-белый телевизор, который Ашок когда-то перенес к ней в спальню, экран постепенно темнеет, и изображение день ото дня становится все менее отчетливым. Если по телевизору ничего интересного не идет, она листает книги, взятые в библиотеке, теперь они разложены на стороне кровати, которую раньше занимал Ашок.
Сейчас три часа дня, холодное солнце уже начало клониться к закату. Это один из тех дней, что заканчивается, как будто не успев начаться, и, несмотря на героические планы, которые Ашима строила утром, она опять почти ничего не успела сделать. Наверное, пора ужинать? Нет, еще только три часа дня, поужинает она в пять, не раньше. Такие дни, холодные, блеклые, Ашима особенно ненавидит – что ж, надо просто подождать, пока и этот день пройдет. Ашима решает, что разогреет себе ужин, не дожидаясь пяти часов, а потом залезет в кровать и включит электрическое одеяло. Она делает глоток чая (фу, совсем холодный!), встает, чтобы наполнить чайник. Ее взгляд падает на горшки с увядшими петуниями, которые Соня посадила в свой последний приезд домой – теперь от них остались лишь высохшие коричневые стебли. Она уже несколько недель собирается выбросить их, но сейчас только пожимает плечами – лучше пусть этим займется Ашок.
Звонит телефон. Это ее муж, и первым делом она сообщает ему, какая работа его ожидает. Голос у него слабый, и на заднем плане она слышит людские голоса.
– Ты что, смотришь телевизор? – спрашивает она удивленно.
– Я в больнице, – сообщает ей Ашок.
– А что случилось? – спрашивает она, выключая поющий чайник. Грудь у нее сжимает неприятным предчувствием беды: может быть, он опять попал в аварию?
– Знаешь, живот болит с утра. – Ашок рассказывает Лшиме, что, наверное, съел чего-то вчера. Его пригласил в гости коллега по работе, тоже бенгалец, который недавно переехал в Кливленд со своей молодой женой. Он преподает в университете, а жене, если честно, не мешало бы поучиться готовить. Ее бирьяни из курицы оставляло желать лучшего, мягко говоря.
Ашима с облегчением вздыхает, хорошо, что ничего серьезного.
– Так выпей алка-зельцер!
– Да я пил, не помогает. Пришлось даже вызвать неотложку, сегодня все поликлиники закрыты.
– Ты слишком много работаешь, а возраст уже не тот. Надеюсь, еще не заработал себе язву, – говорит она.
– Надеюсь, что нет.
– А кто тебя отвез в больницу?
– Да никто. Я сам приехал. Говорю тебе, все не так уж страшно.
Ашима чувствует волну нежности и сочувствия к своему супругу, которому пришлось ехать в больницу в одиночестве. Внезапно она вспоминает, что, когда они только переехали на Пембертон-роуд и она чувствовала себя одинокой и несчастной, муж иногда удивлял ее и приходил домой в середине дня. Тогда они вместе готовили и ели нормальный бенгальский обед, а не дурацкие сандвичи, варили рис, разогревали вчерашний дал, сидели вместе за столом на кухне, беседовали, довольные, сытые.
– А что говорят доктора? – спрашивает она Ашока.
– Да вот я как раз сейчас и жду доктора. Довольно долго уже жду. Пожалуйста, сделай для меня одну вещь.
– Какую?
– Позвони доктору Сандлеру завтра, запиши меня на прием в следующую субботу. Мне все равно пора ему показаться.
– Хорошо.
– Не волнуйся, мне уже лучше. Позвоню, когда приеду домой.
– Хорошо.
Ашима кладет трубку на рычаг, готовит себе чай, возвращается за стол. Она пишет на бумажке «позвонить доктору Сандлеру», прислоняет ее к солонке, чтобы не забыть. Она делает глоток чая, морщится – чай пахнет жидкостью для мытья посуды, опять посудомоечная машина плохо полощет. В следующий раз надо прополоскать чашки отдельно. Ашима решает было позвонить Соне и Гоголю, сказать, что их отец в больнице, но сразу же передумывает: в конце концов, Ашок сам добрался до больницы, и поехал-то он туда на всякий случай, а не по острой необходимости. И голос у него был, конечно, усталый, но не слишком измученный.
Поэтому Ашима возвращается к начатому делу. Она пишет поздравления красивым почерком, внизу подписывает их фамилию, а потом имена, сначала имя мужа, которое она ни разу не произнесла в его присутствии, потом свое, потом имена детей, Гоголя и Сони. Она никогда не пишет «Никхил», хотя знает, что сыну это пришлось бы по душе. Но это не в их традициях. Родители не называют своих детей официальными именами. Официальные имена – для использования в официальной обстановке. Подумав, Ашима решает послать открытки каждому из членов своей семьи: мужу в Кливленд, Гоголю в Нью-Йорк, еще одну она пошлет на адрес Максин. Хотя она была вежлива с Максин, она внутренне содрогается при мысли, что эта девица может стать ее невесткой. У нее же нет никакого представления о приличиях! Она называла ее «Ашима» и ее мужа «Ашок», а недавно Ашима узнала, что ее сын, оказывается, проводит с ней ночи и к тому же живет под одной крышей с ее родителями. Какой позор – об этом она не сможет рассказать никому из своих бенгальских друзей. Однажды она набрала номер телефона, который ей дал Гоголь, ответила женщина, наверное мать этой Максин, и Ашима повесила трубку, так ничего и не сказав. Конечно, девица не из самой плохой семьи, это ей говорила и Соня, и подруги на работе, идеальная невестка во всех отношениях. Что же, она все равно ничего не сможет изменить. Ашима берет другой конверт, пишет на нем адрес Сони, а открытку адресует двум подружкам, с которыми дочь снимает квартиру. Скоро Новый год, наконец-то она повидает детей, вся семья соберется вместе. Она опять с обидой вспоминает, что дети не приехали навестить их на День благодарения – Соня отговорилась тем, что из Лос-Анджелеса слишком далеко лететь, а Гоголь работой, от которой ему якобы не отвлечься. Впрочем, на свою-то подружку у него хватило времени, с ней-то он сумел отпраздновать как следует! Ладно, грех жаловаться, на работе ее все убеждают, что это нормально, когда дети вырастают и перестают навещать родителей даже по праздникам. Ей же, насильно оторванной от семьи, их никогда не понять. Но она не спорит с ними, она уже научилась все переносить молча. В результате День благодарения они отметили вдвоем с Ашоком, и даже не стали покупать индейку – все равно не осилить. «С любовью, ма», – подписывает она открытки, адресованные детям. Открытку Ашоку она подписывает просто «Ашима». Она перелистывает две страницы, целиком исписанные адресами Гоголя и Сони. Сколько квартир они уже сменили? На свою голову она родила и воспитала бродяг. Она единственная в семье сейчас, кто помнит и хранит эти названия и цифры, она их все помнит наизусть, хотя дети уже давно забыли, что они жили по этим адресам. Она думает о квартирах, тесных, темных и душных, которые ее Гоголь снимал, начиная с комнаты в Нью-Хейвене и кончая этой ужасной квартиркой в Нью-Йорке. Там так грохочут грузовики, что друг друга не слышно, все стены в трещинах, батареи облупились! А Соня? Не лучше его, переезжает с места на место каждый год начиная с восемнадцати лет. Ашима вспоминает квартиру мужа в Кливленде, – она помогла ему устроиться там, купила дешевые тарелки и чашки, постельное белье, занавески из тюля. И большой мешок риса. Сама Ашима в своей жизни сменила только пять домов – она начинает загибать пальцы: сначала она жила в родительской квартире в Калькутте. Затем была их первая американская квартира, которую они снимали у семейства Монтгомери, так, еще они останавливались на месяц в доме мужа, какое-то время жили в квартире на территории кампуса, а уж потом переехали сюда, на Пембертон-роуд. Пять домов – одна жизнь. Целая жизнь в одном кулаке.
Время от времени Ашима бросает взгляд в окно – небо постепенно меняет цвет, становится лиловым, и на нем яркими полосами выступают два розовых облака. Она переводит взгляд на висящий на стене телефон, ждет, что муж позвонит. Как неприятно зависеть от телефона! Она уже начинает волноваться. Нет, она непременно подарит мужу на Рождество мобильный телефон. Решено! Успокоившись, Ашима продолжает работать, хотя рука у нее уже устала. Она не зажигает свет, не кипятит себе чай, хочет сначала поговорить с мужем. Вдруг телефон разражается неистовым треньканьем. Ашима хватает трубку, но это просто какой-то несчастный продавец, рекламирующий свои товары. Неуверенный голос спрашивает, не может ли миссис… ээээ…
– Гангули! – резко произносит Ашима и вешает трубку.
Небо из лилового становится темно-синим, деревья и соседские дома теряют объем, превращаются в черные силуэты. Уже пять часов, а муж все не звонит. Ашима набирает номер его квартиры, но там включается автоответчик. Она звонит через десять минут, потом еще через десять. Все тот же ответ, записанный ее голосом: «Меня нет дома, пожалуйста, оставьте сообщение». Она не оставляет сообщений. Повесив трубку, она начинает думать, куда он мог зайти по дороге. Может быть, в аптеку за лекарствами? В магазин за продуктами? К шести часам она больше не в состоянии ждать, вызывает оператора, просит соединить ее с Кливлендом, затем называет телефонистке название больницы, которое ей дал Ашок. Ей нужен кабинет неотложной помощи, но к телефону все время подходят разные люди и переводят ее звонок дальше, дальше.
– Мой муж, – повторяет она. – Нет, он не пациент. Он был у вас сегодня на обследовании.
Она повторяет по буквам фамилию, как делала это уже сто тысяч раз в своей жизни: «г», как «галка», «н», как «ночь»… Она ждет, держа трубку у уха, в течение двадцати минут, нервничает, боясь, что муж как раз в это время звонит ей из дома. Линия разъединяется, Ашима снова набирает номер. Наконец, на другом конце провода раздается совсем молодой женский голос, на слух – девушка не старше ее Сони.
– Я прошу прощения за то, что заставили вас ждать. С кем я разговариваю?
– Меня зовут Ашима Гангули. Мой муж, Ашок Гангули, приходил к вам сегодня в приемную. А с кем я разговариваю?
– Прошу прощения, мэм. Я прохожу интернатуру в этой больнице, при мне поступил ваш муж.
– Я уже более получаса жду на телефоне, а мне просто надо узнать: мой муж уже ушел или он все еще у вас?
– Прошу прощения, мэм, – повторяет растерянный голос. – Мы пытались до вас дозвониться.
И молодая женщина на другом конце провода говорит Ашиме, что пациент Ашок Гангули, ее муж, скончался.
Скончался? Слово напоминает Ашиме о сроках хранения книг на дому, они так же «кончаются». Смысл его не доходит до ее сознания.
– Да нет же, это, должно быть, ошибка, – говорит Ашима с легким смешком, качая головой. – Кто скончался? Мой муж сам пришел к вам, у него просто болел живот, он хотел проконсультироваться у врача.
– Простите меня, миссис… Гангули?
Ашима слушает, как молодая женщина рассказывает ей про симптомы инфаркта, у ее мужа он был обширным, врачи делали все, что могли, но спасти его не удалось. Может быть, она хочет пожертвовать его внутренние органы? И еще, есть ли кто-нибудь в Кливленде, кто мог бы идентифицировать тело? Вместо того чтобы ответить, Ашима внезапно вешает трубку, прервав женщину на полуслове. Она прижимает трубку к рычагу, боясь оторвать от телефона руку, чтобы страшные слова не просочились наружу. Она смотрит на свою чашку с чаем, на чайник, который выключила три часа тому назад, чтобы его пение не мешало разговору с мужем. Ее начинает трясти, так сильно, как будто температура в доме вдруг упала на двадцать градусов. Она хватается за сари, закутывается в него, как в шаль. Потом встает и идет по дому, зажигая все огни, которые попадаются на ее пути, включая свет в гараже и на крыльце, как будто она ждет гостей. А потом возвращается на кухню и видит стопку открыток, на каждой из которых написано имя ее мужа. Слезы начинают застилать ей глаза. Она поднимает телефонную трубку и не может вспомнить номер сына, который могла бы набрать и во сне. Щурясь, трясущимися руками раскрывает телефонную книжку. На работе его нет, в квартире тоже, и она ищет номер Максин. Он находится под двумя «Г»: Гоголь Гангули.








