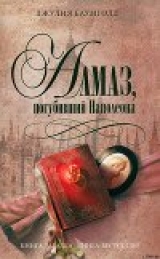
Текст книги "Алмаз, погубивший Наполеона"
Автор книги: Джулия Баумголд
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 25 страниц)
– Итак, Лас-Каз, кто же взял «Регент» из маленькой коробочки с воском и где же он пропадал до того момента, когда его обнаружили?
Я не могу ответить, сир, ибо эта, самая большая тайна в жизни бриллианта, увы, остается тайной и для меня. Спрятанные вещи порою пребывают в сокрытии целую вечность. Некоторые вещи (хотя мои – очень редко) возвращаются из страны потерянных вещей; другие захоронены в карманах сюртука или в других давно забытых местах, потерянные теми, кто давно мертв. Иногда живая рука протягивается к ним и острая нужда или несчастный случай заставляют их выкатиться и блеснуть на полу. Иные переходят к другим семьям и начинают жить новой жизнью, так что любая городская улица с лавками старинных драгоценностей полна утраченных историй. С конца 1792 года и до апреля 1793 не было никаких следов «Регента» или «Великого Санси». Затем ужасные якобинцы озадачились тем, чтобы вернуть оба бриллианта.
* * *
Когда министр Ролан был обвинен в помощи герцогу Брунсвику, он потребовал, чтобы Конвент выслушал речь мадам Ролан в его защиту. Когда та появилась, все зааплодировали ее прославленной красоте. Даже Робеспьер, единственный человек в Париже, настолько уверенный в себе, что продолжал пудрить волосы, рукоплескал, и сидевшие рядом видели, как поблескивают маленькие гильотинки на его манжетах.
Спустя три дня, 10 декабря 1793 года, Конвент услышал такое заявление:
– Комитет общественной безопасности не прекратил розыск участников и пособников ограбления Гард Мебль. Вчера он обнаружил самое ценное из украденного имущества: это бриллиант, известный под названием «Питт» или «Регент»… (послышались возгласы изумления), который при последней инвентаризации в 1791 году был оценен в двенадцать миллионов… Для сокрытия его («Регента») они проделали отверстие размером в дюйм с половиной в одно из стропил на чердаке. Вор и укрыватель арестованы; бриллиант передан в Комитет общественной безопасности, и он должен послужить одной из улик против воров.
Итак, «Регент», засунутый в деревяшку, спрятанный под балкой в Иль де ла Сите, вновь объявился, уже как «одна из улик» – новая роль в новые времена. Его отнесли в Главную сокровищницу в маленьком пакете, запечатанном пятью печатями с надписями «Ne varietur» («Не открывать»), и специальные уполномоченные приняли камень.
«Регент» нашли 9 декабря 1793 года в доме мадам Лельевр и ее сестры мадам Море. Лельевр была любовницей некоего Бернара Салле, который выходил с грабителями в первую ночь, а потом сразу же вернулся со своим уловом в Руан. Поскольку шкаф, где хранился «Регент», в первую ночь не был вскрыт, я не понимаю, как это могло случиться. А допросить Бернара Салле было уже невозможно, поскольку ему отрубили голову.
Двух женщин отправили в тюрьму Сан-Пелажи. Через два года они и двадцать пять других осужденных в грабеже предстали перед судом. И только эти две женщины были обвинены в краже и сокрытии «Регента».
Возможно, мадам Лельевр действительно украла «Регент». Молодая и расторопная, она могла, подвязав свои юбки, влезть по фонарному столбу и взять то, на что другие не посмели посягнуть. Она могла видеть «Регент» в один из открытых понедельников в Гард Мебль и отправиться искать именно его. Или кто-то принес камень Бернару Салле, или, убегая, передал ей. Выяснить все это – за пределами моих возможностей.
* * *
К тому времени мадам Ролан была отправлена на гильотину, сочтенная виновной в обыкновенном предательстве. На эшафоте она сказала: «О, свобода, какие преступления совершаются во имя твое!» – слова, которые она повторяла и раньше, чтобы умножить свою славу.
Через три месяца после обнаружения «Регента» Комитет нашел «Великий Санси», а также «Дом де Гизов», «Зеркало Португалии» и большую часть бриллиантов Мазарини в доме некоего головореза и его сестры. Убийца бежал, но его сестра провела восемнадцать лет в цепях.
В эти времена несправедливости более половины грабителей избежали поимки, а более мелких драгоценностей на семь миллионов никто никогда больше не видел. «Регент» и «Великий Санси» наконец воссоединились с другими королевскими драгоценностями в их темнице – в сокровищнице.
* * *
– Разумеется, существует и другая версия, – сказал мне император позже. – В тот год, когда я стал императором, другой вор, который называл себя Баба, признался в ограблении Гард Мебль.
– Сир, я полагаю, его настоящее имя было Флери-Дюмутье, – сказал я. – После ограбления он сидел в тюрьме Бисетр за распространение фальшивых денег. Он из Руана и был связан с некоторыми руанцами.
Потом я прочел императору то, что сказал этот Баба, признаваясь в подделке:
«Не в первый раз мои признания оказывают пользу обществу, и если меня приговорят, я буду умолять императора о прощении. Если бы не я, Наполеон никогда не взошел бы на престол; мне одному обязан он успехом кампании при Маренго…»
– Мои солдаты будут рады услышать это! Какая наглость! – сказал император.
– Этот мошенник утверждал, что спрятал «Регент» в алее Вдов. Лжецу положено рассказывать свою историю искренне.
– Здесь говорится… – и я показал императору обнаруженный мною документ, – что он спрятал большинство слишком известных вещей, вроде потира аббата Сюже и «Регента», вещей, которые никак нельзя было продать. А потом, получив обещание помилования, открыл, где они спрятаны. А не может ли быть, что после того, как он спрятал «Регент», кто-то, кто следил за ним, выкопал бриллиант, оставив потир и остальные вещи, найденные впоследствии? Это могла быть мадам Лельевр.
– Сын мой, послушать вас, так везде, куда ни глянь, страшная конспирация. Из вас вышел бы отличный полицейский сыщик.
– Все отправились на галеры, кроме этого Баба. В Бисетре его всегда называли человеком, который украл «Регент».
– Возможно, он и украл. Какое это имеет значение?
Увидев, что это замечание меня обидело, император стал очень любезен и похлопал меня по спине с такой любовью, что я покачнулся. И все-таки меня мучит, что моя работа может оказаться напрасной.
19
ЭМИГРАНТ
Месяц спустя после того, как был найден «Регент», тридцатипятилетнего короля не стало. Когда повозка, везущая его, прибыла на то место, которое, как он считал, называлось площадью его деда Людовика Пятнадцатого, и к воздвигнутому там эшафоту, он повернулся и прошептал священнику, сопровождавшему его:
– Мы прибыли, если я не ошибаюсь.
Такова вежливость королей, даже в крайних обстоятельствах.[90]90
Мария-Антуанетта извинилась перед своим палачом за то, что наступила ему на ногу. (Примеч. Лас-Каза)
[Закрыть] Она входит в королевскую плоть с воспитанием, но многим, как император, достигшим вершин, эта элегантность дается интуитивно либо бывает благоприобретенной.
И король повторил:
– Если я не ошибаюсь…
А потом, увидев гвардейцев, приближающихся к его особе, чтобы расстегнуть на нем рубашку, он прогнал их и разделся сам. Когда Людовик Шестнадцатый развязал шейную косынку, расстегнул ворот и положил глею под нож, они снова подошли к нему. Они окружили его, намереваясь схватить его за руки.
– Что вы хотите сделать? – воскликнул король.
– Связать вас, – ответили они.
– Связать меня?! – воскликнул король.
Этим сказано все, что нужно знать о Бурбонах, которые были раньше и теперь снова стали королями Франции.
Пивовар Сантер приказал барабанщикам бить в барабаны, когда король попытался произнести свои последние слова, заявить о невиновности, простить тех, кто приговорил его к смерти, надеясь, что Францию никогда не настигнет кара за его кровь. Какой-то человек в толпе перерезал себе горло в знак сочувствия, поступок, который я понимаю, потому что сам с трудом могу пересказывать эти факты, которые узнал из сообщения одного из его священников, Генри Эссекса Эджворта де Фирмона.
В то время, голодая в убогой комнате в Лондоне, я прочел в лондонской газете, которой была покрыта моя кровать, что Уильям Питт назвал эту казнь «самым грязным и в высшей степени жестоким деянием, какое когда-либо видел мир».
Когда в 1798 году во времена Директории пришла пора праздновать это ужасное событие 21 января, директоры обсуждали вопрос о том, следует ли императору, который был тогда генералом, только что завоевавшим Италию, присутствовать на церемонии. Уговорить его послали князя Талейрана, нашего министра иностранных дел, характер которого определялся одним словом – двуличность.
– Почему мы должны праздновать эту катастрофу? – спросил Наполеон.
– Только потому, что это политика, – сказал Талейран, всегда служивший моменту и сильнейшему. – Все режимы приветствуют падение тирана.
В конце концов Наполеон присутствовал на церемонии как член математического отделения Института Франции и затмил в тот день всю Директорию, поскольку никто не смотрел никуда, а только на него, и толпа с готовностью приветствовала его криками. Его солдаты в Италии ездили на десяти тысячах лошадей, купленных на деньги, полученные от заложенного «Регента», но об этом я расскажу позже.
Теперь же, в 1793 году, пришел террор, время, когда разгул сентябрьского безумия стал государственной политикой, и продолжалось это не дни, а несколько месяцев, в течение которых никакой крови не казалось достаточно, и милосердие умерло. В конце зимы того же года я поехал в Голландию. И той же весной, когда Паоли охотился за ним, Наполеон со своей семьей покинул Корсику. Он высадился в Тулоне в июне, когда главари жирондистов были арестованы. Он снова присоединился к своему полку в Ницце. В то лето я вернулся в Англию, где мы с мои близким другом Жаном-Анри де Волюдом опубликовали «Путешествие неизвестного во Францию» под моим первым псевдонимом Де Кюрвиль.
* * *
– А где вы были в дни грабежей и кровопролития? – спросил меня император как-то воскресным вечером.
Настроение у него было такое подавленное, что он едва мог заставить себя говорить, и подобное проявление интереса было крайне необычным. Нас внезапно, просочившись, как бесцветные ветры этого вечера, настигло понимание, что побега не будет, что бесполезно ждать спасения издалека, что корабль верноподданных никогда не войдет в гавань Джеймстауна и не будет никакой отчаянной атаки на Лонгвуд. Не будет спасения. Чтобы развлечь его, я заговорил о Лондоне и годах, проведенных мною там в качестве эмигранта.
– Мы могли бы жить инкогнито в окрестностях Лондона, – сказал император. – Вы называли бы меня бароном Дюроком или полковником Мюироном. Или мы могли бы жить в Бостане или Ваш-энг-тоне – я правильно это произношу?
Он полагал, что, будучи в Лондоне, я должен был видеть короля Георга Третьего, принца Уэльского, месье Питта и месье Фокса и других высокопоставленных лордов двора. Он хотел знать, что я думаю о них, чтобы сравнить со своим собственным мнением.
Я сказал, что он просто не может знать, в каком положении находились эмигранты в Лондоне. Мы не были приняты при дворе, и даже если бы нас приглашали, у меня не было ни костюма, ни средств, чтобы прилично выглядеть. Стыдясь своего положения, именно тогда я взял имя Феликс. Об очень многом я не сказал императору, например о том, что я был беден, так беден, что всю зиму 1794 года, ложась в постель, я укрывал ноги пустым чемоданом (все его содержимое было продано), чтобы согреться. Также из страха, что это унизит меня, и ему покажется, будто я напрашиваюсь на сочувствие, я не рассказал ему, как продавал кольца, сплетенные из волос, и как стаптывал подметки башмаков, когда давал уроки английского, чтобы заработать шиллинг. (Именно тогда некий лондонский книготорговец предложил мне писать романы, нисколько не подозревая, что сама моя жизнь превратится в роман, гораздо более странный, чем те, которые я мог бы выдумать.)
В фешенебельных домах я видел тех, кто носил прически á la victime,[91]91
Как у жертвы (фр.).
[Закрыть] аккуратно подстриженные и спутанные волосы – так стригли моих друзей, прежде чем обезглавить. Тогда я отворачивался или прятался где-нибудь в уголке, чтобы успокоиться и справиться с обуревавшей меня яростью.
Кое-как зарабатывая уроками, я вернулся к географическому и историческому «Атласу», над которым работал уже десять лет под именем Ле Саж и который мог принести мне небольшое состояние. Я приноровил свои вкусы к историческим изысканиям, обзорным картам, географии, истории, генеалогии аристократов. Я делал таблицы разных исторических эпох, миграций варваров, истории французских королей, истории Англии и так далее. Я, человек изменчивой судьбы, полюбил все, что несомненно, что может быть нанесено на карту и определено. Мне нравятся размеренность, целеустремленность и порядок (вокруг императора во всем всегда царил порядок).
Те из нас в Лондоне, кто умел петь или играть на каких-либо инструментах, давали концерты или уроки. Кое-кто продавал шляпы или держал кофейни либо меблированные комнаты. Молодой герцог Орлеанский[92]92
Он стал Луи-Филиппом, королем французов. (Примеч. Авраама)
[Закрыть] служил наставником в швейцарской школе, а его брат Монпансье стал художником. Другие эмигранты, чтобы прокормиться, занимались вышивкой, а де Ларошфуко стали торговать полотном. Вернувшись во Францию, в тот новый мир, в который она превратилась, кое-кто из нас не мог этого забыть, другие же без труда забывали об этих низких занятиях.
Георг Третий интересовался нами как частными лицами, но принимать нас как политическую группировку не мог. Я сказал императору, знавшему об этом, что первый приступ безумия у короля Георга случился, когда зимой 1788/89 года он сделал Питта кумиром своего народа; только любовь короля к своей стране заставила его сохранить Питта, потому что этот министр был ему отвратителен.
Все эмигранты находились тогда в изоляции, а Питт и Берки были для нас светом; Фокс же для нас был только ненавистным якобинцем. Я знаю, что император поставил бюст Чарльза Фокса в Мальмезоне еще прежде, чем узнал его лично. В те дни мы были так далеки друг от друга, что даже наши герои были врагами.
Я видел Питта в палате общин – нос Гренвилля, задранный так, что ноздри зияли дырами, тело, окостеневшее от гордости, и гибкий голос, отзывающийся в мраморных холлах, который звучал то как голос человека образованного, то нетерпеливо, раздраженно, то очаровательно-убедительно. Лицо у него было все в пятнах от пьянства, походка легкая и слишком быстрая, так что люди отставали от него либо им приходилось бежать.
Некогда он отказался жениться на женщине, которая впоследствии стала мадам де Сталь. У него не было ни жены, ни детей, и он всегда был занят своими «мальчиками». Вместе со своей племянницей он жил в доме, в который могущественные люди входили и из которого выходили в любое время, оставаясь до утра после бесконечного пьяного застолья, длящегося сутки напролет.
Позже император попросил меня сделать из моего устного рассказа о десяти годах эмигрантской жизни связную историю, ибо он не мог запомнить то, что я говорил, по причине беспорядочной манеры, в которой я все это излагал (увы, то, что я здесь написал, ничуть не лучше). И тогда я попытался сделать из моей истории что-то, подобное рассказу Дидоны, повествующей Энею о том времени, которое она предпочла бы забыть. Я поведал ему о днях, проведенных в Вормсе с принцем де Конде, затем в Кобленце с братьями короля, и о том, как принцы и сельские дворяне собирались во всем своем великолепии и возобновили те же напыщенные представления, каковыми занимались в Версале. Император рассмеялся.
– Воистину, дорогой Лас-Каз, – заметил он, – можно сказать, что хвастовство, легковерие, непоследовательность и глупость, несмотря на все остроумие – это их особый удел.
Принцы призывали к вторжению в родную нам страну ради спасения монархии, и мы охотно следовали их призыву. В сражении при Кибероне в 1795 году был схвачен и расстрелян де Волюд, лучший друг моей жизни, так же как и отец Анриетты. После Киберона – в то время я был болен – и после завоевания Италии Наполеоном я наконец отказался от всяких надежд на реставрацию Бурбонов.
Кроме того, я рассказал ему о моей новой английской семье, о том, как моя кузина, бывшая фрейлиной принцессы де Ламбаль, привела меня к богатой молодой чете – лорду Томасу Клэверлингу и лед Клэверлинг, урожденной Клэр де Галлэ. За два шиллинга в неделю меня наняли учить леди Клэверлинг астрономии. Тому, что прочитывал по утрам, я учил ее по вечерам, а потом возвращался домой к своей котлете, салату и хорошему кофе, который теперь стал мне по карману. Такой кофе был единственной роскошью, которую мы с Жаном-Анри могли себе позволить лишь по воскресеньям на завтрак, и я оплакивал своего товарища, познав на собственном опыте, что отсутствие ощущается иногда острее, чем присутствие…
Салон леди Клэверлинг посещали сливки эмиграции. Она и ее муж заботились обо мне, и после Амьенского мира, когда я вернулся во Францию вместе с ними, их помощь позволила мне обойти формальности при пересечении границы.
– Судя по тому, как вы об этом говорите, вы очень любите ее, сын мой, – сказал император. – Где же была ваша жена, маленькая Анриетта?
На это я не мог ответить, поскольку оставил свою жену на долгие годы ради этой леди.
Конечно, по большей части моя жизнь, как и жизнь императора, в изгнании сопровождается искаженным потоком прошлого, который, вторгаясь в настоящее, заставляет заново проигрывать те или иные события в самые неожиданные моменты и в самых неожиданных местах. Бесконечно длящийся на Святой Елене спектакль, для которого необходимы костюмы, а воспоминания ждут за кулисами – вот что такое наша последняя ссылка.
Здесь жизнь императора становится мифом. Ежедневно совершая некие умозрительные действия, он ставит перед нами цель и создает на этой скале последнее свое королевство. Мы – его последнее войско. Рассказывая нам о своей жизни, он вспоминает дезертирство тех, кого он возвеличил, ничтожность немногих своих поражений и куда более тягостны победы. Все возвращается по его воле – клубы оружейного дыма над вытоптанными зелеными полями, падающие лошади, боевые каре, которые движутся, клонясь вперед, в то время как люди падают, и кровь сочится из ртов и разорванных мундиров, возвращаются дни, когда враги склоняли перед ним свои знамена, и мамелюки в халатах и тюрбанах скользили по дворцам, окружив его, как древнего идола.
– Иногда мне кажется, что вся жизнь есть приготовление к жизни будущей, – говорит он. – Мы только репетируем, но для всех пьеса кончается одинаково. Даже когда мы ведем разговор о мертвых, он порой замолкает, переместившись в другую страну, населенную теми, кого нет и кто для него теперь недосягаем. Он говорит о вчерашнем дне как о древних временах, в которые персонаж, которого он именует Наполеоном, совершал свои подвиги. В таких случаях я с трудом пытаюсь понять, о чем в хронике его жизни следует поведать подробно, что опустить, что из всего, сказанного им, хотя бы обозначить, ибо все ценно. Иногда я знаю, что он лжет, и задаюсь вопросом, верит ли он сам своей лжи.
А еще с прибытием ежемесячного корабля в нашу жизнь вторгаются новые чудовищные публикации о нем, полные лживых версий тех историй, которые ему хорошо известны. Однажды мы получили подобную публикацию – работу Голдсмита. Я тут же отбросил ее в сторону, ибо она была омерзительна от слова до слова, и решил утаить ее от императора. Не могу понять, как он наткнулся на нее, но в то утро я нашел его лежащим на диване и читающим ее.
– Иисусе! – то и дело повторял он, крестясь при каждой новой лжи.
Потом он пожал плечами и отбросил книгу, но впечатление от нее осталось, и он погрузился в дурное настроение.
Нередко, рассказывая какую-либо историю, император повторяет:
– Полагаю, конец мира близок.
Когда-то это было всего лишь присловье. Теперь же он все именно так и чувствует: здесь, на краю земли, где кончается мир, его мир подошел к концу. Так же, как и мой.
* * *
«Регент» перебрался из-под сводов революционной трибуны, из своего футляра с тремя замками в ящики национальной сокровищницы, запиравшейся тоже не на один ключ.
При Конвенте он оставался взаперти вместе с менее значительными драгоценностями (а все драгоценности в сравнении с ним были менее значительными), конфискованными у эмигрантов и врагов республики. Эгретка, трепетавшая на высокой прическе какой-нибудь герцогини, оказалась в обществе с жирандолью графини, чья голова скатилась в корзину, и бриллиантовыми пряжками для туфель, которые прохаживались по Версалю. Посверкивали низки старинных жемчугов, серьги, украшенные бриллиантами эполеты, тяжелые, потускневшие гарнитуры, короны, ожерелья, булавки, браслеты, шляпные бриллианты, кресты, клипсы и кокетки – утратившие владельцев потерянные безделушки обезглавленных призраков. С ними рядом захваченные сокровища церквей и аббатств, драгоценности, украденные при обычных грабежах, либо захваченные в завоеванных странах, – все было смешано вместе в эти последние дни революции. Эта коллекция краденых вещей, а также произведения искусства, которые Наполеон вывез из Италии и вывозил отовсюду, в будущем образует музей Лувр, им же созданный.
В этой новой атмосфере драгоценности были бесполезны и опасны. По ночам полиция барабанила в двери, выволакивала граждан из дома, и если их имена не значились в списках жильцов, им отрубали голову. Миллион людей был казнен, целые семьи уничтожены.
Когда Франция завоевала Батавскую республику и превратила ее в королевство Голландия в 1795 году, были захвачены драгоценности короля Сардинии, их добавили к остальным. Конвент призвал ученых определить, какие драгоценности и вещи необходимо оставить в качестве образчиков для промышленности или сохранить для Национального исторического музея. Ученые выбрали ромбовидный сапфир Людовика Четырнадцатого, крупный желтый бриллиант и топаз, но не «Регент». Некоторые драгоценности были проданы Блистательной Порте.
В 1795 году в опустевших бальных залах Версаля более трех тысяч лотов было выставлено на аукцион. Трудно себе представить, сколь старинные и прекрасные вещи продавались там – мебель из дерева, золоченого драгоценного дерева с далеких островов, украшенные маркетри столешницы, бюро, выложенные черепаховыми панцирями под черное дерево, кресла орехового дерева á la reine,[93]93
В стиле королевы (фр.).
[Закрыть] гарцующие кони из позолоченной бронзы, портреты предков, известных только членам семьи, которые сбежали или погибли все в один день. Эти портреты стали портретами предков для семейств менее знатных, и с этим были утрачены знания о прошлом.
Париж выставил на аукционы сапоги, шали и кружева своих убитых граждан. Изъятые картины и вещи продавались тому, кто предлагал самую высокую цену. Мебель моей семьи, наше серебро и гобелены – доспехи наших рыцарей, темные в пятнах шкафы, на которых были вырезаны фантастические животные, впившиеся когтями в деревянные шары и застывшие, как когда-то казалось, навечно; суровые графы с подбородками, лежащими на гофрированных круглых воротниках, графини, чьи брюзгливые лики тоже навечно были заключены в тяжелые золотые рамы, – все наши призраки исчезли.
Каковым путем шел народ, таковым шел и «Регент», народный бриллиант. В дни Конвента, в дни смерти и осквернения, когда ничто ничего не стоило, бриллиант был украден. Конвент выставил на аукционы очень многое, и в недалеком будущем «Регенту» предстояло быть отданным в заклад.
Пять директоров захватили власть в 1795 году, и государственные драгоценности были переоценены: «Регент» – один миллион, остальные – одиннадцать миллионов. Директория остановила продажу драгоценностей зарубежным странам, но все же министр финансов скрыл несколько гобеленов, чтобы изъять золото из их нитей. Он позволил армейским пощипать бронзу, севрские вазы с позолоченными оправами и зеркала в деревянных позолоченных рамах, в которых некогда отражались карнавалы интриг, тщеславие и дебоши. Именно в те дни я навсегда утратил свое андалусийское прошлое.







