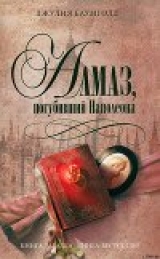
Текст книги "Алмаз, погубивший Наполеона"
Автор книги: Джулия Баумголд
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 25 страниц)
На Ассамблее кричали на короля и Марию-Антуанетту, которые просидели пятнадцать часов не шелохнувшись. Потом их отвели в Тампль и заперли в башне. Так стремление королевы к простоте исполнилось в полной мере, ибо что может быть проще тюрьмы? Каменные стены в трещинах, крестьянские лица тюремщиков, лишения. Прежние унижения, от которых она страдала, казались даже приятными по сравнению с этими ежедневными унижениями. Внимание, к которому она привыкла при дворе, здесь превратилось в пародию.
Ее книжный шкаф с книгами в кожаных переплетах, остатки ее гардероба – все было сохранено для грядущих времен, когда каждая туфля и кусок ткани, каждый маникюрный набор в шагреневом футляре и кружевной веер, каждый стул, на котором она сидела, шепчась со своими дамами, внезапно обретут ценность. Историческую ценность, как это бывает всегда. (Мы все здесь осознали, что таков цикл истории – разрушение, за которым следуют сожаления, а потом нелепое поклонение.)
Довольно скоро те, кого я знал и кто не сбежал, вслед за своими монархами оказались за решеткой. И даже там, где крысы бегали по шелковым туфелькам, они сохранили двор со всеми его отличиями. По-прежнему господин граф уступал дорогу господину герцогу, по-прежнему шла игра – даже гильотина была игрою. Кое-кто пытался убить себя гвоздем в сердце или разбить голову о засовы, а кружева висели клочьями, атлас рвался, волосы слипались в грязные пряди.
16 августа, после падения монархии, Жозеф Камбон, бывший министр внутренних дел, предложил продать все драгоценности короны, чтобы поддержать денежное обращение. Он хотел, чтобы Жан-Мари Ролан, новый министр внутренних дел, охранял их. Когда в садах Тюильри была построена первая гильотина, лишившая смерть всякой зрелищности, «Регент» уже почти продали.
* * *
В тюрьме Ля Форс на четвертом месяце заключения Поль Мьетт отточил свой план ограбления Гард Мебль и завербовал кое-кого из тех, кто желал в этом участвовать. В то время внутри страны шла борьба за то, чтобы наше королевство стало республикой. Извне на нее нападали – наши коалиционные войска вторглись во Францию, угрожая разрушить Париж, если с королем что-нибудь случится. К началу сентября мы заняли Верден и двигались на Париж, где тысячи людей напивались так, что завербовывались сражаться против нас.
Весь Париж, подстрекаемый предательской газетой доктора Марата, был в огне; правительство распалось на клубы. За несколько недель до того клуб жирондистов призвал триста человек из Марселя – греков, корсиканцев, иностранных бедняков, выпущенных из тюрем, и они двинулись на Париж, распевая: «Allons, enfants de la patrie / Le jour de gloire est arrive /…Aux armes, citoyens! / Formex vos batallions!»[82]82
Вперед, дети родины! День славы настал… К оружию, сограждане! (фр.)
[Закрыть] Император назвал эту песню Роже де Лилля величайшим полководцем революции.
Их призвали жирондисты, но довольно скоро марсельцы уже работали на Коммуну, на адвоката Дантона, рябого лицом, и на доктора Марата, которому повсюду мерещились предатели и иностранные заговоры. Новоприбывшие рекруты арестовывали священников, не поддержавших конституцию, аристократов и обычных граждан, которые казались богатыми, имели красивые часы или были подозреваемы в преданности королю.
– Все сочувствуют, все дрожат, все горят жаждой битвы, – сказал Дантон в воскресенье 2 сентября и внезапно оказался прав.
Нескольких священников, в том числе и аббата Сикара, заведовавшего школой для глухих, перевозили в экипаже в тюрьму аббатства Сен-Жермен. Убийцы кололи их ножами сквозь открытые окна экипажа, а народ аплодировал, и когда экипаж остановился, из него выпали восемь мертвых священников. Толпа разорвала на куски остальных и перерезала священников, содержавшихся в тюрьме в монастыре кармелиток, в часовне, перед ликом истекающего кровью Христа, их кровь застыла на каменных полах. Двести священников были сорваны со стен монастырского сада, на которые они попытались взобраться.
В тюрьмах сегодня можно было пользоваться столовым серебром, а назавтра тюремщики его отбирали. Убийцы с топорами и пиками, резаками и даже лопатами закололи и зарубили сотни беззащитных узников в Шатле, и еще сотни – в Консьержери. Перед началом этой бойни они освободили закоренелых преступников, чтобы те могли присоединиться к другим убийцам и насильникам – больным беднякам, сумасшедшим двенадцатилетним мальчишкам и проституткам. Женщины приносили им завтраки в корзинах, и они пожирали эти припасы прямо среди бойни.
Те, кто планировал последовательность действий, поместили свои жертвы в тюрьмы с толстыми стенами, чтобы убийства происходили без лишнего шума, дабы Париж мог заниматься своими делами. Потом Коммуна передумала, поставила стулья у тюремных дверей и начала зажигать по вечерам фонари. В течение пяти дней крики умирающих сопровождались возгласами: «Да здравствует народ!» В передниках и красных колпаках, с человеческими ушами, пришитыми к ним в качестве трофеев, революционеры ставили свечи на обнаженные трупы и пировали. Они пили человеческую кровь и размазывали ее по лицу. Наряду с этим трибунал устраивал какие-то пародии на суды. Все куда-то бежали, кроме тех, кому некуда было бежать.
Трупы целыми повозками сбрасывались в общие могилы с негашеной известью, а костры посылали облака человеческого пепла к небесам. Дети плясали вокруг останков, а обычные граждане смотрели или отворачивались. Император сказал мне, что воздух был пропитан запахом уксуса, который употребляли, чтобы отмыть места убийств, а Гревская площадь была так залита кровью, что поставить там гильотину не удалось. Кровь хлюпала в башмаках и растекалась по театральным коридорам, поскольку парижане по-прежнему заполняли театры и рестораны, ибо таков их характер.
Пыль безумия реяла над городом. Одни горожане прятались за деревьями при лунном свете и появлялись, как людоеды, вампиры и больные звери. Другие закрывали ставни на окнах, чтобы ничего не видеть и не слышать. Хорошенькая женщина, которую позже я знал как Розу де Богарнэ, пряталась в своем доме на улице Сен-Доминик и играла на арфе. Император сказал, что он в этом избиении не участвовал.
Санкюлоты ворвались в тюрьму Ля Форс, убили там четыреста человек и принялись перекидываться головами, как мячами. В разных частях Ля Форс тогда находилось два человека, которые прикасались к «Регенту» – принцесса де Ламбаль, которая надевала его на королеву, и Поль Мьетт, который тоже держал его в руке – вот еще одно стяжение в истории бриллианта, столь же странное, как между Наполеоном и Питтом.
Во время сентябрьской резни Мьетт бежал из Ля Форс, хотя позже он клялся в суде, что его освободили в конце августа. У него по-прежнему было лицо тюремного сидельца, бледность, приобретенная в подземной камере, откуда он, оскальзываясь на крови, вырвался на волю анархии.
Принцессу де Ламбаль взяли из Тампля, куда она отправилась с королем и королевой, и поместили в Ля Форс. Принцесса жила в изгнании, в безопасном Экс-ля-Шапель, когда королева призвала ее обратно к «тиграм». Я был с ней тогда, прежде чем ушел воевать, и сам слышал, как один из версальских голосов произнес, что коль скоро она наслаждалась при процветании королевы, то должна сохранить ей верность и теперь. Таково было ее нежное сердце, давно уже плененное ложью романистов, что она вернулась в Париж.
Я хорошо ее знал, потому что моя кузина была ее dame d’honneur.[83]83
Придворная дама (фр.).
[Закрыть] Когда я приехал в Экс в начале эмиграции, эта молодая принцесса, овдовевшая в восемнадцать лет, приняла меня с величайшей добротой. Тогда вокруг нее собрались все обломки Версаля, которые жеманно раболепствовали перед нею в своей декоративной бесполезности. Принцесса имела привычку по малейшему поводу падать в обморок, и ее знаменитые вьющиеся белокурые волосы неизменно непостижимым образом рассыпались по плечам, когда она медленно опускалась на пол.
Я намеревался последовать за ней, когда она отправилась в Париж, чтобы присоединиться к королю и королеве в их последнем узилище. Мои родители отдали меня в ее распоряжение, считая, что по моему юному возрасту и малому времени, проведенному в Париже, я там неизвестен, а значит, буду в безопасности и смогу быть ей полезен. В последнюю минуту, выезжая из Кобленца, принцесса запретила мне сопровождать ее и тем спасла мне жизнь.
Свекор принцессы, герцог де Пантивр, предложил половину своего состояния прокурору Манюэлю за ее свободу. Но кто-то предупредил ее, что ни в коем случае не следует выходить из своей камеры, и когда Манюэль пришел за ней, она отказалась уйти. Она всегда была послушной принцессой, созданной для того, чтобы прогуливаться по дворцовым садам в тонком платье, с одной-единственной розой без шипов в руке. Она была создана для танцев, игры в карты с молодой королевой и была обречена на погибель, когда ее хорошенький мирок вдруг раскололся. При виде зрелищ, встречавшихся ей по дороге на последний допрос, она то и дело спотыкалась, но и по прошествии тринадцати часов отказалась принести клятву в ненависти к королю и королеве, которых так любила.
– Ненавидеть их противно моей натуре, – сказала она и упала на руки сопровождающего.
– Свободна! – объявил трибунал, как делал это всегда. После чего служащие открывали дверь, жертву выволакивали наружу и разрубали на куски.
Пересекая залитый кровью судебный двор, принцесса потеряла сознание. Тот самый мулат, которого она когда-то обучила грамоте и окрестила, ударил ее по голове алебардой. Колпак упал, волосы рассыпались и полностью покрыли ее. Мулат ударил снова. Другие отрезали голову моей нежной подруги. Ее обезглавленное тело было осквернено и претерпело зверское обращение сверх всякой меры. Его выпотрошили, вырвали еще бьющееся сердце и съели его – так мне рассказывали. Ее обнаженный торс проволокли по улицам, выстрелили ее руками и одной ногой из пушек (я пишу это через силу…).
Они надели ее голову с застывшей на лице последней растерянной гримасой (а кто-то говорит, что и ее интимные части) на пику у тюрьмы Тампль и вставали друг на друга, чтобы прикрепить голову к прутьям решетки.
– Вот здесь она может торжествовать! – кричали они, чтобы привлечь королеву к окну, но король удержал ее, и королева, к счастью, упала в обморок.
Когда толпа несла голову по Парижу, длинные развевающиеся волосы принцессы зацепились за пуговицу одного слуги, который знал ее. Молодая девица, бывшая с ним, умерла от страха через шесть часов. Голову донесли до Пале-Рояля.
– О, это голова Ламбаль – я ее узнаю по длинным волосам, – сказал потомок Мадам герцог Орлеанский, который к тому времени превратился в Филиппа Эгалите.[84]84
Эгалите – равенство (фр.).
[Закрыть]
Как бы далеко я ни находился от всего этого, безумие меня настигало. По ночам мне представлялся бой барабанов, лихорадочные бессвязные речи, окровавленные передники и тяжелое кислое дыхание. Я видел топоры, занесенные над белыми шляпками, и голые руки, на которых вытатуированы эмблемы ремесла, тянущиеся ко мне и к тем, кого я любил, с кем жил и кого не сумел спасти…
После шести дней и ночей и тысяч смертей город не только опьянел от крови, он окончательно обезумел. Император называет эту резню пятном позора, легшим на нас. Однако он понимал, что террор – неизбежная часть всякой революции, что бывшие у власти должны быть напуганы и бежать. Он чувствовал ярость и, хотя все это вызывало у него отвращение, начал представлять себе новый мир, который должен возникнуть в результате.
После резни по вечерам заседали политические клубы. Часто там не хватало свечей, и в желтом полумраке можно было безопасно говорить из глубины толпы. Как-то Дантон расхваливал себя – голос у него был гулкий, – как вдруг кто-то крикнул:
– Сентябрь!
И Дантон замолчал. Все они были «сентябристами», и никто не мог вернуться к тому, что было до сентября.
* * *
Париж был тогда ужасным садом, почва которого кишела червями, превосходными посредниками дерзких убийств. То было счастливое время для воров, убийц и карманников, которых выпустили на свободу, и одна из шаек нацелилась на Гард Мебль и «Регент».
Воры из Марселя встречались в кабаре. Они скользили по крышам, как кошки, и пролезали через любую застекленную крышу и незабитый чердак. Каждую ночь они забирались в Тюильри через чердаки и выкрали многое из королевских сокровищ. Если ценные вещи не пролезали в окно, их ломали, а потом вытаскивали. Они напрактиковались в осквернении, ибо это они мчались по просторным комнатам наших поместий с мешками и факелами.
Полиция была бессильна и продажна. Воры, переодетые муниципальными полицейскими или национальными гвардейцами, останавливали горожан и требовали у них цепочки для часов или пряжки с башмаков. В дни сразу после бойни карманники, укрыватели краденого, закоренелые преступники всякого рода занимались грабежами и насилием. Никто в точности не знал, что происходит, и замешательство было превосходной средой для преступлений. Париж, опасный и одурманенный в одно и то же время, пребывал в состоянии самоопьянения.
«Регент» ждал в Гард Мебль, самим своим существованием взывая к новому преступлению. Поль Мьетт отбирал людей по одному, всматриваясь в каждое новое лицо, опасаясь шпионов и осведомителей. На ночных крышах он был вне досягаемости. Он хотел драгоценностей, он хотел получить их все, особенно тот крупный белый камушек, предмет тюремных мечтаний.
18
БРИЛЛИАНТ ИСЧЕЗ
В ночь на 11 сентября около одиннадцати часов, когда за мерцающими фонарями темнели большие здания, а боковые улицы были по-прежнему вязкими от крови, Поль Мьетт и его шайка встретились с кучкой воров из Руана у Гард Мебль. Мьетт оставил несколько человек на страже на площади Людовика Пятнадцатого, а сам и с ним еще пятеро вскарабкались по фонарным столбам на наружную галерею первого этажа. Они, цепляясь руками и ногами за выемки между крупными известняковыми плитами, перелезли через перила и спрыгнули на темную галерею, образованную колоннадой.
Они выждали, распластавшись на камне, но гвардейцев не было видно. И никто не позаботился закрыть железные ставни. Деревянные ставни остановить не могли, алмазным резаком они вырезали оконное стекло и, дотянувшись до задвижки, открыли раму. Мьетт знал, что двери на площадку и внутреннюю лестницу опечатаны полосками ткани с печатями городской Коммуны, которые никто не смел сломать. Оказавшись в комнате с драгоценностями, они накинули тяжелые железные крюки на двери изнутри, чтобы не дать гвардейцам войти и помешать. Мьетт боялся только одного, что произведенный ими шум может привлечь гвардейца, стоящего на лестничной площадке со стороны улицы Сен-Флорентин.
Несколько человек держали свечи, а Мьетт разбивал витрины, и вот они набили карманы украшениями и орденами Людовика Пятнадцатого, его тяжелыми, инкрустированными драгоценными камнями эполетами. Из порфировой шкатулки вынули бриллиантовые пуговицы и все камни, которые нашивались на его одежду. Они бросили в мешок орден Золотого Руна – вялую тушку барана с болтающимися ногами из рубинов. Эта изумительная драгоценность, рисунок которой сделали маркиз де Помпадур и Людовик Пятнадцатый, объединяла в себе рубин «Берег Бретани», огромный треугольный бриллиант Тавернье, сверкающий синим, «Неаполитанское яйцо», бриллиант «Базу» и необыкновенный желтый сапфир. Мне он в последний раз сверкнул на солидном животе короля.
Мьетт, искавший «Регент», не знал, что его уложили вместе с другими неоправленными бриллиантами, и не нашел его в ту ночь, потому что воры не взломали шкафы и не достали бриллианты, лежащие на воске в маленьких коробочках, запертых в инкрустированном комоде.
Спустя три часа они спустились вниз и разделили добычу с теми, кто стерег снаружи, сидя на камнях поверженной статуи Людовика Пятнадцатого. Наконец они отправились в один из своих кабаков, где каменные стены были так черны, что мазались при прикосновении к ним, потолки так низки, что, казалось, вот-вот упадут, и все запахи, смешиваясь и одолевая друг друга, составляли аромат какого-то адского рагу. В таких погребках они смеялись и напивались до бесчувствия и развлекались со шлюхами.
Следующую ночь они спали, а ночью 13 сентября с ними вместе на дело отправились женщины. Грабители взломали комод и дверцы шкафа и достали маленькие коробочки с крупными бриллиантами, уложенными в воск. В ту ночь они взяли «Великий Санси», «Розовый бриллиант о пяти сторонах» («Гортензию») и, возможно, «Регент».
Следующую ночь они опять спали и продолжили пятнадцатого, ибо теперь это стало неторопливым, беззаботным, почти непрерывным грабежом с распитием спиртного, с королевскими драгоценностями в кармане, с камнями, оброненными и разбросанными вместе с орудиями взлома по просторной, тускло освещенной комнате. Они хватали сосуд из горного хрусталя, и если при этом ручки из тонких сплетенных яшмовых змей с рубиновыми глазами ломались, ну и пусть. Они стали так самоуверенны, что даже не оставляли дозорных и все до одного влезали в здание. Шайка грабителей разрасталась с каждой ночью, точно как революция или дурная болезнь в кабаре. Она превратилась в многочисленную безымянную банду мужчин и женщин, неуправляемых и непредсказуемых, как сама революция – имена их не имели значения.
У них хватало времени на пикники при свечах. Они рвали руками хлеб и колбасу, а их мешки и карманы лопались, когда они своими ножами отрезали очередной ломоть сыра понлевек. (Как я тоскую по столь непритязательной пище здесь и сейчас, когда пишу это! Хотя с нами Пьеррон, повар императора, и его помощник, здесь не хватает необходимых ингредиентов. Иногда я мечтаю о меню из всех блюд прошлого, о супах и деликатесах, о чашах с фруктами из витого сахара, о свете свечей, играющих на твердых глазированных поверхностях, как на цветных драгоценных камнях. Я думаю и о тушеном мясе, и о frittes,[85]85
Жареный картофель (фр.).
[Закрыть] о ярко-розовом желе, о рубленых голубях в сливках, rissoles,[86]86
Котлеты (фр.).
[Закрыть] белой спарже и трюфелях. Я мечтаю о беконе и молодом луке, гусиной печенке, курах с ферм Бресса. Не могу продолжать, ибо мой желудок бунтует…) Как объяснить это нелепое поведение? Я должен попытаться увидеть происходящее их глазами – они совершают некий патриотический акт, освобождая тирана и «австрийскую шлюху» от их добра. Вещи плохого короля и сами плохи, они – нечестивые символы презренного прошлого и потому должны быть разбиты, сожжены, уничтожены, разломаны. Грабители даровали свободу драгоценностям из этого музея смерти и обреченного короля, забирая то, что, по их мнению, им принадлежало.
Двое прохожих купили драгоценности перед Бурбонским дворцом, когда грабители пытались поделить добро. Прохожие привели полицию к берегу Сены, где два крупных рубина мерцали, как огоньки пламени, прямо в грязи. Полиция отправилась в Гард Мебль, но печати оказались, конечно, нетронутыми, поэтому решили, что драгоценности появились в результате разграбления Тюильри 10 августа и далее. И вот в тот же самый день – даже после появления сообщения, в котором ювелирам предписывалось оставлять у себя всякий крупный подозрительный камень, – грабеж продолжился!
На сей раз грабители, надев форму национальных гвардейцев и распевая «Карманьолу», так что часовые приняли их за патриотов, вошли в здание. Их было более полусотни человек со всей Франции, все молодые и взвинченные. Там были камердинер, галантерейщик, башмачник, юноша-проститутка, все со своими nom de crime[87]87
Кликухами (фр.).
[Закрыть] – Маленький Охотник, Толстый Зад Доброй Девы, Круглая Шляпа, Большой Ублюдок-Дурень, Маленький Кардинал, Моряк и так далее. В ту ночь они так громко спорили при разделе добычи, что настоящие национальные гвардейцы на улице Сент-Оноре услышали и погнались за ними.
Часовой архивов увидел, как раскачивается уличный фонарь на углу улицы Ройяль, и приказал человеку слезть. Еще один упал с колоннады прямо в круг настоящих национальных гвардейцев. У обоих карманы были набиты драгоценностями, и они были пьяны. Они стали врать, что их похитили.
– Что?! Вооруженные люди насильно набили ваши карманы драгоценностями? – сказал общественный обвинитель на суде.
Таковы, как мы видим, были молодые негодяи, которые грабили Гард Мебль с 11 по 17 сентября и забрали все драгоценности французской короны!
* * *
Когда охранник архива в пять утра вошел в комнату, где хранились драгоценности, то увидел, что пол усеян бриллиантами, жемчужинами и орудиями взлома.
В понедельник 17 сентября секретарь министра Ролана прочел Ассамблее такое обращение:
«Министр внутренних дел сообщает Ассамблее, что Гард Мебль был вскрыт и разграблен: два вора арестованы… но бриллианты исчезли».
– Это остатки умирающей аристократии, – сказал пивовар Сантер. – Не бойтесь, она никогда не сможет возродиться.
* * *
Один кузнец, который избежал тюрьмы в разгар резни, предложил помочь взять остальных в обмен на помилование. Он встретился с Маленьким Охотником, и они обшарили улицы в поисках своих товарищей-грабителей. Министр Ролан заплатил одному из укрывателей краденого, чтобы заманить их в ловушку.
Довольно скоро полиция нашла бриллианты короны в горшочке с дешевой помадой и кружева, украденные из Тюильри, в коробке из-под пудры. Пряжки, которые Людовик Четырнадцатый носил на подвязках, и расшитый драгоценностями галстук Генриха Четвертого обнаружили в лавке мясника. Вот воистину какова она, революция! Пряжки туфель с вынутыми бриллиантами и подвязки Людовика Шестнадцатого были найдены в доме Маленького Охотника. Когда появилась полиция, он выбросил бриллианты в стакане eau-forte[88]88
Неочищенная азотная кислота (фр.).
[Закрыть] из окна.
И воистину тогда «Регент» стал народным камнем, ибо он был спрятан где-то среди народа. Никто не осмелился принести «Великий Санси» или «Регент» перекупщикам. Вместо этого бриллианты скрывали, как всякую ошибку, или, может быть, ими любовались тайно в безумном восторге.
Через несколько дней после этого преступления Поль Мьетт купил себе Красный дом на окраине Бельвиля и поселился в нем с женой, которая была швеей. Узнав об арестах, он продал всю мебель и сбежал.
Месяц спустя министр Ролан сказал, что из сокровищ ценой в тридцать миллионов франков сохранилось только на пятьсот тысяч. Больше всего остального он хотел вернуть «Регент».
* * *
Сегодняшний вечер был слишком плох для прогулки императора. Я весьма обрадовался, когда он сказал мне, что пора нам возобновить работу над «Мемориалом», приостановившуюся из-за проблем, возникших с губернатором Хадсоном Лоуи. Англичане неправильно выбрали человека, которому предстояло властвовать над императором, ибо Лоуи – один из тех привередливых людей, что живут только ради правил и мелочной власти. Император его больше не принимает.
Император рано ушел к себе, попросил меня зайти к нему и сказал несколько добрых слов о моем описании ограбления. (Он теперь читает главу за главой.)
– Сидя на этой скале с пачкой бумаг, вы сотворили порядок из хаоса, – сказал он. – До сих пор я был уверен, что драгоценности были употреблены на то, чтобы откупиться от герцога Брауншвейгского. Однако грабеж этот вовсе не был связан с политикой, это была просто шайка мошенников.
– Это преступление напрямую связано с событиями того времени, – сказал я. – То была первая ошибка, поскольку революция и грабежи шли рука об руку только в том смысле, что разрушение и ожесточение первой делали возможным второе.
Затем император вспомнил о «Мемуарах» мадам Ролан, написанных в тюрьме, и пошел поискать эту книгу в библиотеке. И вновь я услышал металлический звук удара, который показался бы странным всякому, кроме тех, кто живет здесь и знает: он схватил кочергу и разделался с очередной крысой.
Мадам Ролан, королева жирондистов, была Цирцеей революции – крупная, черноволосая, с полными губами.
– Нет, волосы были каштановые, – поправил меня император, – и не так уж она была красива. Ноги у нее были слишком большие.
(Я добавляю здесь своим шифром, что император мог терпеть в женщине хитрость, но не блеск, а ужасная мадам Ролан, которая самостоятельно получила образование, читая всех великих, была устрашающей, но блестящей.)
Она была в Париже во время судов над грабителями Гард Мебль и имела собственное мнение относительно этого преступления.
Служанки выметали изумруды на улице Сен-Флорентин, когда 21 сентября начались судебные заседания. В тот самый день, когда республику провозгласили официально и дворец короля превратился в дворец народа. В тот день Фабр д’Энглантин, секретарь Дантона, пошел навестить мадам Ролан в ее доме в Отель де л’Интерьер. В своей гостиной цвета желтого масла с бархатными bergéres[89]89
Креслами (фр.).
[Закрыть] и занавесами из тафты (эта героиня революции имела склонность к красивым вещам) она обвинила его и Дантона в том, что именно они организовали кражу.
«Единственные, кто был арестован и наказан, это мальчишки-воры, – писала она, – использованные как пешки в деле Гард Мебль, не посвященные в тайны этого предприятия…»
– Что это за каракули у вас вот здесь? – говорит император, указывая на шифрованный кусок.
Он кусает пальцы – одна из его привычек, такая же, как привычка втыкать перочинный нож, оставляя зарубки на левых подлокотниках всех наших кресел.
– Просто заметки для себя, что еще следует добавить о мадам Ролан, – отвечаю я.
– Ха! Я встречаю эти каракули повсюду в вашей рукописи. Я знаю, это ваш шифр. Мадам Ролан была порождением Версаля, ибо, несмотря на всю ее образованность или, быть может, благодаря ей в этом вертепе невежества к ней относились снобистски, как к дочери торговца. Очень гордая женщина, не из тех, кого легко можно уложить в постель.)
Уголовный революционный трибунал допрашивал грабителей Гард Мебль каждую неделю с сентября по ноябрь 1792 года. То были времена ожесточенной борьбы между жирондистами и Дантоном, Маратом и Робеспьером. Все главари революции, ее, так сказать, аристократы, к тому времени обвиняли друг друга в этом грабеже. А настоящие судебные разбирательства продолжались во Дворце Справедливости.
Трибунал обвинил всех грабителей Гард Мебль в преступлении против государства, которое каралось смертью. Он пытался заставить этих негодяев признаться, что они были орудиями принцев. Но откуда было таким людям знать принцев? Разумеется, они это отрицали. Трибунал обвинил двух пьяных юношей, упавших с фонаря и балюстрады, в провоцировании гражданской войны. Вдруг появился некий медиум и сообщил трибуналу, что он чувствует вибрацию, исходящую от дуба в аллее Вдов. Он простер свои дрожащие руки над определенным местом и заявил:
– Копайте здесь! – и там нашли потир, отделанный драгоценностями, и кое-что из сокровищ.
Они обвинили Франциска, морского офицера, в краже «Регента» и «Великого Санси».
– Признайтесь и скажите нам, где они спрятаны, – требует председатель трибунала, предъявляя обвиняемому свидетельские показания некоего еврея, уже гильотинированного за скупку краденого. Молодой офицер, сидящий на железном стуле, отворачивается, чтобы не видеть этих показаний.
Но на эшафоте, на тогдашней площади Революции (некогда площади Людовика Пятнадцатого), при виде залитых кровью ремней, доски, лезвия и большой красной корзины, поджидающей его голову, Франциск сдается.
Он приводит судей в свой дом, в тупик, и с крыши уборной на шестом этаже снимает два закопченных свертка, в которых оказались «Толстый Мазарини», «Гортензия», «Флер де Пеше» и другие огромные бриллианты.
Неделю спустя, когда судили Маленького Кардинала, тот сказал, что был жокеем. И в четырнадцать лет уже заразился дурной болезнью, потому что ему пришлось заниматься проституцией.
– Они испортили его душу, эти жестокие люди! Они испортили его кровь! – восклицал защитник, и Маленький Кардинал был оправдан.
Когда был арестован семнадцатилетний скупщик подержанных вещей, его отец впал в безумие. Он обвинял жену в том, что она чересчур баловала мальчишку, швырнул в нее топором, перерезал ей горло и выпил пузырек серной кислоты. Юношу оправдали.
Поль Мьетт вернулся в Бельвиль, где полиция и схватила его, когда он вылезал из окна Красного дома. Оговоренный остальными, Мьетт был приговорен к смерти. Из пятидесяти или около того человек, грабивших Гард Мебль, семнадцать были осуждены, пятеро оправданы и пятеро казнены по обвинению в попытке государственного переворота. Трибунал не хотел верить в изобретательность этих людей, но именно они, эти молодые люди, путавшиеся в своих показаниях, на самом деле украли все драгоценности французской короны.
* * *
На судебных процессах над жирондистами в 1793 году Фабр д’Энглантэн, секретарь Дантона, обвинял министра Ролана и жирондистов. Он говорил, что было два ограбления – одно крупное, при котором были взяты наиболее ценные драгоценности, и менее серьезное, чтобы прикрыть первое. Во время второго воров схватили с поличным и обвинили в обоих кражах. Другие обвиняли мэра Парижа, прокурора Манюэля и Дантона, в том, что они отдали драгоценности королю Пруссии, чтобы он оставил Шампань. Марат обвинял аристократов и Марию-Антуанетту, которая все еще находилась в Тампле.
Через восемь месяцев после начала судебных процессов, когда многие воры обращались к Бовэ, наши войска были отозваны. К тому времени все уже знали, что ограбление не носило политического характера, и пятеро из приговоренных были освобождены, а другие сбежали. Мьетт, прекрасно знавший все ходы и выходы того времени, приготовил длинное ходатайство, полное рассуждений о противоречиях в показаниях свидетелей обвинения. Страницы его дела чудесным образом исчезли, и он был освобожден.
Другие подсудимые получили по пятнадцать лет, некоторые были отправлены на галеры и сидели на веслах, пока не дождались свободы либо смерти.
Большая часть драгоценностей была найдена в аллее Вдов и на крыше дома Франциска и возвращена, но только не «Регент».
Здесь, на равнине Дедвуд, на этой продуваемой ветрами скале с военными судами, стоящими в гавани, и сторожевыми лодками, циркулирующими денно и нощно, я не могу по-настоящему разобраться в краже бриллианта «Регент». Я не могу узнать ничего, выходящего за пределы содержащегося в документах. Среди всех этих имен не могу разгадать имени того, кто взял бриллиант, и даже в какую из ночей он это сделал. Порой в тоске повседневной жизни, среди тревог об императоре и его здоровье, о моем сыне Эммануэле, о моем ухудшающемся зрении и моей работе, должен признаться, я об этом почти и не думаю. Повествование утомило меня. То, что я начинал ради собственного отвлечения, обернулось мукой, подобной страшным мясным мухам, которые пухнут на нашей крови. Мне кажется, меня утомляет все – он, сердитые взгляды и настроение людей, этот чужой воздух, истолченный ветрами, даже море, которое напоминает нам, что мы разбросаны по всему свету. И тогда мне хочется отодвинуть бумаги в сторону и вернуться к императору; но все же у меня есть долг перед моим трудом. Кроме того, император может спросить:







