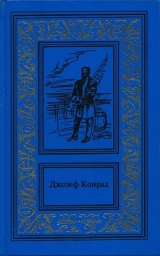
Текст книги "Прыжок за борт. Конец рабства. Морские повести и рассказы (Сочинения в 3 томах. Том 2)"
Автор книги: Джозеф Конрад
Жанры:
Морские приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 58 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
ГЛАВА XXXVI
Марлоу закончил так свой рассказ, и слушатели стали расходиться, провожаемые его задумчивым, словно невидящим взглядом. Слушатели спускались с веранды, не высказывая никаких замечаний, как будто последний образ оборвавшейся повести, незаконченность ее и тон рассказчика сделали комментарии ненужными. Каждый словно уносил с собой свое впечатление – уносил как некую тайну; но только одному человеку из всех слушавших суждено было узнать завершение этой истории: последнее слово пришло к нему на родину больше двух лет спустя, пришло в толстом пакете, надписанном прямым и острым почерком Марлоу.
Привилегированный слушатель раскрыл пакет, заглянул в него, затем, положив на стол, подошел к окну. Комнаты его находились в верхнем этаже высокого дома, и он мог глядеть вдаль, словно из фонаря маяка. Склоны крыш блестели, темные зазубренные гребни сменялись один другим без конца, словно мрачные волны, а из глубины города внизу доносился смутный неумолчный ропот. Шпицы церквей, беспорядочно разбросанных, вздымались, как маяки в лабиринте отмелей, не разделенных каналом; шел дождь; надвигались сумерки зимнего вечера; бой больших башенных часов прокатился, мощный и суровый, и оборвался резким трепетным звуком. Человек опустил тяжелые шторы.
Свет лампы под абажуром спал, как стоячий пруд; ковер заглушал его шаги; дни его скитаний миновали. Нет больше горизонтов, беспредельных, как надежда, нет больше сумеречного света в торжественных, как храм, лесах, в горячих поисках вечно неоткрытой страны за холмом, по ту сторону потока, за волнами… Час пробил! Кончено!., но вскрытый пакет на столе вернул звуки, призраки, аромат прошлого – калейдоскоп блекнущих лиц, гул тихих голосов, замирающий на берегах далеких морей под страстным и неумолимым сиянием солнца. Он вздохнул и сел к столу.
Сначала он увидел три отдельные рукописи: толстую пачку листов, мелко исписанных и скрепленных вместе; квадратный сероватый лист бумаги, на котором было написано несколько слов незнакомым ему почерком, и пояснительное письмо от Марлоу. Из этого последнего письма выпало другое письмо, пожелтевшее от времени. Он поднял его и, отложив в сторону, обратился к посланию Марлоу, быстро пробежал первые строчки, затем, взяв себя в руки, стал читать спокойно, как человек, медленно и настороженно приближающийся к мелькнувшему вдали видению неведомой страны.
…Не думается, чтобы вы забыли, – читал он, – вы один проявили интерес к нему, интерес, переживший мое повествование, хотя я помню хорошо: вы не хотели согласиться с тем, что он подчинил себе судьбу. Вы предсказывали катастрофу: скука и отвращение к приобретенной славе, к возложенному на себя долгу, к любви, вызванной жалостью и молодостью. Вы утверждали, что мы должны сражаться – или жизнь наша в счет не идет. Возможно. Кому и знать, как не вам, – говорю это без всякого лукавства, – вам, который один заглянул в заброшенные уголки и сумел выбраться оттуда, не опалив своих крыльев. Но суть та, что Джиму не было дела до всего человечества, – он имел дело лишь с самим собой, – и вопрос заключается в том, не пришел ли он, наконец, к вере более могущественной, чем законы порядка и прогресса.
Я ни на чем не настаиваю. Быть может, вы сумеете высказаться – после того как прочтете. В конце концов есть много правды в простом выражении «в тени облака». Невозможно разглядеть его отчетливо – в особенности потому, что глазами других приходится смотреть на него в последний раз. Я нимало не колеблюсь, сообщая вам все, что мне известно, о том последнем событии, которое, как он обычно говорил, «приключилось с ним». Недоумеваешь, не было ли это тем последним испытанием, какого он, как мне казалось, всегда ждал, чтобы затем бросить о себе весть непогрешимому миру. Вы помните, когда я расставался с ним в последний раз, он спросил, скоро ли я поеду домой, и вдруг крикнул мне вслед: «Скажите им…» Признаюсь, я ждал, заинтересованный и обнадеженный, и услышал только: «Нет. Ничего».
Итак, это было все. И больше не будет ничего; не будет вести, кроме той, какую каждый из нас может перевести с языка фактов, часто гораздо более загадочных, чем самая сложная комбинация слов. Правда, он сделал еще одну попытку высказаться, но и она обречена была на неудачу, как вы сами убедитесь, если взглянете на сероватый листок, вложенный в этот пакет. Он попытался писать. Видите этот неоригинальный почерк? Видите заголовок: «Форт Патюзан»? Думаю, что он выполнил свое намерение превратить дом в защищенный форт. Это был прекрасный план: глубокая канава, земляной вал, обнесенный частоколом, а по углам пушки на возвышении, занимающие каждую из сторон четырехугольника. Дорамин согласился снабдить его пушками; итак, каждый из сторонников ею партии знал, что есть надежное место, на которое может рассчитывать верный партизан в случае внезапной опасности. Все это говорило о его трезвой предусмотрительности, о его вере в будущее. Те, кого он называл «мой народ», – освобожденные пленники шерифа, – должны были поселиться в Патюзане, образовав отдельный поселок; предполагалось, что хижины их и участки раскинутся у стен форта. А в форте он будет хозяином. «Форт Патюзан». Как видите, нет числа. Какое значение имеет число и день? И нельзя сказать, к кому он обращался, когда взялся за перо: к Штейну… ко мне… ко всему Миру… или то был лишь бесцельный испуганный крик одинокого человека, столкнувшегося со своей судьбой? «Случилась страшная вещь», – написал он перед тем, как в первый раз бросить перо; посмотрите на чернильное пятно, похожее на наконечник стрелы, под этими словами. Немного спустя он снова попытался писать и нацарапал тяжелой, словно свинцом налитой рукой следующую фразу: «Я должен теперь немедленно…» Тут перо споткнулось, и он отказался от дальнейших попыток. Больше нет ничего; он увидел бездну, которой не покроешь ни взглядом, ни голосом. Я могу это понять. Он был ошеломлен неизъяснимым, ошеломлен своей собственной личностью, даром той судьбы, которую он всеми силами пытался себе подчинить.
Я посылаю вам еще одно старое письмо – очень старое. Оно хранилось в его шкатулке. Письмо от его отца; по дате можно судить о том, что получил он его за несколько дней до того как поступил на «Патну». Должно быть, то было последнее письмо с родины. Все эти годы он хранил ею. Добрый старик любил своего сына-моряка. Я мельком просмотрел письмо. В нем – большая любовь. Он говорил своему «дорогому Джемсу», что последнее длинное письмо от него было очень «благородное и занимательное». Он бы не хотел, чтобы Джим «судил людей сурово и с кондачка». Четыре страницы письма заполнены мягкими нравоучениями и семейными новостями. Том «получил назначение». У мужа Карри были «денежные затруднения». Старик продолжал в таком духе, доверяя установленному порядку вселенной, но живо реагируя на маленькие опасности и милости. Почти видишь его, седого и невозмутимого, в мирном бедном и уютном кабинете, украшенном книгами, где он в течение сорока лет добросовестно возвращался к своим маленьким мыслям о добродетели, о смысле жизни и достойной смерти; где он написал столько проповедей и сейчас разговаривает со своим мальчиком… странствующим в другом конце света. Но какое значение имеет расстояние? Добродетель – одна во всем мире, и достойная смерть – одна.
Его дорогой Джемс, – надеется он – никогда не забудет, что тот, кто однажды поддастся искушению, рискует развратиться и навеки погибнуть. Поэтому никогда не следует делать того, что считаешь нечестным. Далее имеются сведения о любимой собаке; а пони, «на котором вы, мальчики, катались», ослеп, и пришлось его пристрелить. Старик призывает благословение божие; мать и все сестры шлют свою любовь…
Нет, немного сказано в этом пожелтевшем письме, спустя столько лет выпавшем из его рук. Это письмо осталось без ответа, но кто знает, какие разговоры мог он вести с мирными бесцветными призраками мужчин и женщин, населяющими спокойный уголок земли, где, как в могиле, нет ни опасностей ни распрей. Удивительно, что он пришел оттуда, – он, с которым «столько приключалось событий». С ними никогда ничего не приключалось; их никогда не застигнут врасплох, и не придется им померяться с судьбой. Они все здесь – встают перед моими глазами, вызванные кроткой болтовней отца, – все эти братья и сестры смотрят на меня ясным взглядом, и я словно вижу Джима; он вернулся наконец, – не крохотное белое пятнышко в самом сердце великой тайны, но человек, стоящий во весь рост и не замеченный этими невозмутимыми фигурами, человек, с видом суровым и романтическим, но всегда безмолвный, мрачный – в тени облака.
Повесть о последних событиях вы найдете на этих нескольких страницах, вложенных в пакет. Вы должны согласиться, что их романтизм превосходит самые дикие мечты его отрочества, и, однако, на мой взгляд, есть в них какая-то глубокая и устрашающая логика. Словно одно лишь наше воображение может раскрыть перед нами власть ошеломляющей судьбы. Это удивительное приключение, – а удивительнее всего то, что оно правдиво, – является как бы неизбежным следствием. Нечто в таком роде должно было случиться. Повторяешь это себе, не переставая удивляться, каким образом в наши дни такое событие случилось. Но оно случилось – и логичность его оспаривать не приходится.
Я излагаю здесь события так, словно сам был свидетелем. Сведения мои были отрывочны, но я связал отдельные куски, – а их было достаточно, – чтобы получилась цельная картина. Интересно, как бы он сам это рассказал. Он столько мне говорил, что иногда кажется, будто он вот-вот войдет и расскажет историю по-своему, своим беззаботным, но выразительным голосом, по обыкновению быстро и недоуменно, чуть-чуть досадливо, полуобиженно, изредка вставляя слово или фразу, которые дают возможность заглянуть в самое его сердце, но не помогают, однако, ориентироваться. Трудно поверить, что он никогда не придет. Никогда я не услышу его голоса, не увижу его молодого загорелого лица, не увижу белой полоски на лбу и юношеских глаз; глаза эти от возбуждения темнели и казались глубокими, синими-синими.
ГЛАВА XXXVII
Начинается это все с замечательного подвига человека по имени Браун, ловко укравшего испанскую шхуну в маленьком заливе близ Замбоанга. Пока я не нашел этого субъекта, сведения мои были неполны, но самым неожиданным образом я разыскал его за несколько часов до того как он испустил свой дерзкий дух. К счастью, он хотел и мог говорить между приступами астмы, его исхудавшее тело корчилось от злобной радости при одном воспоминании о Джиме. Его приводила в восторг мысль, что он «рассчитался в конце концов с этим гордецом».
Он упивался своим поступком. Я должен был выносить блеск его ввалившихся жестоких глаз, если хотел знать детали, и выносил его, размышляя о том, сколь родственны некоторые виды зла безумию, рожденному эгоизмом, подстрекаемому сопротивлением, – тому безумию, которое ломает душу и наделяет тело призрачной силой. Здесь раскрывается также и удивительная хитрость Корнелиуса, который, руководствуясь своей низкой и острой ненавистью, был вдохновителем, направившим на верный путь мщения.
– Как только я на него посмотрел, я сразу сказал, что это за дурак, – задыхаясь говорил умирающий Браун. – И это мужчина! Словно он не мог прямо сказать: «Руки прочь от моей добычи!» Вот как поступил бы мужчина. Черт бы его побрал! Я был в его руках, но у него не хватило чего-то, чтобы меня прикончить. Выпустил меня, словно я недостоин был пинка. – Браун ловил ртом воздух.– …Плут… выпустил меня… вот я и покончил с ним… – Он снова задохнулся, – …Кажется, эта штука меня убьет, но теперь я умру спокойно. Вы… не знаю вашего имени… я бы дал вам пять фунтов, если бы они у меня были, за такие новости, или мое имя не Браун… – Он гнусно усмехнулся. – Джентльмен Браун.
Все это он говорил задыхаясь, выпучив на меня свои желтые глаза; лицо у него было изможденное, коричневое; он размахивал левой рукой; спутанная борода с проседью спускалась к его коленям; ноги были закрыты грязным рваным одеялом. Я разыскал его в Бангкоке благодаря Шомбергу, содержателю отеля, который секретно указал мне, где искать. По-видимому, какой – то пьяница, бродяга, белый человек, живший с сиамской женщиной среди туземцев, счел великой честью дать приют умирающему джентльмену Брауну. Пока он со мной разговаривал в жалкой лачуге, сражаясь за каждую минуту жизни, сиамская женщина с большими голыми ногами и грубоватым лицом сидела в темном углу и с тупым видом жевала бетель. Изредка она вставала, чтобы прогнать от двери цыпленка. Вся хижина сотрясалась, когда она двигалась. Некрасивый желтый ребенок, голый, с большим животом, словно маленький языческий божок, стоял в ногах кровати и, засунув палец в рот, спокойно созерцал умирающего.
Тот говорил лихорадочно; но иногда невидимая рука как будто схватывала его за горло, и он смотрел на меня безмолвно, с тревогой и недоверием. Казалось, он боялся, что мне надоест ждать, и я уйду, а повесть его останется незаконченной, и своего восторга он так и не выразит. Кажется, в ту ночь он умер, но к тому времени больше уж нечего было от него узнавать.
Но пока достаточно о Брауне.
За восемь месяцев до этого, прибыв в Самаранг, я, по обыкновению, отправился навестить Штейна. На веранде, выходящей в сад, меня робко приветствовал малаец, и я вспомнил, что видел его в Патюзане в доме Джима среди прочих Буги, которые обычно приходили по вечерам, без конца вспоминали свои военные подвиги и обсуждали государственные дела. Джим однажды указал мне на него как на пользующегося уважением торговца, владельца маленького морского туземного судна, который «отличился при взятии крепости». Увидав его, я особенно не удивился, ибо все торговцы Патюзана, добирающиеся до Самаранга, обычно находили дорогу к дому Штейна. Ответив на его приветствие, я вошел в дом. У двери кабинета Штейна я наткнулся на другого малайца и узнал в нем Тамб Итама.
Я сейчас же спросил его, по какому он здесь случаю; у меня мелькнула мысль, не приехал ли Джим в гости, и, признаюсь, эта мысль очень меня обрадовала и взволновала. Тамб Итам посмотрел на меня так, словно не знал, что ответить.
– Туан Джим в кабинете? – нетерпеливо спросил я.
– Нет, – пробормотал он, опуская голову, и вдруг дважды очень серьезно повторил: – Он не хотел сражаться. Он не хотел сражаться.
Так как, казалось, он не в силах был сказать что-нибудь другое, я отстранил его и вошел.
Штейн, высокий и сутулый, стоял один посреди комнаты между рядами ящиков с бабочками.
– Это вы, мой друг! – приветствовал он меня грустно, вглядываясь сквозь очки.
Темное незастегнутое пальто спускалось к его коленям. На голове его была панама; глубокие морщины бороздили бледные щеки.
– Что такое случилось? – нервно спросил я. – Тамб Итам здесь?..
– Идите и повидайтесь с девушкой… Идите и повидайтесь с девушкой… Она здесь, – сказал он, засуетившись.
Я попытался его удержать, но с мягким упорством он не обращал ни малейшего внимания на мои нетерпеливые вопросы.
– Она здесь, она здесь, – повторял он в смущении. – Они сюда приехали два дня назад. Такой старик, как я, посторонний… Sehen sie… [18]немного может сделать… Проходите сюда… Молодые сердца не умеют прощать…
Я видел, что он глубоко огорчен.
– Сила жизни в них, жестокая сила жизни… – бормотал он, показывая мне дорогу; я следовал за ним, взволнованный и раздосадованный, теряясь в догадках. У дверей гостиной он меня остановил.
– Он глубоко ее любил, – сказал он полувопросительно, а я только кивнул, чувствуя такое горькое разочарование, что не решался заговорить.
– Как ужасно! – прошептал он. – Она не может меня понять. Я – только посторонний старик. Быть может, вы… вас она знает. Поговорите с ней. Мы не можем этого оставить… Скажите ей, чтобы она его простила. Это ужасно…
– Несомненно, – сказал я, раздраженный тем, что ничего не понимаю. – Но вы-то ему простили?
Он как-то странно на меня посмотрел.
– Сейчас услышите, – ответил он и, раскрыв дверь, буквально втолкнул меня в комнату.
Вы знаете большой дом Штейна и две огромные приемные, – нежилые и для жилья непригодные, полные предметов, на которых, казалось, никогда не останавливался взгляд человека? В самые жаркие дни там прохладно, и вы входите туда, словно в подземелье. Я прошел через первую приемную, а во второй увидел девушку, сидевшую у конца большого стола красного дерева; голову она опустила на стол, а лицо закрыла руками. Навощенный пол, словно полоса льда, тускло отражал ее. Тростниковые шторы были спущены, и сумеречный свет в комнате казался зеленоватым от листвы снаружи; сильный ветер налетал рывками и колебал длинные драпри у окон и дверей. Ее белая фигура была словно вылеплена из снега; подвески большой люстры звенели над ее головой, как блестящие льдинки. Она подняла голову и следила за моим приближением. Я чувствовал озноб, словно эти большие комнаты были ледяным приютом отчаяния.
Она сразу меня узнала; я остановился и посмотрел на нее в упор.
– Он меня покинул… – сказала она спокойно. – Вы всегда нас покидаете… во имя своих целей…
Лицо ее осунулось; казалось, вся воля к жизни сосредоточилась в ее сердце.
– Умереть с ним – было бы легко, – продолжала она и сделала слабый усталый жест, словно устраняя непонятное. – Он не пожелал. Как будто спустилась на него слепота… А ведь это я с ним говорила, я перед ним стояла, на меня он все время смотрел! Ах, вы жестоки, вероломны, нет у вас чести и нет жалости! Что делает вас такими жестокими? Или вы все безумны?
Я взял ее руку, не ответившую на пожатие; когда я ее выпустил, она беспомощно повисла. Это равнодушие, более жуткое, чем слезы, крики и упреки, казалось, бросало вызов времени и угнетению. Вы чувствовали: что бы вы ни говорили, слова ваши пройдут мимо немой и тихой скорби.
Штейн сказал: «Вы услышите». Я услышал все. С ужасом прислушивался я к ее монотонному усталому голосу. От нее ускользал подлинный смысл того, что она говорила, и ее великое раздражение исполнило меня жалости к ней и… к нему. Словно пригвожденный к полу, я стоял, когда она замолчала. Опираясь на руку, она смотрела прямо перед собой жесткими глазами; врывался ветер, подвески люстры по-прежнему позвякивали в зеленоватом полумраке. Она шептала, как будто разговаривая сама с собой.
– А ведь он смотрел на меня! Он мог видеть мое лицо, слышать мой голос! Когда я сидела у его ног, прижавшись щекой к его коленям, а его рука лежала на моей голове, – жестокость и безумие уже были в нем, дожидаясь часа. Час настал!.. Солнце еще не зашло, а он уже не мог меня видеть, – стал слеп, глух и безжалостен, как и вы все. Он не дождется моих слез. Никогда! Ни одной слезы. Я не хочу! Он ушел от меня, словно я для него была хуже, чем смерть. Он бежал, как будто его гнало какое-то проклятие, услышанное во сне.
Ее остановившиеся глаза, казалось, искали образ человека, которого сила мечты вырвала из ее объятий. Она не ответила на мой безмолвный поклон. Я рад был уйти.
В тот же день я еще раз ее увидел. Уйдя от нее, я пошел искать Штейна, которого в доме не оказалось; с гнетущим сердцем я вышел в сады – в знаменитые сады Штейна, где вы можете найти любое растение и дерево тропических равнин. Я пошел по течению реки и долгое время сидел на скамье в тени, близ пруда, где шумно ныряли какие-то водяные птицы с подрезанными крыльями. Ветви деревьев казуарина за моей спиной слегка шелестели, напоминая шум сосен на моей родине.
Этот печальный и тревожный звук был подходящим аккомпанементом к моим размышлениям. Она сказала, что его увела от нее мечта, – нечего было ей ответить. Да, казалось, такой вине нет прощения. И, однако, разве человечество не повинуется слепо мечте о своем величии и могуществе, – мечте, которая гонит его на темные пути великой жестокости, великого самопожертвования? А что есть в конце концов погоня за истиной? Поднявшись, чтобы идти назад, к дому, я заметил в просвете между деревьями черное пальто Штейна и очень скоро, за поворотом тропинки, наткнулся на него, гуляющего с девушкой. Ее маленькая рука легко покоилась на его руке. На нем была широкополая панама; он склонялся над девушкой по-отечески, седой, с сочувственным и рыцарским уважением. Я отошел в сторону, но они остановились передо мной. Он смотрел вниз. Девушка, стройная и легкая, глядела куда-то мимо меня черными ясными остановившимися глазами.
– Schrecklich! – прошептал он. – Ужасно! Что тут можно поделать?
Казалось, он взывал ко мне, но еще сильнее подействовали на меня ее молодость, долгие дни, ждавшие ее впереди; и вдруг, сознавая, что ничего сказать нельзя, я ради нее произнес речь в его защиту.
– Вы должны его простить, – закончил я. И мой голос показался мне глухим, затерянным в безответном глухом пространстве. – Все мы нуждаемся в прощении, – добавил я через секунду.
– Что я сделала? – спросила она почти неслышно.
– Вы всегда ему не доверяли.
– Он был такой же, как и другие, – медленно проговорила она.
– Нет, не такой.
А она продолжала ровным бесчувственным голосом:
– Он был лжив.
Тут вмешался Штейн.
– Нет! Нет! мое бедное дитя…
Он погладил ее руку, пассивно лежащую на его рукаве.
– Нет! Не лжив! Честен! Честен! – Он старался заглянуть в ее окаменевшее лицо. – Вы не понимаете. Ах, почему вы не понимаете?.. – И затем, обращаясь ко мне, бросил: – Ужасно! Когда-нибудь она поймет.
– Вы ей объясните? – спросил я, пристально на него смотря.
Они пошли вперед.
Я следил за ними. Подол ее платья волочился по тропинке. Черные волосы были распущены. Она шла, прямая и легкая, подле высокого, медленно шагавшего старика. Длинное пальто Штейна прямыми складками спускалось с его плеч. Они скрылись из виду за той рощей (может быть, вы не забыли), где растут шестнадцать разновидностей бамбука. Я был зачарован красотой этой поющей рощи, увенчанной остроконечными листьями и легкими кронами; меня приводила в восторг эта легкость и мощь, напоминающая голос бездумной жизни. Помню, я долго на нее смотрел и медлил уйти, как человек, прислушивающийся к успокоительному шепоту. Небо было жемчужно-серое. То был один из тех пасмурных дней, таких редких на тропиках, когда надвигаются воспоминания – воспоминания об иных берегах, иных лицах.
В тот же день я вернулся в город, захватив с собой Тамб Итама и другого малайца, на судне которого они в страхе бежали от страшной катастрофы. Потрясение, казалось, совершенно их изменило. Великую страсть девушки оно обратило в камень, а угрюмого молчаливого Тамб Итама сделало чуть ли не разговорчивым. Угрюмость его уступила место недоуменному смирению, словно он видел, как в минуту опасности могущественный амулет оказался бессильным. Торговец Буги, робкий человек, ясно изложил то, что знал. По-видимому, оба были подавлены чувством великого удивления перед тем, чего не могли понять.
Этой фразой и подписью Марлоу заканчивалось письмо. Тот, кому оно было адресовано, прибавил света в лампе. Одинокий над вздымающимися крышами города, словно смотритель маяка над волнами, обратился он к страницам рассказа.








