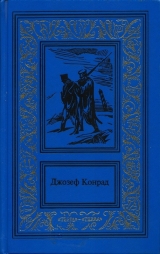
Текст книги "Дуэль. Победа. На отмелях. (Сочинения в 3 томах. Том 3)"
Автор книги: Джозеф Конрад
Жанр:
Морские приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 53 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
Вышло так, что во время обратного рейса Дэвидсон опоздал на двое суток. Разумеется, это было неважно, но он счел своим долгом немедленно съехать на берег, в самую жаркую пору дня, и отправиться на розыски Гейста. Гостиница Шомберга стояла в глубине обширной ограды, заключавшей в себе прекрасный сад, несколько больших деревьев, и в стороне, под их широко раскинутыми ветвями, зал «для концертов и других увеселений», как гласили объявления. Рваные афиши, огромными красными буквами вещавшие о «концертах каждый вечер», висели на каменных столбах по обе стороны ворот.
Путь был долог под жгучим солнцем. Дэвидсон остановился, чтобы вытереть облитые потом лицо и шею, на том месте, которое Шомберг называл «пьяццей». Сюда выходило несколько дверей, но все шторы были спущены. Не видно было ни души, даже ни одного китайского боя, ничего, кроме нескольких крашеных железных столов и стульев. Тень, одиночество, мертвая тишина и предательский легкий ветерок, совершенно неожиданно налетавший под деревьями, вызвали у Дэвидсона дрожь – ту легкую дрожь тропиков, которая часто означает – особенно в Сурабайе – лихорадку и больницу для неосторожного европейца.
Благоразумный Дэвидсон поспешил укрыться в ближайшей темной комнате. В искусственном полумраке, позади покрытых чехлами бильярдов, приподнялась распростертая на двух стульях белая фигура. Шомберг ежедневно предавался сиесте после второго завтрака, за табльдотом. Он медленно выпрямился, величественный, подозрительный и уже готовый к обороне, с распущенной на груди, подобно броне, широкой бородой. Он не любил Дэвидсона, который никогда не был его частым посетителем. Проходя мимо одного из столов, он нажал кнопку звонка и сказал холодным тоном запасного офицера:
– Что угодно?
Добряк Дэвидсон, вытирая снова мокрую шею, в простоте душевной заявил, что пришел за Гейстом, как это было условлено.
– Его здесь нет.
На звонок появился китаец. Шомберг повернулся к нему:
– Примите заказ.
Но Дэвидсону некогда было ждать; он попросил только передать Гейсту, что «Сиссия» уходит в полночь.
– Его здесь нет, повторяю вам.
– Боже великий, держу пари, что он в больнице.
Довольно естественное предположение в этой в высшей степени нездоровой местности.
Лейтенант запаса удовольствовался тем, что сжал губы и приподнял брови, не глядя на собеседника. Это могло означать псе что угодно, но Дэвидсон без колебания отбросил мысль о больнице. Тем не менее необходимо было разыскать Гейста до полуночи.
– Он здесь останавливался? – спросил он.
– Да, останавливался.
– Можете вы мне сказать, где он сейчас? – спокойно продолжал Дэвидсон.
Он начинал тревожиться, так как чувствовал к Гейсту привязанность добровольного покровителя.
– Не могу сказать. Это не мое дело, – ответил Шомберг, покачивая головой с торжественностью, заставлявшей предполагать какую-то страшную тайну.
Дэвидсон был само спокойствие. Это была его натура. Он ничем не проявил своих чувств, которые далеко не были благоприятны для Шомберга.
«Мне, без сомнения, дадут все нужные сведения в конторе Тесмана», – сказал он себе.
Но на дворе было чрезвычайно жарко, и если бы Гейст спустился в порт, он должен был уже знать о приходе «Сиссии». Быть может, он находился уже на судне, наслаждаясь неведомой городу свежестью. Как тучный человек, Дэвидсон особенно ценил прохладу и склонен был к неподвижности. Он остановился на минуту в нерешительности. Шомберг, стоя на пороге, смотрел на двор, притворяясь глубоко равнодушным. Но он не выдержал и, повернувшись, спросил с внезапной яростью:
– Вы хотели его видеть?
– Ну да, – сказал Дэвидсон. – Мы условились встретиться.
– Не портите себе кровь, он сейчас плюет на это.
– Как так?
– А вот судите сами. Его здесь нет – не так ли? Можете мне поверить. Не портите себе кровь из-за него. Я даю вам дружеский совет.
– Спасибо, – проговорил Дэвидсон, внутренне содрогаясь от злобы тевтона, – Я, пожалуй, присяду и выпью чего-нибудь.
Шомберг этого не ожидал. Он резко крикнул:
– Человек!
Вошел китаец, и Шомберг, кивнув посетителю головой, удалился ворча. Дэвидсон слышал, как он скрежетал зубами.
Дэвидсон сидел посреди бильярдов в полном одиночестве; можно было подумать, что в гостинице не было ни души. Дэвидсон был от природы так спокоен, что его не слишком взволновало исчезновение Гейста и таинственное поведение Шомберга. Он смотрел на все это по-своему, будучи до некоторой степени прозорливцем. Что-то случилось, и ему противно было производить розыск, так как его удерживало предчувствие, чти свет прольется для него здесь. Афиша, возвещавшая о «концер тах каждый вечер» и сохранившаяся лучше, чем висевшие у вхо да, была прибита к стене против него. Он машинально взглянул на нее и поражен был довольно редким в то время фактом, что оркестр состоял из женщин «Восточного турне Цанджиакомо и числе восемнадцати исполнительниц». Афиша гласила, что они имели честь играть свой избранный репертуар перед различны ми «превосходительствами» колоний, а также перед пашами, шейхами, вождями, его величеством Маскатским султаном н проч. и проч.».
Дэвидсон пожалел этих восемнадцать исполнительниц. Ом знал, что это была за жизнь, знал жалкие условия и грубые при ключения в поездках такого рода под предводительством таких Цанджиакомо, которые выдают себя за музыкантов, но зача стую бывают всем, чем угодно, кроме этого. Покуда он читал афишу, позади него открылась дверь и вошла женщина, которая считалась женою Шомберга – и считалась, без сомнения, спра ведливо, потому что, как цинично заметил некто, она были слишком непривлекательна, чтобы быть чем-либо иным. Ее запуганное выражение заставляло предполагать, что трактирщик ужасно обращался с нею.
Дэвидсон приподнял шляпу. Госпожа Шомберг наклонила бледное лицо и тотчас уселась за чем-то вроде высокой конторки, стоявшей против двери; позади нее находилось зеркало и ряд бутылок. Из ее тщательно возведенной прически на худую шею падали с левой стороны два локона; на ней было шелковое платье; она приступала к исполнению своих обязанностей. Шомберг требовал ее присутствия здесь, хотя она, разумеется, ничего не прибавляла к приманкам кафе. Она сидела среди шума и табачного дыма, словно идол на троне, посылая время от времени в сторону бильярдов бессмысленную улыбку и ни с кем не заговаривая; с нею также никто не заговаривал. Что касается Шомберга, то он обращал на нее внимание только затем, чтобы злобно сдвигать брови безо всякой причины. Даже китайцы игнорировали ее присутствие.
Она оторвала Дэвидсона от его размышлений. Очутившись с нею наедине, он почувствовал себя стесненным ее молчанием, ее неподвижностью, ее широко раскрытыми глазами. Он легко сочувствовал людям. Ему показалось невежливым не оказать ей никакого внимания. Он сказал, указывая на афишу:
– Эти дамы остановились у вас в гостинице?
Она так мало привыкла, чтобы посетители обращались к ней, что при звуке его голоса подпрыгнула на месте. Дэвидсон позже рассказывал нам, что она подпрыгнула совсем как деревянная кукла, не утрачивая нисколько своей общей неподвижности. Она даже не повела глазами, но свободно ответила ему, хотя губы ее, казалось, не шевелились:
– Они пробыли здесь больше месяца. Теперь они уехали. Они играли каждый вечер.
– И хорошо?
Она ничего не ответила, и так как она продолжала пристально смотреть перед собой, ее молчание смутило Дэвидсона. Между тем невозможно было, чтобы она его не слыхала. Быть может, она не хотела высказать своего мнения. Могло случиться, что Шомберг по семейным соображениям выучил ее оставлять его при себе. Но Дэвидсон чувствовал себя обязанным поддерживать беседу. Поэтому он снова сказал, истолковывая по – своему это странное молчание:
– Понимаю. Ничего замечательного. Эти оркестры редко бывают хороши. Итальянцы, мистрис Шомберг, судя по фамилии директора?
Она отрицательно покачала головой.
– Нет. На самом деле он немец. Только он красит волосы и бороду в черный цвет из-за профессии. Цанджиакомо это псевдоним для сцены.
– Удивительно, – пробормотал Дэвидсон.
Так как мысли его были полны Гейстом, то ему пришло в голову, что хозяйка могла что-нибудь знать. Предположение прямо невероятное для всякого, кто бы взглянул на госпожу Шомберг. Никто никогда не подумал, что она могла иметь хоть каплю ума. На нее смотрели, как на вещь, как на автомат, как на ужасный манекен с механизмом, который заставлял ее по временам наклонять голову и изредка глупо улыбаться. Дэвидсон рассматривал этот профиль с приплюснутым носом, впалыми щеками и круглыми, пристальными, немигающими глазами. Он спрашивал себя: «оно» сейчас говорило? Будет ли «оно» еще говорить?
По своей необычайности это было так же занимательно, как пытаться разговаривать с механической игрушкой. На лице Дэвидсона появилась улыбка человека, делающего забавный опыт. Он снова спросил:
– Но другие участники этого оркестра были настоящие итальянцы – не правда ли?
Это было ему совершенно безразлично, но он хотел убедиться, будет ли механизм действовать. Механизм заработал. Дэвидсон узнал, что они не были итальянцами, они, по-видимому, принадлежали к всевозможным национальностям. Произошла минутная остановка; на неподвижном лице круглый глаз повернулся через всю комнату к открытой на «пьяццу» двери, потом тот же тихий голос произнес:
– Там была даже одна молодая англичанка.
– Бедное создание, – посочувствовал Дэвидсон. – Я боюсь, что с этими женщинами обращаются не лучше, чем с рабынями. Что, этот субъект с крашеной бородой был в своем роде порядочный человек?
Механизм остался безмолвным, и участливая душа Дэвидсона сама вывела свои заключения.
– Ужасная жизнь у этих женщин, – продолжал он. – Говоря «молодая англичанка», вы действительно хотите сказать «молодая девушка», мистрис Шомберг? Большинство этих музыкантш далеко не подростки.
– Скорее молодая, – проговорил глухой голос из бесстрастных уст госпожи Шомберг.
Ободренный Дэвидсон заявил, что он очень ее жалеет. Он легко чувствовал жалость к людям.
– Куда они направились отсюда? – спросил он.
– Она не поехала с ними. Она сбежала.
Таковы были полученные Дэвидсоном сведения. Они возбудили в нем новый интерес.
– Вот как! – воскликнул он.
Затем с видом человека, знающего жизнь, спокойно спросил:
– С кем?
Неподвижность придавала госпоже Шомберг вид глубокого внимания. Быть может, она и на самом деле прислушивалась, но, по всей вероятности, Шомберг доканчивал свою сиесту где – нибудь в отдаленном углу дома. Царило глубокое молчание, и оно было достаточно длительным, чтобы произвести известное впечатление. Затем со своего трона над Дэвидсоном она прошептала наконец:
– С вашим другом.
– Ах, вы знаете, что я здесь отыскиваю друга? – сказал Дэвидсон, полный надежды. – Не можете ли вы мне сказать?..
– Я сказала.
– Что?!
Можно было подумать, что завеса тумана, разорвавшаяся перед взорами Дэвидсона, открыла ему невероятные вещи.
– Ведь вы же не хотите меня уверить?.. – вскричал он. – Это не такой человек.
Но он произнес последние слова изменившимся голосом. Госпожа Шомберг не сделала ни малейшего движения. После толчка, заставившего его встрепенуться, Дэвидсон снова совершенно поник.
– Гейст! Такой благородный человек! – воскликнул он.
Казалось, госпожа Шомберг не слыхала его. Это необычайное приключение совершенно не вязалось с представлением, которое Дэвидсон имел о Гейсте. Гейст никогда не говорил о женщинах, как будто он никогда о них не думал и не вспоминал об их существовании. И после этого, так вот, вдруг, бежать со встреченной случайно артисткой из оркестра!
«На меня достаточно было подуть, чтобы повалить меня на землю», – рассказывал нам Дэвидсон несколько времени спустя.
Тем не менее он признавался, что начинал снисходительно относиться к обеим сторонам этого ошеломляющего союза. Подумав хорошенько, становилось совершенно очевидно, что подобный увоз не мешал Гейсту быть благородным человеком. Говоря это, Дэвидсон подставлял свою серьезную, круглую физиономию нашим откровенным улыбкам и усмешкам. Не было ничего смешного в том, что Гейст увез молодую девушку в Самбуран. Разумеется, пустынность и развалины острова произвели сильное впечатление на бесхитростную душу Дэвидсона. Они были несовместимы с фривольными комментариями тех, кто их не видел. Эта черная дамба, выдвигавшаяся из джунглей, чтобы погрузиться в пустынное море, остовы крыш над покинутыми хижинами, мрачно вырисовывавшиеся над высокими травами… бррр… Гигантская траурная доска – вывеска Тропического Угольного Акционерного Общества, еще возвышавшаяся над разраставшейся растительностью и поставленная словно эпитафия над могилой, которую представляла собою на дальнем конце пристани огромная куча непроданного угля, только усиливала общее впечатление уныния…
Так рассуждал чувствительный Дэвидсон. Девушка, должно быть, была очень несчастна, что последовала в такое место за незнакомым человеком. Без сомнения, Гейст рассказал ей правду – это был джентльмен. Но какими словами можно было описать условия жизни в Самбуране? Недостаточно было назвать его необитаемым островом. Кроме того, когда попадаешь на необитаемый остров, с ним поневоле приходится мириться, но предположить, чтобы молодая скрипачка странствующего оркестра могла находить приятным пребывание на нем хотя бы в течение дня, одного только дня, это было недопустимо. Один вид его должен ее напугать – она стала бы кричать от страха.
Каким огромным запасом сочувствия иногда обладают флегматичные толстяки! Дэвидсон был взволнован до глубины души, и нетрудно было заметить, что беспокоился он о Гейсте. Мы спросили его, не проплывал ли он там за последнее время?
– О да, я всегда там проплываю, приблизительно на расстоянии полумили.
– Вы никого не видели?
– Нет, ни единой души, ни одного призрака.
– Вы давали свистки?
– Свистки? Неужели вы думаете, что я стану делать подобные вещи?
Он отбрасывал даже мысль о возможности такого грубого вторжения в чужую жизнь. Необычайно деликатен этот Дэвидсон.
– Хорошо, но как же вы знаете, что они там? – задали мы ему весьма естественный вопрос.
Оказалось, что Гейст доверил госпоже Шомберг весточку для Дэвидсона: несколько строк, набросанных карандашом на клочке бумаги, в которых сообщалось, что непредвиденное обстоятельство вынуждает его уехать ранее условленного времени. Он просил Дэвидсона извинить его кажущуюся невежливость. Хозяйка дома – он подразумевал госпожу Шомберг – изложит ему факты, хотя, разумеется, не имеет возможности объяснить их.
– Что тут надо было объяснять? – спрашивал Дэвидсон с сомнением. – Он влюбился в эту молоденькую скрипачку и…
– И она в него, как видно, – предположил я.
– Все это произошло чрезвычайно быстро, – заявил Дэвидсон. – Как вы думаете, что из всего этого произойдет?
– Раскаяние, несомненно. Но как это вышло, что поверенной избрана была госпожа Шомберг?
И действительно, по нашему мнению, даже восковая фигура могла бы оказать больше помощи, чем эта женщина, которую все мы привыкли видеть восседающей над обоими бильярдами без выражения на лице, без движений, без голоса, без взгляда…
– Ну что ж, она помогла девушке бежать, – сказал Дэвидсон. Он смотрел на меня своими наивными глазами, округлившимися от постоянного изумления, в которое повергла его эта история. Подобно тому, как не проходит вызванная болью или горем нервная дрожь, казалось, что Дэвидсон тоже никогда не оправится.
– Мистрис Шомберг бросила мне на колени записку Гейста, свернутую так, как свертывают бумажку, чтобы закуривать трубку. Я в это время сидел, ничего не подозревая, – продолжал Дэвидсон. – Как только ко мне вернулся рассудок, я спросил ее, каким чертом Гейст выбрал ее, чтобы именно ей доверить эту бумажку? Тогда, похожая, скорее, на картину, чем на живую женщину, она прошептала так тихо, что я едва мог ее расслышать:
– Я им помогала. Я собрала ее вещи, завернула их в мою собственную шаль и выбросила их за ограду через окно в задней стене дома. Вот что я сделала.
– Эта женщина, которую я не считал бы способной пальцем пошевелить, – изумленно повторил Дэвидсон своим спокойным, слегка задыхающимся голосом.
– Что вы об этом думаете?
– Я думаю, что у нее должна была быть какая-нибудь особая причина, чтобы им услужить. Она слишком безжизненна, чтобы ее можно было заподозрить в импульсивном сочувствии. Нельзя допустить, чтобы Гейст ее подкупил. Каковы бы ни были его средства, он все же не был достаточно богат для этого. Или же могло случиться, что толкнуть женщину в объятия мужчины побудила ее бескорыстная страсть, которая в высшем обществе переходит в манию устройства браков? Это был бы разительнейший пример такой страсти.
– Он не должен был быть особенно тяжел, ее узел, – говорил нам впоследствии Дэвидсон.
– Я полагаю, что эта девушка, должно быть, исключительно привлекательна, – предположил я.
!: – Не знаю. Она была несчастна. У нее было, по-видимому, только немного белья да пара тех белых платьев, которые они надевают перед выходом на сцену.
Дэвидсон следовал течению собственных своих мыслей. По его мнению, в истории тропиков никогда не случалось подобного приключения. t – Где найдется человек, чтобы похитить девушку из оркестра? Разумеется, время от времени люди увлекаются хорошенькой певичкой, но чтобы бежать с нею… вы шутите. Надо было быть таким сумасшедшим, как Гейст.
– Подумайте только, что это означает, – продолжал Дэвидсон, скрывавший весьма богатую фантазию под своим неизменным спокойствием, – Только попробуйте об этом подумать. Постоянные одинокие размышления на Самбуране перевернули ему мозги вверх дном. Он не дал себе времени поразмыслить, иначе не сделал бы этого. Ни один человек в здравом уме… Как может продолжаться такого рода штука? Что он будет с ней делать, в конце концов? Безумие, говорю вам, безумие.
– Вы говорите, что он безумец? Шомберг уверяет, что он умирает с голоду на своем острове, так что может кончиться тем, что он ее съест, – предположил я.
– Мистрис Шомберг не успела рассказать подробностей, – продолжал Дэвидсон.
По правде говоря, было удивительно и то, что их так долго оставили вдвоем. Дневное оцепенение подходило к концу. На веранде – извините, на «пьяцце» – начинали раздаваться шаги и голоса; шум передвигаемых стульев, звонки. Появились клиенты. Госпожа Шомберг стала торопливо просить Дэвидсона – не глядя на него, – чтобы он никому ничего не рассказывал, как вдруг ее нервный шепот оборвался на полуслове. Шомберг вошел из маленькой задней двери с приглаженными волосами и тщательно расчесанной бородой, но еще с отяжелевшими от сна веками. Он недоверчиво посмотрел на Дэвидсона и даже бросил взгляд на свою жену, но был обманут природным спокойствием первого и обычной неподвижностью второй.
– Ты выслала во двор напитки? – спросил он грубо.
Она не разжала рта, так как в эту минуту появился слуга с полным подносом и направился к «пьяцце». Шомберг подошел к двери и раскланялся со своими посетителями, но не присоединился к ним. Он остался стоять спиною к зале, наполовину загораживая дверь. Он еще стоял так, когда Дэвидсон, посидев несколько минут неподвижно, поднялся, чтобы уйти. Услышав шум, Шомберг повернул голову и увидел, как Дэвидсон поклонился госпоже Шомберг и получил в ответ ледяной поклон, сопровождаемый глупой улыбкой, похожей на гримасу. Трактирщик отвел глаза. Он был полон высокомерного достоинства.
Хитрый, несмотря на свое простодушие, Дэвидсон остановился у двери.
– Очень жаль, что вы ничего не хотите мне сказать об исчезновении моего приятеля, – сказал он, – моего приятеля Гейста, вы знаете. Я думаю, единственное, что мне остается сделать, это пойти за справками в порт. Там я, наверное, что-нибудь узнаю…
– Подите за справками к черту, – ответил Шомберг хриплым, сдавленным голосом.
Дэвидсон заговорил с трактирщиком главным образом для того, чтобы отвлечь всякое подозрение от госпожи Шомберг; но он все же был бы рад узнать что-либо большее и увидеть поступок Гейста в новом освещении. Это был лишь пробный шар, но пущенный ловко. Он удался превыше самых смелых ожиданий, так как угол зрения трактирщика страшно искажал предметы. Он вдруг принялся тем же глухим и могильным голосом поносить Гейста наихудшими словами, из которых самыми нежными были «свинья» и «собака», он делал это с такой яростью, что буквально задыхался. Воспользовавшись паузой, Дэвидсон, темперамент которого мог устоять и перед более сильными испытаниями, возразил ему вполголоса:
– Неблагоразумно доводить себя до такой ярости. Если бы даже он сбежал с вашей кассой…
Рослый трактирщик наклонился и, приблизив свою разъяренную физиономию к лицу Дэвидсона, вскричал:
– С моей кассой!.. Я… он… Взгляните на меня, капитан Дэвидсон. Он сбежал с девкой. Какое мне дело до девки? Мне плевать на нее. Это…
Он выкрикнул мерзкое слово, от которого Дэвидсона передернуло. Вот чем была девушка, и Шомберг снова заявил, что плюет на нее. Его беспокоила лишь добрая слава его гостиницы. Всюду, где бы он ни держал гостиницу, он имел труппы артисток. Они рекомендовали его друг дружке; но что будет теперь, если распространится слух, что импресарио рискуют потерять под его кровлей – под его кровлей! – членов своей труппы? И как раз в то время, когда он только что истратил семьсот тридцать четыре гильдера на постройку на своем участке концертного зала! Разве можно было делать такие вещи в солидной гостинице? Это дерзость, неприличие, бесстыдство, это чудовищно! Бродяга, негодяй, мошенник, бандит, скотина!
Шомберг схватил Дэвидсона за пуговицу и держал его в дверях как раз против перепуганной госпожи Шомберг. Дэвидсон кинул тайком взгляд в ее сторону и хотел сделать ей какой-нибудь успокаивающий знак, но женщина казалась до такой степени лишенной чувства и даже жизни, что эта предосторожность представлялась совершенно излишней.
Он со спокойной решимостью освободил свою пуговицу. После этого, проглотив свое последнее ругательство, Шомберг скрылся неизвестно куда, внутрь дома, чтобы собраться с мыслями и успокоиться в одиночестве. Проходившие мимо посетители были свидетелями бурного разговора в дверях. Одного из них Дэвидсон знал и, проходя, сделал ему знак, но тот окликнул его:
– Он все еще во власти своего припадка? Он еще с тех пор не успокоился?
Говоривший громко расхохотался в то время, как все прочие улыбались. Дэвидсон остановился.
– Да, кажется.
Он рассказывал нам, что чувствовал себя в состоянии какого-то покорного оцепенения, но не показывал этого: с тем же успехом можно было бы разбираться в настроении спрятавшейся под своим щитом черепахи.
– Это представляется мне весьма странным, – задумчиво проговорил он.
| – Ну, да они ведь здорово подрались, – возразил тот.
– Что вы говорите, неужели у него была драка с Гейстом? – спросил Дэвидсон, сильно встревожившись, несмотря на свое недоверие.
– С Гейстом? Нет. Но с директором – этим типом, который возит за собой этих женщин. Утром синьор Цанджиакомо принялся, как безумный, бегать и разыскивать нашего достопочтенного друга Шомберга. Уверяю вас, они катались вдвоем по полу этой самой веранды после того, как набегались один за другим по всему дому. Двери хлопали, женщины визжали – все семнадцать женщин выскочили в столовую, все китайцы позалезали на деревья. Эй, Джон, ты лазил на дерево смотреть драку?
Бесстрастный парень с миндалевидными глазами издал презрительное мычание, кончил вытирать стол и удалился.
– Настоящая свалка дикарей. И начал Цанджиакомо. Ах, вот и Шомберг! Не правда ли, Шомберг, он накинулся на вас, лишь только исчезновение девушки было замечено? Ведь это вы настояли на том, чтобы музыкантши присоединялись к публике во время антракта.
Шомберг только что появился в дверях. Он приблизился. Его борода имела внушительный вид, но ноздри были страшно расширены; усилия, которые он делал, чтобы справиться со своим голосом, были очевидны.
– Разумеется. Это было чисто деловое столкновение. Я согласился на совершенно особые условия исключительно ради вас, господа. Я забочусь о своих клиентах: по вечерам в этом городишке решительно нечего делать. Я думаю, господа, все вы были рады послушать немного хорошей музыки; а что дурного в том, чтобы предложить артистке стаканчик гренадина или чего – нибудь другого? Но этот человек, этот швед, обманул девушку. Он тут всех провел. Я уже несколько лет приглядывался к нему. Вы помните, как он обошел Моррисона?
Он круто повернулся, словно на параде, и вышел. Клиенты за столом молча переглянулись. Дэвидсон имел вид спокойного зрителя. С веранды слышно было, как Шомберг злобно шагал по биллиардной.
– Забавнее всего в этой истории, – начал тот, который говорил раньше – англичанин, приказчик голландской фирмы, – что в то же самое утро оба они ездили в одном экипаже разыскивать девушку и Гейста. Я видел, как они повсюду бегали за справками. Я не знаю, что бы они могли сделать с беглянкой, но казалось, что они готовы наброситься на нашего Гейста и растерзать его на месте.
Он никогда не видел ничего забавнее, говорил он.
– Оба сыщика лихорадочно преследовали одну и ту же цель, бросая друг на друга яростные взгляды. Ненависть и недоверие заставили их сесть в один и тот же паровой катер; они носились от судна к судну по всему порту, в котором произвели настоящую сенсацию, смею вас уверить. Капитаны, съезжавшие на берег днем, рассказывали о нашествии на их суда, спрашивая, кто эти два злобные безумца, которые разъезжали на паровом катере, разыскивая каких-то мужчину и девушку. Как видно было из беспорядочных рассказов, им оказывали на рейде не особенно теплый прием; говорят даже, что помощник капитана на американском пароходе спустил их за борт с довольно неудобной быстротой.
Тем временем Гейст и девушка, севшие глубокой ночью на одну из шхун фирмы Тесман, шедшую на восток, находились уже в нескольких милях оттуда; так рассказывали потом яванские лодочники, которых Гейст нанимал в три часа утра, чтобы перевезти их на судно. Судно снялось с якоря до рассвета, пользуясь обычным береговым бризом и, вероятно, в это время было еще видно. Между тем после столкновения с американцем оба преследователя возвратились на берег. На пристани у них снова была перебранка по-немецки, но на этот раз без драки, и, наконец, глядя друг на друга с яростной враждебностью, они уселись вместе в «гарри», нанятый на половинных началах из явно экономических соображений. Они уехали, оставив позади себя небольшую группу изумленных европейцев и туземцев.
Выслушав эту удивительную историю, Дэвидсон покинул веранду, на которую стекались завсегдатаи. Темой большей части разговоров служила эскапада Гейста. Дэвидсон говорил себе, что никогда еще этот загадочный человек не давал такой богатой пищи толкам. Нет! Даже тогда, когда он, временно сделавшись видным лицом при возникновении Тропического Угольного Акционерного Общества, служил объектом нелепой критики и глупой зависти для всех бродяг и авантюристов на островах. Дэвидсон заключил из этого, что люди любят обсуждать скандалы такого рода более охотно, чем всякие другие.
Я спросил его, считает ли он, в сущности говоря, этот скандал таким уж крупным.
– О бог мой, нет! – воскликнул добряк, который сам был совершенно неспособен на малейший проступок против приличий. – Но все же такой вещи я бы никогда не сделал, даже если бы был не женат.
В этом заявлении не звучало ни малейшего порицания – скорее, некоторое сожаление. Как и я, Дэвидсон подозревал, что подкладкой этой истории было спасение человека из беды. Не потому, чтобы оба мы были романтиками, окрашивавшими вселенную в оттенки нашего темперамента, но оба мы были достаточно проницательны, чтобы давно разглядеть всю романтичность Гейста.
– У меня не хватило бы для этого смелости, – продолжал Дэвидсон. – Я рассматриваю вещи, так сказать, со всех сторон, а Гейст – нет, иначе ему стало бы страшно. Нельзя увезти женщину в дикие джунгли без того, чтобы потом не пришлось кусать себе локти; а то, что Гейст – джентльмен, нисколько не устраивает дела… напротив.







