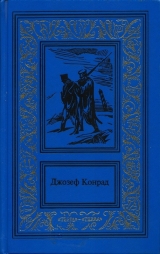
Текст книги "Дуэль. Победа. На отмелях. (Сочинения в 3 томах. Том 3)"
Автор книги: Джозеф Конрад
Жанр:
Морские приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 53 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
Дэвидсон больше ничего не рассказывал, и я с ним не встречался месяца три. Когда мы снова встретились, первые слова его были:
– Я видел его.
Потом он тотчас стал уверять меня, что не позволил себе никакой вольности, не совершил никакой нескромности. Его позвали. Иначе он никогда бы не осмелился нарушить уединение Гейста.
– Я в этом и не сомневаюсь, – ответил я, скрывая усмешку, вызванную его необычайной щепетильностью.
Это был самый деликатный человек из всех, которые когда – либо водили пароходы между островами. Но его человечность, не делавшаяся от этого ни менее великой, ни менее похвальной, побуждала его проплывать в виду пристани Самбурана (в расстоянии приблизительно одной мили) аккуратно через каждые двадцать три дня. Дэвидсон был деликатен, добр и точен.
– Гейст позвал вас? – спросил я с любопытством.
Да, Гейст его позвал однажды, когда он проплывал мимо в обычный срок. Находясь в открытом море против Самбурана, он осматривал в бинокль побережье со своей неутомимой и пунктуальной добротой.
– Я увидел человека в белом; это мог быть только Гейст. Он привязал к бамбуковой жерди что-то вроде огромного флага и размахивал им, стоя на конце старой пристани.
Дэвидсон предпочел не причаливать на пароходе; по всей вероятности, из опасения чьей-либо нескромности. Но, бросив якорь недалеко от берега, он спустил на воду шлюпку с командой малайцев и сел в нее сам.
Увидев шлюпку у берега, Гейст опустил свой флаг, и, когда Дэвидсон приблизился, он, стоя на коленях, торопливо отвязывал его от жерди.
– Случилось что-нибудь? – спросил я.
Дэвидсон сделал паузу, и мое любопытство, разумеется, было возбуждено. Вы должны помнить, что Гейст, каким его знали в Архипелаге, был не из тех – как бы это сказать? – не из тех людей, которые стали бы подавать сигналы по пустякам.
– Эти самые слова вырвались и у меня прежде, чем шлюпка коснулась бревен, я не мог их удержать.
Гейст поднялся с колен и тщательно сворачивал свой флаг, размерами с добрую простыню, как заметил Дэвидсон.
– Нет, ничего не случилось, – воскликнул он. Его белые зубы красиво сверкали под горизонтальными золотистыми усами. Я не знаю, деликатность или тучность помешали Дэвидсону взобраться на пристань. Он встал на ноги в шлюпке, а Гейст с полной доброжелательства улыбкой очень низко наклонился над ним. Он благодарил и в то же время извинялся в позволенной себе вольности точно так же, как он мог бы это делать в обыкновенное время. Дэвидсон ожидал найти в нем какую-либо перемену, но ее не оказалось. Ничто в его поведении не обнаруживало чудовищного факта, что вот тут, в джунглях, жила девушка, музыкантша из оркестра, которую он сорвал с концертной эстрады, чтобы повергнуть в одиночество. Это не придало ему ни сконфуженного, ни недоверчивого, ни пристыженного вида. Разве только он взял несколько конфиденциальный тон, говоря с Дэвидсоном. Слова его были загадочны.
– Я решился подать вам сигнал, потому что может быть крайне важным, чтобы приличия были соблюдены. Не для меня, разумеется. Я не забочусь о том, что могут сказать люди, и уж конечно никто не посмел бы меня задеть. Да, я, может быть, несколько виноват, допустив со своей стороны такой поступок. Каким бы невинным он ни представлялся мне, поступок этот сам по себе зловреден. Вот почему мир в общем преступен. Но я покончил с ним. Никогда больше не пошевельну я пальцем. Было время, когда я думал, что внимательно наблюдать факты есть лучший способ убивать время, которое нам волей-неволей даровано; но теперь я покончил с наблюдением.
Представьте себе Дэвидсона, простодушного Дэвидсона, которому говорят подобные слова у разбитой, заброшенной пристани, выступающей из тропической заросли. Он никогда не слышал, чтобы кто-нибудь говорил так, тем более Гейст, речь которого обычно была сжата и вежлива, с легким оттенком шутливости в звуках голоса.
– Он с ума сошел, – сказал он себе.
Но поглядев на лицо, наклонившееся к нему с высоты пристани, он вынужден был отбросить мысль о банальном, обыкновенном сумасшествии. Разумеется, это были совершенно непривычные речи, но в этот момент он вспомнил – и потому позабыл о своем удивлении, – что у Гейста в доме была женщина. Эти странные слова, должно быть, относились к женщине. Дэвидсон справился со своим нелепым страхом и спросил, чтобы доказать свою дружбу, и не зная, что бы ему другое сказать:
– Может быть, вам не хватает провизии?
Гейст улыбнулся и покачал головой.
– Нет, нет, не беспокойтесь. У нас довольно хорошие запасы. Спасибо. Я позволил себе задержать вас не потому, чтобы нам чего-нибудь недоставало, мне или моей… спутнице. Особа, о которой я думал, когда решился обратиться к вам за содействием, – мистрис Шомберг…
• – Я с ней говорил, – перебил Дэвидсон. v – Ах, вы?.. Да, я надеялся, что она найдет способ…
– Но она мне не много сказала, – прервал Дэвидсон, который был не прочь узнать побольше – он сам не знал что. i – Гм… да. Но моя записка? Да? Она нашла возможность передать ее вам? Это хорошо, это очень хорошо. У нее больше ресурсов, чем это кажется.
– Это часто бывает с женщинами, – заметил Дэвидсон.
Впечатление странности, мучившее Дэвидсона при одной мысли, что его собеседник увез девушку, сглаживалось с каждым мгновением.
– Всегда бывают неожиданности, – обобщил он, стараясь подать Гейсту веревку, за которую тот не схватился, ибо спокойно продолжал:
– Это шаль мистрис Шомберг.
Он пощупал материю, висевшую у него на руке.
– Кажется, индийская, – добавил он, глядя на нее.
– Не особенно ценная, – сказал правдивый Дэвидсон.
– Не особенно ценная, – повторил Гейст. – Но самое важное, это, что она принадлежит жене Шомберга. Ужасный негодяй этот Шомберг. Вы не согласны с этим?
Дэвидсон слабо улыбнулся.
– Мы там привыкли к нему, – проговорил он, словно стараясь найти извинение всеобщей малодушной терпимости в отношении этого явного бича божия, – Я не могу так его назвать. Я знаю его только как трактирщика.
– Я его и как трактирщика не знал до той минуты, как вы были любезны доставить меня в Сурабайю, и я остановился у него из экономии. Гостиница «Нидерланды» слишком дорога, и там считается, что каждый должен привезти с собой своего слугу. Это неудобно.
– Конечно, конечно, – с живостью согласился Дэвидсон.
После короткого молчания Гейст снова заговорил о шали, которую надо было вернуть госпоже Шомберг.
– У нее могут выйти большие неприятности, – сказал он, – если она не сможет ее предъявить в случае, когда спросят о ней, – Это его, Гейста, сильно тревожило. Он знал, что она трс пещет перед Шомбергом. Очевидно, не без причин.
Дэвидсон это также заметил.
– Это ей не помешало, – сказал он, – обмануть своего мужа, так сказать, ради постороннего человека.
– Ах, вам известно? – ответил Гейст. – Да, она мне… она нам помогла.
– Она рассказала мне об этом. У меня с нею был целый разговор, – пояснил Дэвидсон. – Разговор с мистрис Шомберг! Вы представляете себе это? Если бы я рассказал товарищам, они бы мне не поверили. Как вы ее приручили, Гейст? Как вам пришло в голову? Правду говоря, она на вид так глупа, что кажется, будто не понимает человеческой речи, и так труслива, что должна бояться цыпленка. О женщины, женщины! Нельзя знать, что может скрываться в самых смирных.
– Она заботилась о сохранении своего общественного положения, – сказал Гейст, – это очень почтенное стремление.
– Значит, вот в чем дело? Я об этом как будто догадывался, – признался Дэвидсон.
Потом он рассказал Гейсту о сценах, происшедших после его бегства. Гейст слушал с вежливым вниманием и чуть-чуть нахмурился, но не высказал ни малейшего удивления и не сделал никакого замечания. Когда Дэвидсон кончил, Гейст подал ему шаль, и Дэвидсон обещал сделать все возможное, чтобы тем или иным способом тайно возвратить ее госпоже Шомберг. Гейст высказал свою благодарность несколькими простыми словами, которым придавал еще более цены в высшей степени любезный тон, которым они были произнесены. Дэвидсон готовился к отплытию. Они не смотрели друг на друга. Вдруг Гейст сказал:
– Вы понимаете, что дело шло о возмутительном преследовании, не правда ли? Я это заметил и…
Участливый Дэвидсон мог легко понять.
– Меня это не удивляет, – сказал он спокойно. – Поистине возмутительно. И разумеется, будучи не женаты… вы вправе были вмешаться.
Он сел на корму шлюпки и уже держал шнурки руля в руках, когда Гейст внезапно заметил:
– Свет – злая собака. Он вас кусает при всяком удобном случае. Но я думаю, что здесь мы можем презирать судьбу с полной безопасностью.
Рассказывая мне все это, Дэвидсон решился сделать одно лишь замечание:
– Странный способ презирать судьбу, взяв на буксир женщину.
VIIОднажды, много времени спустя, – мы не часто встречались, – я спросил Дэвидсона, что он сделал с шалью, и узнал, что, приступив с решимостью к выполнению своей миссии, он не встретил больших затруднений. В первое же посещение Сурабайи он свернул шаль как можно туже, чтобы сделать самый маленький пакет, завернул ее в коричневую бумагу и взял с собою на берег. Когда его вещи были отправлены в город, он сел в «гарри» с пакетом в руках и велел везти себя в гостиницу. Руководясь прежним своим опытом, он рассчитал так, чтобы приехать как раз во время «сиесты» Шомберга. Застав, как и в прошлый раз, поле действий свободным, он вошел в бильярдную, выбрал место в глубине комнаты, вблизи возвышения, на котором должна была в свое время воссесть госпожа Шомберг, и резким звонком нарушил сонную тишину дома. Разумеется, тотчас же появился китаец. Дэвидсон заказал какой-то напиток, твердо решив не покидать своего места.
– Я бы сделал двадцать заказов подряд, если бы понадобилось, – сказал он (а он был великий трезвенник), – только бы не унести пакета обратно. Немыслимо было оставить его где – нибудь в углу, не предупредив женщину, что он там. Это могло бы принять для нее худший оборот, чем если бы ей совсем его не отдали.
Итак, он ожидал, неоднократно давая звонки и проглотив два или три замороженных напитка, которых ему вовсе не хотелось. Как он и надеялся, вскоре появилась госпожа Шомберг – шелковое платье, длинная шея, английские букли, испуганные глаза, бессмысленная улыбка, одним словом, госпожа Шомберг собственной персоной. Возможно, что это животное, ее муж, лениво послал ее посмотреть, кто этот невоздержный человек, который в этот тихий час поднимает в доме такой шум. Поклон, легкое движение головы; она забралась на свое место на возвышении, позади конторки, имея там наверху такой бестелесный и нереальный вид, что, не будь пакета, заявил Дэвидсон, он подумал бы, что видел все происшедшее между ними во сне. Чтобы удалить китайца, он потребовал еще какой-то прохладительный напиток и, схватив лежавший рядом с ним на стуле пакет, быстро сунул его под конторку к ногам госпожи Шомберг, прошептав просто: «Это ваше». Вот и все; остальное было ее личным делом. Впрочем, на большее не хватило бы и времени. Дэвидсон едва успел вернуться к своему месту, как вошел Шомберг. Он притворно зевал, бросая вокруг себя недоверчивые, злобные взгляды. Невозмутимое спокойствие Дэвидсона чудесным образом помогло ему; разумеется, трактирщик был бесконечно далек от подозрения, что между его женой и этим клиентом могли существовать какие бы то ни было отношения.
Что касается госпожи Шомберг, то она сидела на месте, словно идол. Дэвидсон был поражен и восхищен. Теперь он был уверен, что она в течение многих лет намеренно принимала та кой вид. Она даже никогда не моргала глазами. Это было нечто невероятное. Это открытие наполнило его чем-то похожим на ужас; мысль о том, что он знает истинную госпожу Шомберг лучше, чем кто-либо на Островах, не исключая и самого Шомберга, вызывала в нем удивление, от которого он не мог прийти в себя. Эта женщина была неисчерпаемым кладезем притворст ва. Немудрено выкрасть девушку из-под носа двух мужчин, имея на своей стороне такого сообщника.
Удивительнее всего было все-таки то, что Гейст оказался замешанным в бабьи дела. В течение многих лет жизнь его протекала у нас на виду, и ни в одной жизни не могло быть так мало женского элемента. Если бы он не угощал при случае не хуже, чем всякий другой, этот созерцатель казался бы совершенно отрешившимся от земных дел и страстей. Самая вежливость его манер, шутливые оттенки его голоса делали его каким-то особенным. Его представляли себе легко порхающим, словно перо в атмосфере труда, созданной дыханием наших уст. По этой-то причине этот созерцатель привлекал к себе внимание, как только входил в соприкосновение с реальным миром. Во-первых, дело Моррисона, это таинственное товарищество; потом сенсационное Тропическое Угольное Акционерное Общество, где, правда, смешивались различного рода интересы, – дело в полном смысле слова; наконец, совсем недавно – это похищение, неприличное проявление индивидуальности, наиболее крупный, поразительный и интересный из сюрпризов.
Дэвидсон говорил, что толки уже затихали и история была бы позабыта, если бы этот болван Шомберг не продолжал публично скрежетать зубами. Нас все же раздражало, что Дэвидсон не мог нам ничего рассказать о девушке. Красива ли она? Он не знал этого. Он провел целый день в гостинице Шомберга с единственной надеждой что-нибудь узнать. Но история начинала утрачивать свою пикантность. За столиками на веранде обсуждались другие, более свежие происшествия, а Дэвидсон не хотел задавать прямых вопросов. Он спокойно сидел тут, довольный тем, что на него не обращают внимания, и полагаясь на судьбу, чтобы узнать нечто большее. Меня бы не удивило, если бы добряк задремал. Трудно представить себе все спокойствие Дэвидсона.
Вскоре расхаживавший поблизости Шомберг присоединился к компании у соседнего столика.
– Такие люди, как этот швед, господа, представляют собою общественную опасность, – начал он, – я помню его уже несколько лет. Оставим в стороне его шпионскую деятельность. Да, да, разве он сам не говорил, что находится в поисках необычайных фактов? Что же это такое, если не шпионство? Он пыслеживал дела всех решительно. А капитана Моррисона, на которого он наложил руку, он выжал как апельсин, до последней капли, и погнал его умирать в Европу. Всем известно, что у капитана Моррисона были слабые легкие. Он его сначала ограбил, а потом убил! Я не боюсь слов. После этого он придумал то жульничество с тропическим углем. Вы знаете, что тут получилось. Наконец, набив карман чужими деньгами, он похищает бедную женщину из оркестра, который играет в публичном зале для увеселения моих гостей, и отправляется жить, словно владетельный князь, на остров, где никто не может до него добраться. Какая дура эта девчонка! Прямо противно! Тьфу!..
Он сплюнул; злоба душила его, у него, без сомнения, были галлюцинации. Он вскочил со стула и бросился вон, быть может, с целью убежать от них. Он пошел в залу, в которой восседала госпожа Шомберг. Вид этой особы никоим образом не мог служить облегчением от терзавших ею мук.
Дэвидсон не считал необходимым защищать Гейста. Его метод заключался в том, чтобы вступать по воле случая в разговоры то с тем, то с другим, не проявляя особой осведомленности в данном деле; таким образом он рассчитывал больше узнать. Была ли девушка и на самом деле чем-то выдающимся? Была ли она красива? По всей вероятности, красота ее не была особенно замечательной, так как не привлекла особого внимания. Она была молода – в этом все сходились. Англичанин, приказчик фирмы Тесман, припоминал, что у нее был желтоватый цвет кожи. Это был почтенный и в высшей степени приличный человек. Он не принадлежал к тем, кто посещает подобных особ. Большинство этих женщин было довольно потрепано. Шомберг поселил их в том, что он называл «павильоном», в глубине сада, и они там усердно трудились над починкой и стиркой своих белых платьев, которые развешивали потом для просушки между деревьями, как это делают прачки. Впрочем, они и на эстраде сильно смахивали на пожилых прачек. Но молодая девушка жила в главном здании с чернобородым импресарио и стареющей, полинявшей дамой, которая играла на рояле и была, по-видимому, его женой.
Запас полученных сведений был невелик. Дэвидсон засиделся; он даже пообедал за табльдотом, чтобы собрать еще какие – нибудь указания – он покорился судьбе.
– Мне кажется, – кротко проговорил он, – что я ее еще когда-нибудь увижу.
Он, само собою, намеревался при каждом рейсе проплывать в виду Самбурана, как и прежде.
– Да, – сказал я, – я в этом уверен. Когда-нибудь Гейст снова подаст вам сигнал, и я хотел бы знать, что его к этому побудит.
Дэвидсон ничего не ответил. У него на этот счет было особое мнение и за его молчанием скрывалось множество мыслей.
Мы прекратили разговор о спутнице жизни Гейста. Прощаясь, он поделился со мной необычайным открытием.
– Странно, – проговорил он, – но я полагаю, что у Шом берга по вечерам потихоньку устраивают какую-то запрещенную игру. Я заметил людей, пробиравшихся по двое и по трое к той зале, где обычно играет музыка. Вероятно, окна особенно плот но завешены, потому что я не смог увидеть ни малейшего луча света, но я не могу допустить, чтобы эти субъекты собирались там только для того, чтобы обдумывать в темноте свои грехи.
– Странно. Все же маловероятно, чтобы Шомберг рисковал заниматься такого рода делами, – отвечал я.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
IКак мы уже знаем, Гейст остановился у Шомберга, не подозревая, что он ненавистен этому человеку. Когда он приехал в гостиницу, там уже некоторое время подвизалась женская группа Цанджиакомо.
Его вырвала на время из уединения необходимость урегулировать с конторой Тесман небольшой денежный вопрос. Быстро покончив с делом, Гейст оказался совершенно свободным в ожидании Дэвидсона, который должен был увезти его обратно – так как Гейст твердо решил вернуться к своей одинокой жизни. Тот, кого мы привыкли называть «очарованным», страдал от глубокого разочарования. Но виною тому были не Острова. Очарование архипелага прочно. Не легко бывает порвать очарование жизни на Островах. Гейст был разочарован в жизни вообще. Его раздражительная натура, предательски вовлеченная в действие, страдала от неудачи его предприятия; он страдал утонченно, тем страданием, которое неизвестно людям, привыкшим бороться с реальностями обыденной человеческой жизни. Его словно терзало раскаяние в напрасном отречении от своей веры; он словно стыдился противоречия собственной своей натуре; прибавьте к этому определенное и реальное угрызение совести. Он считал себя виновным в смерти Моррисона. Это было несколько нелепо: как мог он предвидеть печальные последствия холодного и сырого лета, которое ожидало беднягу Моррисона по возвращении на родину?
Нельзя сказать, чтобы Гейст обладал особенно мрачным характером, но склад его ума не допускал любви к обществу. Он проводил вечера, сидя в стороне на веранде гостиницы Шомберга. Жалобы струнных инструментов вырывались из строения в ограде, декорированного подвешенными между деревьями японскими фонариками. До его ушей долетали обрывки мотивов, преследовавшие его даже в его комнате, выходившей на другую веранду, в верхнем этаже. Назойливое повторение этих звуков с течением времени становилось утомительным. Подобно многим мечтателям, Гейст, кочевник по архипелагу, имел величайшую склонность к тишине, в которой он прожил последние годы. Острова обладают безграничным спокойствием.
Одетые темной растительностью, они покоятся в серебре и ла зури; море безмолвно соединяется с небом в кольце волшебной тишины. Их окружает какое-то улыбающееся усыпление; самые голоса их жителей нежны и сдержанны, словно они боятся на рушить какие-то благотворные чары.
Быть может, эти-то чары и околдовали Гейста в первые дни. Во всяком случае, теперь они были нарушены для него. Очарование прошло, хотя он и оставался пленником Островов. Он не имел намерения когда-нибудь их покинуть. Куда бы он направился после стольких лет? Он не знал уже ни одной живой души во всех частях света. В этом он, впрочем, только недавно отдал себе отчет, так как неудачи заставляют человека углубляться в самого себя и делать смотр своим возможностям. Как он твердо ни решил удалиться от мира, словно отшельник, он все же был неожиданно смущен этим сознанием одиночества, которое пришло к нему в час отречения. Оно причиняло ему страдание. Нет ничего мучительнее столкновения резких противоречий, которые раздирают вам ум и сердце.
Тем временем Шомберг исподтишка наблюдал за Гейстом. Имея дело с тайным предметом своей ненависти, он принимал холодные манеры лейтенанта запаса. Подталкивая некоторых посетителей локтем, он приглашал их полюбоваться, какой вид напускал на себя «этот швед».
– Я, право, не знаю, зачем он поселился в моей гостинице. Для него она недостаточно хороша. Дал бы бог, чтобы он пошел чваниться своим превосходством в другом месте. Взять хоть концерты, которые я устроил для вас, господа, чтобы сделать жизнь хоть намного веселее – вы думаете, он хоть раз соблаговолил зайти прослушать одну или две вещицы? Ничуть не бывало! Я его не со вчерашнего дня знаю. Он сидит там, в темном углу пьяццы, и обдумывает какое-нибудь новое плутовство, черт побери! Я бы охотно попросил его поискать себе другое помещение! Но в тропиках избегаешь так обращаться с белыми. Я не знаю, сколько времени он думает пробыть, но я готов прозакладывать что угодно за то, что он никогда не решится истратить пятьдесят центов, чтобы послушать немного хорошей музыки.
Охотников биться об заклад не нашлось, иначе трактирщик проиграл бы пари. Однажды вечером Гейст почувствовал себя доведенным до изнеможения обрывками резких, визгливых, въедливых мотивов, которые загоняли его в постель с плоским, как блин, матрасом и редким пологом. Он сошел под деревья, где мягкий, красноватый свет японских фонариков освещал там и сям среди полной темноты под высокими деревьями части толстых, узловатых стволов.
Гирлянда других фонариков в виде цилиндрических гармоний украшала вход в то, что широковещательное красноречие Шомберга именовало «моим концертным залом». Охваченный отчаянием Гейст поднялся на три ступеньки, откинул коленко– 1«жую занавеску и вошел.
В этой маленькой, похожей на сарай постройке из еловых носок стоял поистине оглушительный шум. Инструменты орке– | гра горланили, выли, стонали, рыдали, скрежетали, визжали какой-то веселый мотив в то время, как рояль, под руками кос– I нивой женщины с красным лицом и плотно сжатыми губами ‹ ыпал сквозь бурю скрипок град сухих, жестких звуков. На узкой эстраде – цветник белых кисейных платьев и вишневого цвета шарфов, с голыми руками, без устали пилившими по i крипкам. Цанджиакомо дирижировал. Он был в белой куртке, черном жилете и белых панталонах. Со своими длинными, спу– |анными волосами и лиловой бородой он был отвратителен. /Кара стояла ужасающая. Человек тридцать потягивали напитки Ш маленькими столиками. Совершенно подавленный этой массой звуков, Гейст упал на стул. Быстрый темп музыки, пронзительные и разнообразные взвизгиванья струн, мелькание обнаженных рук, вульгарные лица, ошалелые глаза исполнительниц – все это создавало впечатление грубости, чего-то жесткого, чувственного и отвратительного.
– Это ужасно, – пробормотал Гейст.
Но во всяком ритмическом шуме живет какая-то дьявольская притягательная сила. Гейст не обратился немедленно в бегство, как этого можно было ожидать. Он сидел, удивляясь самому себе, так как ничто не противоречило сильнее его наклонностям, не было мучительнее для чувства, чем эта грубая выставка. Оркестр Цанджиакомо не играл – он просто нарушал тишину, с вульгарной и яростной энергией. Казалось, что являешься свидетелем насилия, и впечатление это было так живо, что представлялось странным, как это люди спокойно сидят на стульях и спокойно осушают стаканы, не проявляя никаких признаков отчаяния, возмущения или страха.
Когда музыкальная пьеса была окончена, облегчение оказалось настолько сильным, что Гейст почувствовал легкое головокружение, как будто у ног его разверзлась бездна тишины. Когда он поднял глаза, женщины в белых кисейных платьях попарно сходили с эстрады в «концертный зал». Они рассеялись по всей комнате. Мужчина с крючковатым носом и лиловой бородой удалился. Это был «антракт», во время которого, как обусловил хитрец Шомберг, члены оркестра должны были осчастливливать своим обществом слушателей, по меньшей мере тех, которые казались склонными водить с искусством тесную и щедрую дружбу; близость и щедрость символизировали здесь угощением.
Гейст был скандализован неприличием такого порядка вещей. Между тем осуществлению хитрого расчета Шомберга сильно вредил зрелый возраст большинства женщин; кроме того, ни одна из них никогда не была красива. Более или менее увядшие щеки их были нарумянены, но возможно, что это дс – лалось по привычке, и, помимо этого, они, казалось, принима ли не слишком близко к сердцу успех этого маневра. А аудито рия обнаруживала лишь очень умеренное желание завести друж бу с искусством. Некоторые музыкантши машинально присели к свободным столикам, другие попарно ходили взад и вперед по среднему проходу, без сомнения, радуясь возможности одноврс менно размять ноги и дать отдых рукам. Вишневые шарфы вно сили нотку искусственного веселья в прокуренную атмосферу зала, и Гейст почувствовал внезапно сострадание к этим несча стным созданиям, которых эксплуатировали, унижали, оскорб ляли и на вульгарные черты которых тяжелое, роковое рабство налагало трагическую печать.
Гейст от природы был участлив. Ему тяжело было смотреть, как эти женщины проходили взад и вперед возле его столика Он собирался встать и уйти, как вдруг заметил, что два белых кисейных платья и два вишневых шарфа еще не покинули эст рады. Одно из этих платьев прикрывало костлявую худобу жен щины со злобными ноздрями. Эта особа была не кто иная, как мадам Цанджиакомо. Она встала из-за рояля и, повернувшись спиною к залу, приготовляла партитуры ко второму отделению концерта с резкими, порывистыми движениями своих безобраз ных локтей. Окончив свою работу, она повернулась, заметила другое кисейное платье, неподвижно сидевшее на одном из стульев второго ряда, и стала раздраженно пробираться к нему между пюпитрами. В образуемой этим платьем ямке отдыхали, ничего не делая, две маленькие, не очень белые ручки, от которых к плечам шли чрезмерно чистые линии. Затем Гейст перевел глаза на прическу, состоявшую из двух тяжелых черных кос, обвивавшихся вокруг красиво очерченной головки.
– Совсем девочка, ей-богу! – воскликнул он мысленно.
Девушка, бесспорно, была молода. Это угадывалось в контуре плеч, в стройности бюста, перерезанного наискось цветным шарфом, и в талии, легко выделявшейся из пышной кисейной юбки; юбка эта прикрывала собою стул, на котором, слегка отвернувшись от залы, сидела скрипачка. Ноги ее в белых атласных туфельках были грациозно скрещены.
Вечно бодрствующая наблюдательность Гейста была прикована к ней. У него было ощущение какого-то нового переживания, потому что до этого времени его наблюдательная способность никогда не была так сильно и так исключительно привлечена женщиной. Он смотрел на нее с некоторой тревогой, как мужчина никогда не смотрит на другого мужчину, и положительно забыл, где он находится. Он потерял ощущение того, что его окружало. Приблизившись, высокая женщина на мгновение скрыла от его взгляда сидящую девушку, к которой она наклонилась; по-видимому, она шепнула ей что-то на ухо. Несомненно, губы ее шевелились. Но что могла она сказать такого, что ааставило девушку так резко вскочить на ноги? Неподвижного ia своим столиком Гейста невольно охватила волна сочувствия. Он бросил вокруг себя быстрый взгляд. Никто не смотрел на чстраду, и, когда он снова повернулся к ней, девушка спускаясь впереди следовавшей за нею по пятам женщины с трех ступенек, отделявших эстраду от залы. Здесь она остановилась, сделала один-два колеблющихся шага вперед и снова стала неподвижно в то время, как вульгарная пианистка, конвоировавшая ее, словно солдат, резко прошла мимо нее яростными шагами и по среднему проходу между столиками и стульями отправилась разыскивать где-то снаружи крючконосого синьора Цанджиакомо. Когда она совершила этот необычайный выход, словно все окружающее было прахом под ее ногами, ее презрительный взгляд встретился со взглядом Гейста, который тотчас перевел его на молодую девушку. Та не пошевельнулась; она стояла, свесив руки вдоль тела и опустив веки.
Гейст положил недокуренную сигару и сжал губы. Затем он встал. Это было побуждение, аналогичное тому, которое несколько лет тому назад заставило его перейти через песчаную улицу отвратительного городишки Дилли на острове Тимор, чтобы заговорить с Моррисоном, в то время совершенно посторонним ему человеком, человеком в беде, в полном смысле слова измученным, упавшим духом и покинутым.
Это было то же самое побуждение, но Гейст его не узнал. В то время он не думал о Моррисоне. Можно смело сказать, что впервые с того момента, как шахта на Самбуране была окончательно заброшена, он совершенно забыл Моррисона. Правда, что он забыл также до известной степени, где он находится. Таким образом, он прошел по среднему проходу, не останавливаемый сознанием своих действий.
К тому времени некоторым женщинам удалось бросить якорь тут и там, между занятыми столиками. Они болтали с мужчинами, поставив локти на стол, и, если бы не вишневые шарфы, они забавно походили бы на собрание пожилых новобрачных с непринужденными и свободными манерами и сиплыми голосами. Зал был полон жужжанием разговоров. Никто не обращал внимания на Гейста, так как не один он находился на ногах. Он простоял с минуту перед молодой девушкой, не замечавшей его присутствия. Совершенно неподвижная, без кровинки в лице, без голоса, без взгляда, она не поднимала глаз от земли. Она подняла их, только когда Гейст заговорил со своей обычной учтивостью.
– Простите, – сказал он по-английски, – но эта ужасная женщина вам что-то сделала. Она ущипнула вас, не правда ли? Я уверен, что она вас только что ущипнула, когда подошла к вашему стулу.
Девушка ответила ему пристальным взглядом. Ее глаза были расширены от глубокого изумления.
Гейст рассердился на самого себя, думая, что она его не поняла. Трудно было угадать национальность всех этих женщин очевидно было только, что все они различных национальностей Но эта девушка была главным образом поражена таким близким соседством самого Гейста, этой лысой головой, белым лбом, за горелыми щеками, длинными горизонтальными усами бронзо во го цвета, добродушным выражением голубых глаз, смотрев ших в ее глаза. Удивление на лице девушки сменилось мимолет ным страхом, затем выражением покорности.







