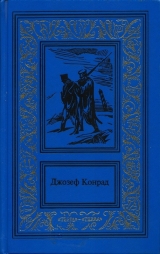
Текст книги "Дуэль. Победа. На отмелях. (Сочинения в 3 томах. Том 3)"
Автор книги: Джозеф Конрад
Жанр:
Морские приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 53 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
IПрирода тропиков отнеслась с состраданием к крушению угольного предприятия. Разрушение строений Тропического Общества было скрыто от взглядов со стороны моря, с той стороны, где нескромные взоры – если бы нашлись такие, которые, из злорадства или из сочувствия, достаточно этим интересовались, – могли бы заметить разрушающиеся костяки этого некогда цветущего предприятия.
Гейст сидел среди этих костяков, так любовно прикрытых растительностью двух дождевых периодов. Нарушаемая только отдаленным рокотанием грома, шумом дождя в высоких ветвях, или ветра в листьях деревьев, или же разбивающихся о берег волн, окружающая тишина, скорее, способствовала, нежели препятствовала, его одиноким мечтаниям.
Размышления – особенно размышления европейца – всегда в большей или меньшей степени сводятся к ряду вопросов. Гейст размышлял просто о загадочности собственных своих поступков и давал им следующее добросовестное объяснение:
«В общем, во мне, должно быть, еще много первобытного человека».
Он говорил себе также, с таким чувством, точно сделал открытие, что с этим первобытным существом справиться нелегко. Самый древний в мире голос никогда не перестанет звучать. Если бы кто-нибудь был в состоянии заставить умолкнуть его повелительные звуки, это был бы, без сомнения, не кто иной, как отец Гейста, с его пренебрежительным и непреклонным отрицанием всякого усилия; но это была, по-видимому, бесплодная попытка. В сыне сильно сказывался тот старейший предок, который, едва отделив свое сделанное из праха тело от небесной формы, принялся осматривать и наделять именами животных рая, который ему предстояло так скоро потерять.
Действие! Первая мысль или, быть может, первое земное побуждение! Зубчатый рыболовный крючок, с иллюзией прогресса вместо наживки, чтобы вырвать из мрака небытия бесчисленные поколения!
«И я, сын своего отца, также схватил его, как самая глупая из рыб!» – говорил себе Гейст.
Он страдал. Картина его собственной жизни, из которой он хотел было сделать чудо отрешенности, причиняла ему страдание. В памяти его всегда было живо воспоминание о последнем проведенном с отцом вечере. Он снова видел пред собою исхудалое лицо, копну седых волос, кожу цвета слоновой кости. Рядом с кушеткой, на маленьком столике, стоял канделябр с пятью зажженными свечами.
Они долго беседовали. Уличный шум постепенно затихал, и облитые лунным светом дома Лондона стали походить на могилы кладбища, где похоронены надежды, кладбища, не знающего ни славы, ни посетителей.
Он долго слушал, затем, после некоторого молчания, спросил, потому что в то время он был поистине молод:
– Разве нет пути?
В эту совершенно безоблачную лунную ночь отец его был исключительно мягко настроен.
– Так ты еще во что-то веришь? – сказал он ясным, хотя и ослабевшим за последние дни голосом. – Ты, может быть, веришь в плоть и кровь? Однообразное, полное презрение быстро расправилось бы и с этим. Но раз ты еще до этого не дошел, советую тебе культивировать ту форму презрения, которая называется жалостью. Быть может, она самая безболезненная. Только не забывай никогда, что ты и сам – поскольку ты являешься чем-нибудь – совершенно так же жалок, как и остальные, и что тем не менее ты не должен рассчитывать ни на чью жалость к себе.
– Что же делать в таком случае? – вздохнул юноша, глядя на отца, неподвижного в кресле с высокой спинкой.
– Наблюдать, не делая ни малейшего шума.
Таковы были последние слова этого человека, жизнь которого прошла в вызывании страшной бури, наполнившей развалинами небо и землю, в то время как человечество следовало своим путем, не обращая никакого внимания на его усилия.
В эту самую ночь он скончался в своей постели так спокойно, что его нашли в обычном его положении, лежащим на боку, с подложенной под щеку рукой и слегка согнутыми коленями. Он даже не вытянул ног.
Сын похоронил безмолвные останки этого разрушителя таинств, надежд и верований. Он убедился, что смерть этого все презиравшего ума нисколько не нарушила течения жизненного потока, увлекающего вперед, словно песчинки, мужчин и женщин, кувыркающихся и переворачивающихся, как те игрушки из пробки, которые хорошо прилаженный груз неизменно приводит в вертикальное положение.
После похорон Гейст сидел в сумерках совершенно один, и его размышления перешли в совершенно определенное видение потока; кувыркание, ныряние, бесплодное вращение неизменно увлекаемых вперед человечков, ничто не указывало на то, чтобы кто-либо заметил, как голос с берега внезапно умолк. Впрочем, нет: было несколько некрологов, большею частью незначитель ных, а иногда грубо бранных; сын прочитал их с мрачным без различием.
«Они злобствуют и ненавидят от страха, – подумал он, – а также от оскорбленного самолюбия. Проходя, они издают свой слабый крик… Без сомнения, я тоже должен был бы его ненави деть…»
Он почувствовал, что глаза его влажны. Не потому, что этот человек был его отцом. Он считал это условностью, которая, сама по себе, неспособна была вызвать такое волнение. Нет! О» так горевал об этом человеке потому, что столько времени не сводил с него глаз. Покойный задержал его рядом с собой на берегу. И теперь у Гейста было острое сознание, что он стоит один на краю потока. В своей гордости он твердо решил не погружаться в него.
По лицу его медленно скатилось несколько слезинок. В наполнявшейся сумраком комнате словно ощущалось чье-то тревожное и печальное присутствие, которое не могло себя проявить. Юноша поднялся со странным ощущением, точно уступал место чему-то неосязаемому, что, казалось, этого от него требовало, вышел из дому и закрыл дверь на ключ. Через две недели он пустился странствовать, чтобы «наблюдать, не делая шума».
Старик Гейст оставил после себя немного денег и кое-какую обстановку: книги, столы, стулья, картины, которые могли бы пожаловаться (потому что вещи имеют душу) на полное забвение, которому они были преданы после стольких лет верной службы. Гейст – наш Гейст – часто представлял их себе безмолвными и полными упреков, покрытыми чехлами и запертыми там, далеко, в Лондоне, в этих комнатах, куда слабо доносился до них уличный шум, а иногда доходило немного солнечного света, когда, повинуясь его прежним или вновь повторенным распоряжениям, в доме поднимали шторы и открывали окна.
Казалось, что в его представлении о мире, недостойном того, чтобы к нему прикасались, и вдобавок недостаточно реальном, чтобы его можно было схватить, эти знакомые ему с детства предметы были единственными реальными вещами, существовавшими в абсолюте. Он не хотел, чтобы их продавали и даже чтобы нарушили тот порядок, в котором он их оставил, когда видел в последний раз. Когда ему дали знать из Лондона, что срок арендного договора истек и дом будет снесен вместе с несколькими другими домами, походившими на него, как походят одна на другую капли воды, он испытал страшное огорчение.
В то время он был вовлечен в широкий поток человеческих безрассудств. Тропическое Угольное Акционерное Общество было организовано. С непоследовательностью первого встречного наивного юноши он распорядился, чтобы ему переслали часть пещей на Самбуран. Они прибыли, вырванные из своего продолжительного покоя: множество книг, несколько стульев и столов, портрет отца масляными красками, который удивил его своим юным видом, так как он помнил покойного гораздо более старым; затем много мелочей: подсвечники, чернильницы, статуэтки, которые стояли в рабочем кабинете отца и поразили его своим утомленным и изношенным видом.
Распаковывая эти реликвии на веранде, в небольшом затененном пространстве, осаждаемом со всех сторон яростным солнцем, управляющий Тропического Угольного Акционерного Общества должен был испытывать полное угрызений совести чувство вероотступника. Он прикасался к ним с нежностью, и, быть может, присутствие их в этом месте держало его прикованным к острову, когда он очнулся от своего вероотступничества. Какова бы ни была решающая причина этого, Гейст остался в этом месте, из которого всякий другой рад был бы бежать. Добряк Дэвидсон обнаружил факт, не разгадав его причин, и хотя врожденная деликатность не позволила ему перечить этой прихоти одиночества, он преисполнился сочувственного интереса к странной жизни Гейста. Он не мог понять, что Гейст, в своем полнейшем одиночестве на острове, не чувствовал себя ни более, ни менее одиноким, чем в любом населенном или пустынном месте. Что тревожило Дэвидсона, это, если можно так выразиться, опасность умственного голода; но ум Гейста отказался от всякого рода внешней пищи и горделиво питался своим презрением к обычным грубым веществам, которые жизнь преподносит вульгарному аппетиту людей. Гейст также не подвергался, вопреки уверениям Шомберга, опасности телесного голода. В начале деятельности Акционерного Общества остров был в изобилии снабжен различными припасами, и Гейсту нечего было опасаться голода. Даже одиночество его было несколько ограничено. Один из многочисленных китайских рабочих, которые были привезены на Самбуран, остался на нем, странный и одинокий, словно позабытая при перелете ласточка.
Уанг не был простым кули. Он уже служил европейцам. Договор между ним и Гейстом был заключен в нескольких словах в тот день, когда последняя партия кули покидала Самбуран. Наклонившись над перилами веранды с таким спокойным видом, словно он никогда не отступал от мнения, что мир представляет собою для мудреца только забавное зрелище, Гейст наблюдал. Уанг обошел вокруг дома и, подняв свое худое, желтое лицо, спросил:
– Все кончено?
Гейст сверху кивнул головой, глядя на мол.
В шлюпки парохода, стоявшего в некотором отдалении, подобно нарисованному кораблю на нарисованном море, нарисованном яркими безжалостными красками без теней, с резкой определенностью очертаний, грузили кучку людей в синей одежде, с желтыми лицами и ногами.
– Вы бы лучше поторопились, если не хотите, чтобы вас оставили.
Но китаец не двигался.
– Моя остаться, – заявил он.
Гейст в первый раз взглянул на него.
– Вы хотите остаться туг?
– Да.
– Кем вы тут были? Что вы делали?
– Слугою в общей зале.
– Вы хотите остаться здесь, чтобы служить у меня? – спро сил удивленный Гейст.
Китаец внезапно принял умоляющий вид и сказал после до вольно продолжительного молчания:
– Моя может.
– Ничто вас не вынуждает остаться, если вы не хотите, – сказал Гейст, – Я намерен остаться здесь, бьггь может, очень долго. Я не могу отправить вас, если вы хотите остаться, но не понимаю, что может вас удерживать.
– Моя найти чудесная женщина, – спокойно заявил Уанг.
И он удалился, повернув спину молу и широкому миру, который вдали символизировался ожидавшим шлюпок пароходом.
Гейст скоро узнал, что Уанг убедил одну из женщин из селения альфуросов, расположенного на западном побережье острова по другую сторону центрального хребта, прийти жить с ним. Это было тем более удивительно, что, испуганные внезапным вторжением китайцев, альфуросы загромоздили срубленными деревьями пересекавшую гору тропу и строго держались у себя. Кули, не доверяя видимой кротости этого безобиднейшего племени рыболовов, уважали установленное разграничение и не пытались обходить остров. Уанг был единственным и блестящим исключением из этого правила; он был, должно бьггь, чрезвычайно убедителен. Оказанные Гейсту женщиной услуги ограничились тем, что она прикрепила Уанга к острову своими чарами, которые остались неизвестными европейцу, так как она ни разу не приблизилась к домам.
Чета жила у опушки леса, и иногда можно было видеть женщину, смотревшую в направлении бунгало, прикрыв глаза рукою. Даже издали она производила впечатление робкого, пугливого создания, и Гейст, не желая напрасно тревожить ее примитивные нервы, тщательно избегал в своих прогулках этой части леса.
В тот день, или, вернее, в первую ночь его отшельнической жизни, он услышал в этом направлении слабые отголоски какого-то торжества; ободренные отплытием чужестранцев, некоторые из альфуросов, родственников и друзей женщины, отважились перебраться через горы, чтобы принять участие в чем-то вроде брачного пира. Их пригласил Уанг. Но это был единственный раз, что глубокая тишина леса была нарушена (юлее громкими звуками, нежели жужжание насекомых. Туземцы больше не получали приглашений. Уанг не только умел жить согласно приличиям, но имел крайне определенное личное мнение об устройстве своей семейной жизни. Спустя некото– |юе время Гейст заметил, что Уанг завладел всеми ключами. Всякий лежавший где бы то ни было ключ исчезал, как только Уанг проходил мимо. Позднее некоторые из них – те, которые относились к складам или пустым бунгало и не могли считаться общею собственностью, – были возвращены Гейсту связанными вместе бечевкой. В одно прекрасное утро он нашел их возле своей тарелки. Их исчезновение нисколько его не стесняло, потому что он ничего не запирал на ключ. Он ничего не сказал. Уанг тоже. Быть может, житель Небесной империи был всегда молчалив; быть может, он подпал под влияние местного духа, который, вне всякого сомнения, был духом молчания… Вплоть до того дня, когда Гейст и Моррисон, высадившись в бухте Черного Алмаза, окрестили ее этим именем, эта часть Самбурана, так сказать, никогда не слыхала звука человеческого голоса. Нетрудно было быть молчаливым с Гейстом, погруженным в бездну размышлений над своими книгами и отрывавшимся от них, только когда тень Уанга падала на раскрытую страницу и его низкий глухой голос произносил по-малайски «макан», чтобы заставить его подняться наверх, к столу.
Быть может, в своей родной провинции, в Китае, Уанг был существом обидчивым и задорным, но на Самбуране он замкнулся в таинственное бесстрастие и, казалось, не обижался тем, что к нему обращались односложно и не более пяти-шести раз в день. Впрочем, он и давал не больше, чем получал. Можно предположить, что если он страдал от этого молчания, то отводил душу со своей альфуросской женой. Он возвращался к ней по вечерам, внезапно исчезая в известное время из бунгало, словно прятавшийся в свой ящик чертик, словно привидение китайца, появлявшееся вечером в своей белой куртке и со своей косой. Вскоре, удовлетворяя одну из страстей своей расы, он принялся копать киркой углекопа землю возле своей хижины, между могучими пнями срубленных деревьев. Некоторое время спустя он нашел в пустой кладовой заржавленную, но еще годную лопату, и, по всей вероятности, все пошло хорошо; но Гейсту ничего не было видно, потому что китаец позаботился разобрать одну из хижин Акционерного Общества, чтобы обнести свой участок очень плотным дощатым забором, точно возделывание овощей было секретным процессом или страшной заклятой тайной, от сохранения которой зависело сохранение его расы.
Гейст, издали наблюдавший за развитием земледелия Уанга и за его предосторожностями – ему больше не на что было смот реть, – посмеивался при мысли, что он олицетворяет собою единственный сбьгг для производства китайца. Уанг разыскал в кладовых несколько пакетиков семян и повиновался непреодо лимой потребности посадить их в землю. Он заставит своего господина оплачивать овощи, которые он возделывает для удовлетворения собственного инстинкта. И наблюдая за молчаливым Уангом, исполнявшим, со своим ровным и спокойным видом, свои обязанности в бунгало, Гейст завидовал его покорности инстинктам, этому могучему единству направления, которое придавало его существованию оттенок автоматичности в таинственной определенности его действий.
IIВо время отсутствия своего хозяина Уанг немедленно принялся за участок земли перед главным бунгало. Выйдя из высокой травы, покрывавшей берег у пристани, Гейст увидел широкое, плоское и пустое пространство с двумя-тремя кучами обугленных веток; пламя все вычистило между домом и первыми деревьями леса.
– Вы не побоялись поджечь траву? – спросил Гейст.
Уанг покачал головой. Под руку с европейцем шла девушка, которую звали Альмой. Но ничто во взгляде и в выражении лица китайца не обнаруживало, чтобы он сколько-нибудь отдавал себе отчет в этом новом явлении.
– Он нашел действенный способ расчистить это место, – объяснил Гейст, не глядя на молодую женщину. – Он олицетворяет собой весь мой штат, как видите. Я говорил вам уже, что у меня нет даже собаки, чтобы поддерживать мне здесь компанию.
Уанг скрылся в направлении мола.
– Он похож на тамошних слуг, – сказала она.
«Там» – означало гостиницу Шомберга.
– Китайцы удивительно похожи один на другого, – проговорил Гейст. – Он будет нам здесь полезен. Вот и дом.
Недалеко от них шесть невысоких ступенек вели на веранду. Молодая девушка выпустила руку Гейста.
– Вот и дом, – повторил он.
Она не обнаружила намерения отойти от него, но стояла неподвижно, пристально глядя на ступени, словно они составляли единственную и непреодолимую преграду. Гейст немного подождал, но она не двигалась.
– Вы не хотите войти? – спросил он, не поворачивая головы. – Не надо здесь оставаться, солнце слишком сильно печет.
Он старался победить какое-то опасение, что-то вроде на – присной потери сил, и от этого в голосе его появились жесткие мотки.
– Вы бы лучше вошли, – настаивал он.
Они двинулись оба вперед, но у самых ступенек Гейст остановился, а девушка продолжала быстро двигаться, словно впредь ничто не могло ее остановить. Она быстро пересекла веранду и вошла в полумрак выходившей на веранду средней комнаты, потом в более глубокий мрак задней комнаты; она остановилась неподвижно в темноте, где глаза ее едва различали очертания предметов, и вздохнула с облегчением. Впечатления солнца, моря и неба казались ей воспоминанием об очень тяже– iioM испытании, пережитом и наконец оконченном.
Тем временем Гейст медленно направился обратно к молу, но не дошел до берега. Практичный Уанг вооружился одной из вагонеток, на которых подвозили уголь к судам. Он появился, толкая ее перед собой с мешком Гейста и узлом, содержащим ввернутое в шаль госпожи Шомберг имущество девушки. Гейст сделал полуоборот и пошел вдоль ржавых рельс. Перед домом Уанг остановился, взвалил себе на плечо мешок, потом взял узел в руки.
– Положите это в большой комнате на стол. Поняли?
– Моя знает, – проворчал Уанг.
Гейст смотрел, как Уанг удалялся с веранды. Сам он вошел в полумрак большой комнаты, только когда увидел, как он вышел обратно. В эту минуту Уанг находился позади дома, откуда не мог видеть, но мог слышать происходившее. Китаец услыхал голос того, которого обычно, в те времена, когда на острове было много народа, называли «номером первым». Уанг не мог понять слов, но его заинтересовала интонация.
– Где вы? – кричал номер первый.
Затем Уанг расслышал гораздо более слабый голос, которого он еще никогда не слыхал – новое впечатление, которое он воспринял, наклонив голову набок.
– Я здесь… подальше от солнца.
Новый голос казался далеким и неуверенным; Уанг подождал некоторое время, не двигаясь; верхушка его бритого черепа приходилась как раз на уровне пола веранды, но он больше ничего не слыхал. Его лицо сохраняло непроницаемую неподвижность. Вдруг он наклонился и поднял деревянную крышку от ящика из-под свечей, валявшуюся на земле, у его ног. Разломав ее руками, он направился к сараю, где приготовлял кушанье, и там, присев на корточки, принялся разводить огонь под сильно закопченным чайником, по всей вероятности, чтобы приготовить чай. Уанг был несколько знаком самым поверхностным образом с жизнью европейцев, жизнью в остальном так загадочно недоступной его пониманию и заключавшей в себе непредвиденные возможности добра и зла, которые следовало подстерегать осторожно и внимательно.
IllВ то утро, как и в каждое утро с тех пор, как он вернулся на Самбуран с молодой девушкой, Гейст вышел на веранду и обло котился на перила в спокойной позе помещика. Пересекавшие остров горы закрывали собой от бунгало восход солнца, торжествующий или грозный, сумрачный или ясный. Обитатели дома не могли по рассвету судить о судьбе грядущего дня. Он являлся им в полном расцвете, а глубокая тень поспешно отступала, как только жгучее солнце показывалось из-за гор и изливало свой свет, пожирающий, словно враждебный взгляд. Но Гейсту, некогда «номеру первому» на этом острове, кишевшем в то время человеческими существами, нравилось это продолжение утренней свежести, смягченного полусвета, легкого призрака скончавшейся ночи, аромат ее темной души, пропитанный росой, задержавшийся еще мгновение между широким пожаром неба и пламенеющим зноем моря.
Гейсту трудно было не давать своему рассудку углубляться в характер и последствия последнего его поступка, заставившего его позабыть о роли безразличного наблюдателя. Тем не менее он сохранил достаточно философии, чтобы не позволять себе доискиваться, чем все это кончится. Но в то же время, несмотря ни на что, в силу долгой привычки и сознательного намерения, он все еще оставался зрителем, бьггь может менее наивным, но (как он это замечал с некоторым удивлением) немногим более проницательным, нежели большинство смертных: как и все мы, действующие, он лишь сумел сказать себе с несколько деланным презрением:
– Посмотрим!
Он поддавался этим приступам саркастического сомнения только в одиночестве. Теперь эти моменты случались не особенно часто, и он не любил, когда они наступали. В это утро беспокойство не успело охватить его. Альма пришла к нему задолго до того, как солнце, выступив из-за цепи холмов Самбурана, прогнало тень раннего утра и запоздалая ночная свежесть покинула кровлю, под которой они жили уж три месяца. Она пришла, как и в другие дни. Он слышал ее легкие шаги в большой комнате, в той комнате, в которой он распаковывал полученные из Лондона ящики, в комнате, уставленной теперь по трем сторонам книгами до половины высоты стен. Выше полок тонкие циновки доходили до обтянутого белым коленкором потолка. В полумраке одиноко поблескивала золоченая рама портрета Гейста-отца, написанного знаменитым художником.
Гейст не оглянулся.
– Знаете, о чем я думал? – спросил он.
– Нет.
В голосе молодой женщины всегда звучало некоторое беспокойство, словно она никогда не знала хорошенько, какой обо– |ют может принять разговор. Она облокотилась рядом с ним на перила.
– Нет, – повторила она. – Скажите мне.
Она подождала. Потом, не столько робко, сколько нехотя, спросила: I – Обо мне? f – Я спрашивал себя, когда вы придете? – сказал Гейст, не глядя на свою подругу, которой после нескольких попыток и комбинирования отдельных букв и слогов он дал имя «Лена».
Помолчав немного, она проговорила:
– Я была недалеко от вас.
– Но, по-видимому, это было для меня недостаточно близко.
– Вам стоило только позвать меня, если бы я была вам нужна. И я не очень долго причесывалась.
– Надо полагать, что для меня это было все же слишком долго.
– Одним словом, вы все-таки думали обо мне. Я рада. Знаете, мне иногда кажется, чаго если вы когда-нибудь перестанете обо мне думать, я перестану существовать.
Он повернулся, чтобы посмотреть на нее. Она часто говорила такие вещи, которые его поражали. Появившаяся на губах молодой женщины неопределенная улыбка исчезла под его пытливым взглядом.
– Что вы хотите сказать? – спросил он. – Это упрек?
– Упрек? Что вы! Где вы тут видите упрек? – возразила она.
– В таком случае, что вы хотите сказать? – настаивал он.
– То, что я сказала; ничего больше того, что я сказала. Зачем вы несправедливы?
– Ну вот, это уж во всяком случае упрек!
Она покраснела до корней волос.
– Можно подумать, что вы стараетесь доказать, что у меня дурной характер, – прошептала она. – Правда? Скоро я буду бояться открыть рот. Вы заставите меня поверить, что я совсем злая.
Лена опустила голову, Гейст смотрел на ее гладкий, низкий лоб, слегка порозовевшие щеки и красные губы, полуоткрытые над сверкающими зубами.
– А тогда я и буду злая, – проговорила она с уверенностью. – Я могу быть только такой, какой вы меня считаете.
Гейст сделал легкое движение. Она положила руку на его руку и продолжала, не поднимая головы, с дрожью в голосе, несмотря на неподвижность тела.
– Это истинная правда. Иначе и не может быть между такой женщиной, как я, и таким мужчиной, как вы. Вот мы здесь вдвоем, совершенно одни, а я не сумею даже сказать, где мы находимся.
– А между тем это очень известная точка на земном шаре, – тихонько сказал Гейст. – В свое время распространено было не менее пятидесяти, а вернее, даже ста пятидесяти тысяч проспек тов. Этим занимался мой друг. У него были широкие планы и непоколебимая вера. Из нас обоих верующим был он. Без со мнения, сто пятьдесят тысяч проспектов.
– Что вы хотите сказать? – спросила она тихо.
– В чем я могу упрекнуть вас? – начал снова Гейст.– I) том, что вы приветливы, добры, милы и… красивы?
Наступило молчание. Потом она сказала:
– Лучше, чтобы вы меня считали такой. О нас некому что бы то ни было думать, хорошее или дурное.
Изумительный тембр ее голоса делался при этих словах осо бенно прекрасным. Невыразимое впечатление, которое произво дили на Гейста некоторые ее интонации, было скорее физическим, чем моральным, он отлично это понимал. Казалось, что каждый раз, как она говорила, она отдавала ему частицу себя, что-то бесконечно тонкое и необъяснимое, к чему он был крайне восприимчив и чего бы ему страшно недоставало, если бы она когда-либо покинула его. Гейст погрузил взгляд в глаза Лены и, заметив, что ее обнаженная рука вытянулась вверх, откинув короткий рукав, поспешил прижаться к белой коже своим» большими русыми усами; вскоре они вошли в дом.
Уанг тотчас появился и, присев на корточки, принялся за какие-то таинственные манипуляции с растениями у ступенек веранды. Когда Гейст и молодая женщина снова вышли, китаец исчез своим особым способом; казалось, что он исчезает из жизни, а не из глаз, испаряется, а не перемещается. Они сошли со ступенек, глядя друг на друга, и быстрыми шагами направились к лесу. Они не прошли и десяти шагов, как без малейшего движения и без малейшего шума Уанг материализовался в глубине пустой комнаты. Он стоял неподвижно, обводя глазами комнату, осматривая стены, словно рассчитывая на них увидеть какие-либо надписи или знаки, исследуя пол, словно разыскивая на нем капканы или оброненные деньги. Потом он слегка кивнул головой портрету Гейста-отца, сидевшего с пером в руке перед разложенным на красном сукне листом бумаги; затем он бесшумно выступил вперед и принялся убирать посуду.
Он двигался без торопливости, но неизменная точность его движений, протекавших в полнейшей тишине, придавала этому занятию вид фокусов. И закончив фокусы, Уанг исчез со сцены, чтобы через минуту снова материализоваться позади дома. Он материализовался, удаляясь без видимой или угадываемой цели, но, пройдя шагов десять, остановился, повернулся вполоборота и прикрыл глаза рукой. Солнце выступило из – за холмов Самбурана. Огромная тень утра сбежала, и Уанг поспел как раз вовремя, чтобы увидеть вдали, в пожирающем солнечном свете, «номера первого» и женщину, двумя маленькими белыми пятнышками выделявшихся на темной полосе леса. Че– |)сз мгновение они скрылись. С минимальным количеством движений Уанг, в свою очередь, исчез с залитой солнцем площадки.
Гейст и Лена достигли тенистой лесной тропы, которая пересекала остров и недалеко от своей высшей точки была загромождена срубленными деревьями. Но они не собирались идти гак далеко. Пройдя некоторое расстояние, они свернули с тропы в таком месте, где не было колючего кустарника и где увешанные лианами деревья стояли в некотором отдалении друг от друга в своей собственной тени. Здесь и там на земле мерцали солнечные пятна. Они молча подвигались среди этой неподвижности, дышавшей покоем, полным одиночеством, отдыхом усыпления без снов. Они вышли на опушке леса и, между скалами и крутой отлогостью, которая образовывала небольшую площадку, повернулись, чтобы посмотреть на море. Оно было пусто; цвет его растворялся в солнечном свете вплоть до горизонта, затуманенного кольцом зноя, так что оно казалось невесомым сиянием в бледной и ослепительной бесконечности, над которой расстилалось более темное пламя неба.
– У меня от этого кружится голова, – прошептала молодая женщина, закрывая глаза и положив руку на плечо своего спутника.
Гейст, пристально смотревший на юг, воскликнул: | – Парус!
Последовало молчание.
– Он, должно быть, очень далеко, – сказал он, – не думаю, чтобы вы смогли его увидеть. Верно, какая-нибудь барка, направляющаяся к Молуккским островам. Идем. Не надо здесь оставаться.
Обняв ее одной рукой, он провел ее немного дальше, и они устроились в тени; она сидя на земле, он лежа у ее ног.
– Вы не любите смотреть на море оттуда, сверху? – спросил он немного погодя.
Она покачала головой. Это огромное пустое пространство представляло собой в ее глазах мерзость запустения. Но она повторила только:
– У меня от этого кружится голова.
– Слишком просторно? – спросил он.
– Слишком пустынно. У меня от этого сжимается сердце, – добавила она тихо, как будто признаваясь в секрете.
– Боюсь, – сказал Гейст, – что вы вправе обвинять меня в этих ощущениях. Но что же делать?
Он говорил шутливым тоном, несмотря на серьезный взгляд, которым глядел на молодую женщину. Она возразила:
– Я не чувствую себя одинокой с вами, совсем нет. Только когда мы приходим сюда и я вижу всю эту воду, весь этот свет…
– В таком случае мы никогда больше не придем сюда, – прервал он.
Она немного помолчала, и пристальность ее взгляда застави ла Гейста отвести глаза.
– Как будто все живое исчезло под водой, – сказала она.
– Это напоминает вам историю потопа, – прошептал он, лс жа у ее ног, которые он разглядывал. – Разве вы боитесь новою потопа?
– Я бы не хотела остаться на земле в полном одиночестве Когда я говорю об одиночестве, я подразумеваю нас обоих, ра зумеется.
– Правда?
Гейст лежал молча.
– Видение разрушенного мира, – начал он мечтать вслух. Вы жалели бы о нем?
– Я жалела бы о счастливых людях, которые в нем жили, – ответила она просто.
Гейст перевел взгляд с ног молодой женщины на ее лицо, и ему показалось, что он увидел на нем, как видно солнце сквозь облака, скрытое пламя ума.
– А я бы думал, что за них-то как раз следовало бы радоваться. Вы не находите?
– О да, я понимаю, что вы хотите сказать; но ведь пока все кончилось, прошло целых сорок дней.
– Вы, по-видимому, отлично осведомлены обо всех подробностях.
Гейст сказал это, только чтобы что-нибудь сказать и не сидеть перед нею молча. Она не смотрела на него.
– Воскресная школа, – прошептала она. – Я ее аккуратно посещала с восьми до тринадцати лет. Мы жили в северной части Лондона, возле Кингсланд-Рода. Это было довольно хорошее время. Тогда мой отец зарабатывал недурно, и хозяйка посылала меня после обеда в школу со своими дочерьми. Это была славная женщина. Ее муж служил на почте сортировщиком или чем-то в этом роде. Иногда он снова уходил после обеда на ночное дежурство. Потом как-то раз произошла ссора, и они нас выгнали. Я помню, как я плакала, когда вдруг пришлось собирать вещи и идти искать другую квартиру. Я так никогда и не узнала, в чем было дело…







