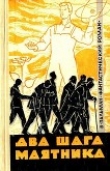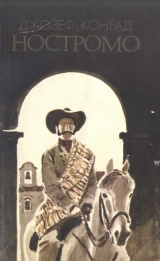
Текст книги "Ностромо"
Автор книги: Джозеф Конрад
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Благоразумие Ностромо оказалось излишним, ибо Сулако богател с невероятной быстротой благодаря сокровищам, скрытым в земле, оберегаемым духами добра и зла и исторгаемым из недр земных мускулистыми руками шахтеров. Город словно переживал свою вторую молодость, начинал новую жизнь, полную надежд, тревог, труда, щедро расточал на все четыре стороны скороспелое богатство. Материальные интересы повлекли за собой перемены, и перемены эти были также материального свойства. Происходили и другие перемены, менее заметные, они оставляли след в умах и в сердцах рабочих. Капитан Митчелл уехал на родину – благодаря рудникам он стал обеспеченным человеком; и доктор Монигэм постарел еще больше, седые волосы его отливали сталью, лицо всегда и везде сохраняло одно и то же выражение; неиссякаемые сокровища преданности и любви таились в недрах его сердца, он ими жил, он черпал их украдкой словно неправедно нажитое богатство.
Генеральный инспектор государственных больниц (надзор над которыми вверен концессии Гулда), муниципальный советник санитарной службы города, главный врач «Рудников Сан Томе, консолидейтид» (территория этого концерна, на которой добывается золото, серебро, медь, кобальт, свинец, простирается на целые мили в подножьях Кордильер) чувствовал себя нищим, умирающим от голода, несчастным во время длительного путешествия Гулдов в Европу и Североамериканские Соединенные Штаты. Близкий, задушевный друг семьи, холостяк, не связанный никакими узами и обязанностями (за исключением служебных), он поселился, по приглашению Гулдов, в их доме и жил там, как родной. Он с большим трудом перенес их продолжавшееся почти год отсутствие, нескончаемые одиннадцать месяцев, в течение которых он, входя в любую комнату и бросив беглый взгляд на стены, потолок или мебель, тотчас вспоминал женщину, которой отдал без остатка всю свою верность. По мере того как приближался день прибытия почтового парохода «Гермес», доктор ковылял по комнате все более оживленно и все язвительнее обрушивался на слуг, что объяснялось не злобой, а просто нервозностью.
С молниеносной быстротой, с восторгом, с яростью он собрал свой скромный саквояж и в упоении проводил его взглядом, когда слуга выносил его из парадных дверей Каса Гулд; а затем, когда приблизился назначенный час, в большой коляске, запряженной белыми мулами, где он сидел один (слегка бочком), держа в левой руке пару новых перчаток и стараясь выглядеть невозмутимым, отчего его худое лицо стало злым, он подъехал к пристани.
Когда он увидел Гулдов на палубе «Гермеса», его сердце бешено заколотилось, и ему удалось лишь небрежно пробормотать две-три приветственные фразы. В город они ехали в коляске, и все трое молчали. И, уже войдя во внутренний двор, доктор более естественным тоном сказал:
– Не стану вам мешать. Можно мне прийти завтра?
– Приходите к ленчу, доктор Монигэм, и как можно раньше, – попросила миссис Гулд. В дорожном платье, в шляпке с вуалью, она остановилась у подножья лестницы, а с верхней площадки мадонна в голубом одеянии с младенцем на руках, казалось, приветствовала ее сочувственным, ласковым взглядом.
– Не надейтесь застать меня дома, – предупредил доктора Чарлз. – Я уеду на рудники рано утром.
После ленча донья Эмилия и сеньор доктор медленно прошли через внутренний двор и оказались в саду. Сад был большой, с тенистыми деревьями и залитыми солнцем лужайками. Его кольцом окружал тройной ряд апельсиновых деревьев, а за ними вздымались высокие стены и краснели черепичные крыши соседних домов. Там и сям работали босые темнокожие садовники в белоснежных рубахах и широких штанах, они ухаживали за цветами, наклонившись над клумбами, мелькали между деревьями, тащили по дорожкам тонкие резиновые шланги, из которых внезапно вырывались изогнутые струйки воды – они переплетались между собой, образуя сверкающий на солнце узор, словно дождь шуршал, падая на листья, бриллиантовыми росинками осыпая траву.
Донья Эмилия, придерживая трен светлого платья, шла рядом с доктором, на котором был длинный черный сюртук и безупречно белая манишка со строгим черным галстуком. Подле купы деревьев, в сплошной тени от их ветвей стояли маленькие столики и плетеные кресла; миссис Гулд села на одно из них.
– Не уходите, – сказала она доктору, который и без того как в землю врос. Упрятав подбородок в высокий воротник, он исподлобья пожирал ее глазами, к счастью, совершенно неспособными выразить обуревавшие его чувства, ибо более всего они напоминали шарики из мрамора с прожилками. Он с волнением и жалостью смотрел на лицо этой женщины, замечал тени прожитых лет под глазами и на висках «не ведающей усталости сеньоры» (как назвал ее когда-то дон Пепе) и чуть не плакал от умиления.
– Побудьте здесь еще. Сегодняшний день – мой, – упрашивала его миссис Гулд. – Официально мы еще не возвратились. К нам никто не придет. Лишь завтра вечером в Каса Гулд откроются парадные двери и загорятся все окна.
Доктор опустился на стул.
– Тертулья? [134]134
Вечеринка (исп.);здесь: бал, большой прием.
[Закрыть]– спросил он с рассеянным видом.
– Просто встретимся со всеми добрыми друзьями, которые захотят к нам прийти.
– Только завтра?
– Да. Чарлз утомился сегодня после целого дня на рудниках, поэтому я… нам лучше провести вдвоем первый вечер после возвращения в дом, который я так люблю. Ведь здесь прошла вся моя жизнь.
– О, да! – внезапно рассердился доктор. – Женщины исчисляют время со дня свадьбы. Мне кажется, вы немного прожили и до нее?
– Да, конечно; но о чем там вспоминать? Не было ведь никаких забот.
Миссис Гулд вздохнула. И поскольку двое друзей, встретившись после долгой разлуки, всегда вспоминают самый тревожный период их жизни, они стали говорить о революции и последовавшем отделении Сулако. Миссис Гулд представлялось странным, что те, кто участвовал в революции, не сохранили о ней памяти и не извлекли уроков.
– И все-таки, – возразил ей доктор, – мы, сыгравшие в революции свою роль, получили каждый свою награду. Дон Пепе, невзирая на преклонный возраст, все еще ездит верхом. Барриос напивается до смерти в развеселой компании в своем поместье за Больсон де Тоноро. А героический отец Роман – воображаю, как наш старенький падре принялся бы методически взрывать рудники, произнося при каждом взрыве благочестивые изречения и в промежутках втягивая в себя целые горсти нюхательного табаку, – наш героический падре Роман говорит: пока он жив, можно не опасаться, что миссионеры Холройда причинят его пастве какой-нибудь вред.
Миссис Гулд слегка вздрогнула при мысли, что совсем немного, и рудники Сан Томе были бы уничтожены.
– Ну, а вы, мой милый друг?
– Я исполнил ту работу, для которой оказался пригоден.
– Вам угрожали самые страшные опасности. Страшней, чем смерть.
– Нет, миссис Гулд! Только смерть… через повешенье. А награжден я сверх всяких заслуг.
Миссис Гулд внимательно на него посмотрела, и доктор опустил глаза.
– Я сделал карьеру, как видите, – сказал генеральный инспектор государственных больниц и слегка приподнял лацканы отлично сшитого черного сюртука. Чувство собственного достоинства, вновь обретенное доктором и сказавшееся внутренне в том, что отец Берон почти полностью исчез из его сновидений, внешне было отмечено тем, что на смену былой небрежности явилось чрезмерное внимание к своей внешности, перешедшее в некий культ. Цвет, фасон одежды, ее ослепительная чистота – все соблюдалось с редкой строгостью и пунктуальностью и придавало доктору торжественный и в то же время праздничный вид; а ковыляющая походка и брюзгливо злобное выражение лица остались неизменными и в сочетании с опрятностью и щегольством производили странное и устрашающее впечатление.
– Да, – продолжал доктор, – каждый из нас награжден… главный инженер дороги, капитан Митчелл…
– Мы с ним виделись, – своим чарующим голосом прервала его миссис Гулд. – Наш милейший капитан специально приехал из своего загородного дома в Лондон, чтобы повидаться с нами. Он держался с большим достоинством, но мне кажется, он с сожалением вспоминает Сулако. Все время плел нечто невнятное об «исторических событиях», и наконец я чуть не разрыдалась.
– Гм, – промычал доктор. – Стареет, я полагаю. Даже Ностромо стареет. Хотя… он не изменился. Кстати, о Ностромо я хотел вам кое-что рассказать…
В доме началось волнение, оттуда доносился возбужденный гул голосов. Внезапно двое садовников, подстригавших розовый куст у калитки, упали на колени и склонили головы – мимо них прошла Антония Авельянос, а рядом шагал ее дядюшка.
Пожалованный кардинальской шапкой после непродолжительного визита в Рим, приглашенный туда коллегией миссионеров, проповедник, обративший в истинную веру целые племена диких индейцев, участник заговора, друг и покровитель разбойника Эрнандеса, вошел большими медленными шагами, накренившись вперед и сцепив за спиной свои сильные руки. Изможденный, с сумрачным лицом фанатика, первый кардинал-архиепископ города Сулако сохранил свой прежний вид – он был похож на капеллана разбойничьей шайки. Полагали, кардинальский пурпур достался ему не случайно – Рим встревожило вторжение в Сулако протестантов, организованное миссионерским фондом Холройда. Антония, чья красота немного поблекла, а фигура несколько расплылась, вошла легкой походкой, безмятежная, как и прежде, издали улыбаясь миссис Гулд. Вместе с дядюшкой она заглянула повидать свою милую Эмилию, без церемоний, всего на несколько минут перед сиестой.
Когда все сели, доктор Монигэм, питавший острую неприязнь к любому человеку, связанному каким-то образом с миссис Гулд, устроился в стороне, делая вид, что погружен в глубокое раздумье. Он поднял голову, когда Антония заговорила громче:
– Как можем мы не протянуть руку помощи тем, кто стонет под игом угнетения, кто еще несколько лет назад назывались нашими согражданами и должны так называться и сейчас? – говорила мисс Авельянос. – Как мы можем оставаться слепыми, глухими, безжалостными к тяжким мукам наших братьев? Мы обязаны найти какой-то выход.
– Присоединить оставшуюся часть Костагуаны к Сулако, – раздраженно огрызнулся доктор. – Тогда и у них будет благосостояние и порядок. Вот единственный выход.
– Я уверена, сеньор доктор, – сказала Антония с той спокойной серьезностью, которую дает только твердая убежденность, – что наш бедный Мартин всегда желал именно этого.
– Да, но кто позволит вам подвергать опасности развитие материальных интересов ради таких пустяков, как сострадание и справедливость, – брюзгливо буркнул доктор. – И, пожалуй, это можно понять.
Кардинал-архиепископ выпрямил свой костлявый стан.
– Мы работали на них; мы создали для иностранцев эти самые материальные интересы, – пророкотал последний из Корбеланов.
– Но вы ничто без них, – выкрикнул доктор. – Они не позволят вам действовать.
– Тогда пусть поостерегутся, ибо народ восстанет и потребует своей доли богатства и власти, – веско и с угрозой произнес любимый прихожанами кардинал-архиепископ.
Наступила пауза, в течение которой его преосвященство, нахмурившись, разглядывал траву, а Антония сидела в кресле, стройная и изящная, безмятежная и убежденная в своей правоте. Затем политику оставили в покое и заговорили о поездке Гулдов в Европу. Кардинал-архиепископ во время пребывания в Риме страдал от невралгических болей в голове. Плохой климат, плохой воздух.

Когда дядя и племянница собрались уходить и слуги снова пали на колени, а старик привратник, дряхлый и полуслепой, служивший еще при Генри Гулде, склонился, чтобы поцеловать руку его преосвященства, доктор Монигэм взглянул им вслед и произнес одно лишь слово:
– Неисправимые!
Миссис Гулд подняла к небу глаза и устало уронила руки на колени, сверкнув золотом и драгоценными камнями.
– Новый заговор. Еще бы! – сказал доктор. – Последний из Авельяносов и последний из Корбеланов только и делают, что вступают в сговор с беглецами из Санта Марты после каждой революции. Кафе Ламброзо в переулке возле Пласы кишмя кишит этими эмигрантами. Они трещат, как попугаи, их слышно через улицу. Совещаются по поводу вторжения в Костагуану. А знаете, где они черпают силы, где собираются набрать необходимое для нашествия войско? В тайных обществах, состоящих из эмигрантов и местных жителей, где Ностромо – мне следовало сказать, капитан Фиданца – большой человек. Как он достиг такого положения? Что помогло ему? Особый дар. Да, у него особый дар. Его любят и почитают в народе сейчас еще больше, чем прежде. Он обладает как бы некой тайной силой; нечто мистическое помогает ему пользоваться таким огромным влиянием. С ним совещается архиепископ… точно так же, как в памятные нам обоим старые времена. От Барриоса уже не будет толку. Но военачальник у них есть – святоша Эрнандес. И они могут поднять всю страну, выдвинув новый девиз: благосостояние народу!
– Неужели никогда не наступит мир? Неужели никогда мы не дождемся отдыха? – прошептала миссис Гулд. – Я думала, что мы…
– Нет! – перебил ее доктор. – Развитие материальных интересов не допускает ни мира, ни отдыха. У них свои законы, своя справедливость; но основаны эти законы на принципе практической целесообразности, и потому бесчеловечны; в них нет той целостности, той незыблемости, той нравственной высоты, которые основываются только на принципах морали. Миссис Гулд, приближается время, когда все то, что отстаивает концессия Гулда, так же безжалостно навалится на плечи народа, как невежество, жестокость и бесправие, царившие здесь несколько лет назад.
– Как вы можете так говорить, доктор Монигэм? – воскликнула она; его слова невыносимой болью отозвались в ее сердце.
– Отчего ж мне не говорить, если это правда? – возразил он упрямо. – Навалится и вызовет в ответ возмущение, кровопролитие, месть, ибо люди стали другими. Вы полагаете, и сейчас шахтеры со всех рудников явятся в город спасать своего управляющего? Вы действительно так думаете?
Миссис Гулд прижала к щекам руки и с тоской прошептала:
– Так неужели же мы ради этого трудились?
Доктор понурил голову. Ему был ясен тайный ход ее мыслей. Неужели ради этого прошла вся ее жизнь, лишенная сердечной теплоты и милых повседневных радостей, необходимых ей как воздух? И доктор, возмущенный слепотою Чарлза, поспешил переменить разговор.
– Да, я хотел вам рассказать о Ностромо. В нем-то как раз есть и незыблемость, и целостность. Ничто не может его сломить. Впрочем, я не о том. С ним творится что-то необъяснимое… или же наоборот, все очень просто объяснить. Вы сами знаете: смотрителем маяка на Большой Изабелле практически является Линда. Гарибальдиец слишком стар. Он чистит лампы, стряпает, но взбираться по лестнице уже не может. За маяком всю ночь смотрит черноглазая Линда, а после спит весь день. Впрочем, нет, не весь. К пяти вечера она уже на ногах – в это время галантный Ностромо, где бы ни стояла его шхуна, садится в лодку и гребет к маяку.
– А они не поженились? – спросила миссис Гулд. – Мне кажется, ее мать желала этого, еще когда Линда была ребенком. А во время войны за Отделение девочки жили у меня примерно год, и эта Линда – необыкновенное создание – так прямо и говорила всем, что собирается стать женой Джан Батисты.
– Нет, не поженились, – сухо ответил доктор. – Я иногда заглядываю к ним.
– Спасибо, милый доктор Монигэм, – сказала миссис Гулд, и ее мелкие ровные зубы блеснули в улыбке, по-молодому нежной и озорной. – Люди не знают, как вы добры. Вы от них это скрываете: наверное, специально назло мне, вот уже много лет назад поверившей в ваше доброе сердце.
Доктор оскалился, как будто собираясь кого-то укусить, и, повернувшись в кресле, угловато поклонился. Любовь пришла к нему поздно, не озарила его жизнь иллюзией, а вспыхнула, как молния, стала великим счастьем и великой бедой, и теперь, глядя на эту женщину, общества которой он был лишен почти целый год, он испытывал священный трепет преклонения, и ему хотелось поцеловать край ее платья. Избыток нежности, естественно, выразился в том, что он заговорил еще более мрачно и брюзгливо.
– Очень уж много благодарности, боюсь, я рухну под ее наплывом и рассыплюсь на обломки. Впрочем, эти люди меня интересуют. Я побывал несколько раз на Большой Изабелле у старого Джорджо.
Он не стал говорить миссис Гулд, что ездил на остров отдохнуть душой среди людей, которые ее тоже любили, – ему приятны были безыскусственное преклонение Джорджо перед «английской синьорой, столь милостивой к нам»; многословная горячая нежность черноглазой Линды к «этому ангелу, нашей донье Эмилии», умиленно поднятые вверх глаза белокурой Гизеллы, вслед за тем бросавшие на него украдкой простодушно лукавый быстрый взгляд, заставлявший доктора мысленно воскликнуть: «Не будь я таким старым и уродливым, я бы подумал, что негодница строит мне глазки. А может быть, и в самом деле строит. Эта девчонка строит глазки всем». Доктор не стал говорить об этом миссис Гулд, благодетельнице семьи Виола, а вернулся к «нашему великому Ностромо».
– Вот что я хотел вам рассказать: наш великий Ностромо в течение нескольких лет не уделял внимания ни старику, ни детям. Он, правда, почти круглый год бывал в отлучке, плавал на своей шхуне вдоль побережья. Сколачивал состояние, так он однажды сказал капитану Митчеллу. И, по-моему, чрезвычайно преуспел в этом. Чего и следовало ожидать. Человек он изобретательный, сметливый, уверенный в себе, удобного случая не упустит и охотно идет на риск.
Помню, как однажды я сидел у Митчелла в конторе, а он вошел туда, невозмутимый, как всегда. У него были какие-то торговые дела в Калифорнийском заливе, сказал он, глядя мимо нас на стену, – он всегда так глядит, – а возвратившись, рад был обнаружить, что на утесе Большой Изабеллы построен маяк. Очень, очень рад, – повторил он. Митчелл пояснил, что маяк построила компания ОПН, ради удобства почтовой службы и по его совету. Капитан Фиданца был так добр, что признал совет великолепным. Помню, как он подкрутил усы, обвел взглядом все карнизы в комнате и только после этого предложил сделать смотрителем маяка старого Джорджо.
– Я об этом знаю. У меня тогда спрашивали, как поступить, – сказала миссис Гулд. – Я сомневалась, хорошо ли увозить двух молодых девушек на уединенный остров, где они будут жить, как в тюрьме.
– Старику гарибальдийцу уединения-то и хотелось. Что до Линды, ей любое место показалось бы восхитительным, коль скоро его предложил Ностромо. Для удовольствия своего Джан Батисты она готова сидеть на каменистом острове и вообще, где угодно. Мне кажется, она всю жизнь была влюблена в этого безупречного капатаса. Кроме того, отец и старшая сестра стремились увезти Гизеллу подальше от порта, где ей оказывал чрезмерное внимание некий Рамирес.
– Вот как! – с оживлением произнесла миссис Гулд. – А кто он?
– Простой парень из Сулако. Его отец был каргадором. Сперва болтался тут на пристани тощий оборванный мальчишка, потом Ностромо взял его под свою опеку и вывел в люди. Когда парень подрос, Ностромо сделал его каргадором на грузовом баркасе, а вскоре вслед за тем назначил старшим на баркасе номер три – том самом, миссис Гулд, на котором увезли серебро. Ностромо выбрал этот баркас потому, что он лучше других слушается руля. Рамирес был одним из пяти каргадоров, которым поручили в ту памятную ночь переправить тюки с серебром из таможни. Так как баркас, на котором он работал, утонул, Ностромо, перестав служить компании, порекомендовал капитану Митчеллу Рамиреса в качестве своего преемника. Он подготовил его по всем правилам, и таким образом мистер Рамирес из голодного мальчишки-сопляка превратился в уважаемого человека и стал капатасом наших каргадоров.
– Благодаря Ностромо, – сказала миссис Гулд с чувством.
– Благодаря Ностромо, – повторил доктор Монигэм. – Клянусь честью, меня просто пугает могущество этого человека. То, что милейший старикан Митчелл согласился взять на службу хорошо обученного человека и избавить себя от хлопот, не удивительно. Но поразительно, что каргадоры нашего порта согласились подчиняться Рамиресу лишь потому, что так захотел Ностромо. Конечно, из Рамиреса не вышло второго Ностромо, как он мечтал, но положение у него весьма недурное. Он до того осмелел, что вздумал ухаживать за Гизеллой Виола, а она – первая красавица в городе. Но тут ему не повезло: старик гарибальдиец ужасно его невзлюбил. Право, не знаю, почему. Может быть, все дело в том, что Рамирес не является образцом совершенства, как его обожаемый Джан Батиста, воплотивший в себе храбрость, преданность и честь «простого народа». Синьор Виола не очень-то высокого мнения о коренных жителях Сулако. Старый спартанец и белолицая Линда с черными, как уголь, глазами и алыми губами устроили за белокурой красоткой самую настоящую слежку. Рамиресу строго-настрого запрещено к ней приближаться. Папаша Виола, как мне говорили, однажды грозился его застрелить.
– Ну, а сама Гизелла? – спросила миссис Гулд.
– Насколько я могу судить, – она большая кокетка, – ответил доктор. – Едва ли она так уж оскорбилась. Внимание мужчин ей приятно. Рамирес не единственный ее поклонник, – да будет мне позволено вам это сообщить. Всех не знаю, но слышал, что был инженер с железной дороги, которого тоже сулили пристрелить. Честь для старого Виолы нешуточное дело. После смерти жены он стал вспыльчив и подозрителен. Так что старик был просто рад увезти младшую дочь из города. Но послушайте, что происходит дальше, миссис Гулд. Рамирес, честный, уязвленный безнадежной страстью пастушок, не смеет появляться на острове. Прекрасно. Он подчиняется запрету, но, разумеется, его взгляд частенько обращается в сторону Большой Изабеллы. Кажется, у него вошло в привычку до поздней ночи сидеть на берегу и глядеть на маяк. И вот во время этих сентиментальных бдений он обнаружил, что Ностромо, то есть капитан Фиданца, чрезвычайно поздно возвращается домой после визитов, которые он наносил семейству Виола. Иногда в полночь.
Доктор сделал паузу и значительно взглянул на миссис Гулд.
– Да… но я не понимаю… – озадаченно произнесла она.
– И вот тут-то и начинаются странности, – продолжал доктор Монигэм. – Виола – король на своем острове, и одно из его правил – не позволять посторонним оставаться там до темноты. Даже капитану Фиданца приходится удаляться после захода солнца, когда Линда отправляется наверх смотреть за маяком. И Ностромо повинуется.
Но что же дальше? Что он делает в заливе от половины шестого до полуночи? Его видели в это время и не раз – он плыл к гавани, неслышно опуская в воду весла. Рамиреса снедает ревность. К старому Виоле он не осмеливается подойти; но, собравшись с духом, он высказал свои обиды Линде, когда воскресным утром она приехала на материк послушать мессу и посетить могилу матери. Произошло это на пристани, где между ними разгорелась ужасная ссора, свидетелем которой мне довелось стать. Было раннее утро. Думаю, он специально ее поджидал. Я оказался там по чистой случайности – врач с немецкой канонерки, стоявшей в порту, вызвал меня для срочной консультации. Линда с неслыханной горячностью обрушила на Рамиреса презрение, ярость и гнев, да и он был вне себя. Удивительное это было зрелище, миссис Гулд: длинный пирс и на дальнем его конце подпоясанный красным шарфом беснующийся каргадор и девушка, вся в черном; тихое воскресное утро, солнце еще не показалось из-за гор, их тень падает на воду; нигде ни души, лишь скользят кое-где лодки между стоящими на якоре пароходами, и гичка с немецкой канонерки приближается к берегу, чтобы забрать меня. Линда прошла мимо меня на расстоянии шага. Я обратил внимание на ее безумный взгляд. Я ее окликнул. Она меня не слышала. И не видела. Зато я рассмотрел ее. Ужасное лицо, полное гнева и горя.
Миссис Гулд резко выпрямилась, широко раскрыв глаза.
– Что все это значит, доктор Монигэм? Неужели вы подозреваете младшую сестру?
– Quién sabe! Кто это может сказать? – ответил доктор и пожал плечами, как прирожденный костагуанец. – Рамирес подошел ко мне. Он шатался… он был похож на сумасшедшего. Он обхватил руками голову. Ему нужно было с кем-нибудь поговорить, он не мог молчать. Разумеется, невзирая на свое невменяемое состояние, он узнал меня. Меня тут знают хорошо. Я так давно живу среди них, что каждый знает доктора, который может вылечить от любой болезни и приносит несчастье, ибо у него дурной глаз. Итак, он подошел ко мне. Он старался говорить спокойно. Объяснить мне, что просто-напросто хочет меня предостеречь против Ностромо. Насколько я смог понять, капитан Фиданца на каком-то тайном сборище сказал, что я ненавижу всех бедняков, весь народ. Весьма возможно. Он почтил меня неувядаемой неприязнью. А одного-единственного слова, произнесенного великим Фиданцей, вполне достаточно, чтобы какой-нибудь дурак всадил мне в спину нож. Комиссия по санитарным делам, которой я руковожу, не пользуется симпатиями местных жителей.
«Берегитесь его, сеньор доктор. Сделайте так, чтобы он умер, сеньор доктор», – прошипел Рамирес прямо мне в лицо. А потом его словно прорвало. «Этот человек, – захлебываясь, лепетал он, – приворожил обеих девушек. Я и так уже лишнего наговорил, – добавил Рамирес. – Теперь нужно бежать, бежать и где-то спрятаться». Он с тоской и нежностью произнес имя Гизеллы и осыпал ее полными злобы словами, которые я не рискую повторить. «Если он вздумает во что бы то ни стало добиться ее любви, есть одно лишь средство: ее нужно увезти с Большой Изабеллы. Увезти ее в лес. Но и это бесполезно…» И он быстро зашагал прочь, размахивая над головой кулаками. Тут я заметил старого негра, который сидел за грудой ящиков и удил рыбу. Он тотчас смотал удочки и испарился. Но, наверное, он кое-что услышал и пересказал, я думаю, другим, поскольку некоторые из приятелей старого гарибальдийца, служащие на железной дороге, по-моему, предупредили его, чтобы он остерегался Рамиреса. Во всяком случае, кто-то предупредил. Но Рамирес исчез из города.
– Бедные девушки… это нельзя так оставить, – с беспокойством произнесла миссис Гулд. – Ностромо в городе?
– Да, он вернулся в воскресенье.
– С ним нужно поговорить… немедленно.
– Кто осмелится с ним говорить? Даже обезумевший от любви Рамирес бросается наутек от одной лишь тени капитана Фиданцы.
– Я поговорю с ним, – заявила миссис Гулд. – Такой человек, как Ностромо, поймет все с первого слова.
Доктор кисло улыбнулся.
– Нужно покончить с этим положением, которое… нет, я не верю, что это дитя…
– Он очень привлекателен, – угрюмо буркнул доктор.
– Я не сомневаюсь, что он положит этому конец. Он должен жениться на Линде и тотчас же все прекратить, – самым решительным тоном произнесла первая леди Сулако.
В сад вошел Басилио, откормленный и разжиревший, с безволосым лицом, на котором уже появились возле глаз морщинки, с напомаженными и прилизанными черными, как смоль, жесткими волосами. Остановившись за купой цветущих кустов, он осторожно поставил на землю маленького мальчика, сидевшего у него на плече, – последнее дитя, родившееся у них с Леонардой. Манерная, кокетливая «камериста» и дворецкий Каса Гулд поженились несколько лет назад.
Сидя на корточках, Басилио с нежностью взирал на своего отпрыска, а тот невозмутимо и серьезно пялил глазенки на отца; затем, с достоинством, не торопясь, дворецкий направился к ним по тропинке.
– Что случилось, Басилио? – спросила миссис Гулд.
– Звонили по телефону из конторы Сан Томе. Хозяин ночует сегодня в горах.
Доктор встал и отвернулся. В тени раскидистых деревьев, самых больших в прелестном саду Каса Гулд, на время воцарилась глубокая тишина.
– Очень хорошо, Басилио, – сказала миссис Гулд. Она молча смотрела, как дворецкий прошел по дорожке, скрылся за цветущими кустами и появился опять с сидящим на плече ребенком. Неспешным шагом он вышел из калитки, осторожно придерживая свою ношу.

Доктор, стоя спиной к миссис Гулд, внимательно рассматривал освещенную солнцем клумбу. Люди считали его озлобленным и высокомерным. Но истинная сущность его заключалась в том, что это был человек, способный испытывать сильные чувства и в то же время ранимый. Он не обладал вежливым безразличием светского человека, тем безразличием, которое так легко порождает терпимость к себе и к другим; тем безразличием, которое ничего общего не имеет с подлинным состраданием и сочувствием. Этим отсутствием безразличия объяснялся саркастический склад его ума и язвительность речи.
В глубокой тишине, свирепо глядя на залитую солнцем роскошную клумбу, доктор мысленно призывал тысячи проклятий на голову Чарлза. А изящная фигурка миссис Гулд застыла в кресле так неподвижно, что казалась произведением искусства – поза схвачена и запечатлена навсегда. Внезапно доктор повернулся и откланялся.
Миссис Гулд откинулась на спинку кресла в сплошной тени окружавших ее кольцом деревьев. Откинулась на спинку кресла, закрыла глаза и положила на подлокотники руки. Свет солнца с трудом пробивался сквозь многослойную массу листвы, и в полутьме ее красивое лицо казалось нежным, юным, как у молоденькой девушки; блестела светлая ткань платья и кружево отделки. И сама она как будто тоже излучала свет и была похожа, маленькая, грациозная, светящаяся, на добрую фею, которая устала наконец выполнять свои служебные обязанности и уже не может с прежней радостью творить добрые дела, поскольку заподозрила, что труды ее бесполезны, а волшебство бессильно.
Если бы кто-нибудь спросил ее, о чем она думает, сидя одна в саду пустого дома – муж на рудниках, парадная дверь заперта и гости не придут, – кривить душой она не стала бы и просто не ответила бы на вопрос. А думала она, что жить значительной и полной жизнью можно лишь тогда, когда ты ни на миг не забываешь ни о прошлом, ни о будущем. Свою повседневную работу мы должны выполнять во славу мертвых и для счастья тех, кто придет вслед за нами. Она подумала так и вздохнула, не двигаясь, не открывая глаз. На мгновенье лицо ее сделалось напряженным – одиночество внезапно стало нестерпимым, как мигрень, и она поборола в себе это чувство; так преодолевают, не поморщившись, физическую боль. А еще ей пришло в голову, что ведь никто на свете не спросит ее заботливо, о чем она задумалась. Никто; возможно, за исключением человека, который только что ушел. Ее не спросит тот, кому она могла бы ответить, не смущаясь своей искренности, спокойно и доверчиво, не спросит тот, кто должен спросить.
Слово «неисправимый», недавно произнесенное доктором, вторглось в печальную тишину ее мыслей. Воистину неисправим в своей преданности рудникам сеньор администрадо́р! Неисправим в своем упорном и тяжком служении материальным интересам, единственному залогу, как он убежден, торжества справедливости и порядка. Бедняга! Она представила себе очень ясно его седеющие виски. Он безупречен, безупречен. О чем еще могла она мечтать? Успех, огромный и стабильный; а любовь – лишь краткий миг упоения, прелестный миг, о котором вспоминают почему-то с грустью, будто не радость это была, а печаль. Какая грустная закономерность; успех повлек за собой моральное вырождение первоначальной идеи.