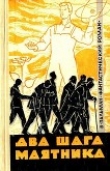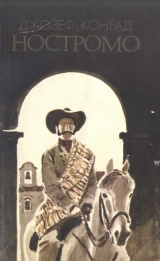
Текст книги "Ностромо"
Автор книги: Джозеф Конрад
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 36 страниц)
– Эй ты, надменный англичанин! Ты осмелился назвать ворюгами наших солдат! Вот они, твои часы!
Он потрясал кулаком, словно хотел ударить пленника в нос. Капитан Митчелл, беспомощный, как спеленатый младенец, встревоженно поглядывал на свой золотой хронометр, стоивший шестьдесят гиней и подаренный ему когда-то страховой компанией за спасение судна, которое чуть не погибло от пожара. Сотильо, в свою очередь, тоже уразумел, что перед ним необычайно дорогая вещь. Он вдруг умолк, шагнул к столу и стал внимательно рассматривать часы, поднеся их к свету. Таких красивых он никогда еще не видел. Офицеры встали у него за спиной и вытягивали шеи, чтобы получше разглядеть часы.
Часы настолько увлекли полковника, что он на время забыл о пленнике. Есть нечто детское в алчности темпераментных и простодушных южан, что делает их крайне непохожими на жителей северных стран, склонных к туманным идеалам и готовых под воздействием любого пустяка возмечтать не более не менее как о покорении Вселенной. Сотильо нравились украшения, драгоценности, золотые побрякушки. Он обернулся к офицерам и властным мановением руки велел им отойти. Положил часы на стол, затем небрежно прикрыл их шляпой.
– Ах, так! – заговорил он, подходя вплотную к стулу. – Ты позволил себе назвать ворюгами моих доблестных солдат, солдат из гарнизона Эсмеральды. Как ты осмелился! Какое бесстыдство! Это вы, чужеземцы, явились к нам, чтобы разграбить нашу страну. Вашей жадности нет пределов. Ваша наглость безгранична.
Он оглянулся на офицеров, те одобрительно загудели. Старик майор подтвердил:
– Sí, mi coronel… [104]104
Да, полковник ( исп.).
[Закрыть]Все они предатели.
– Я уж ничего не говорю, – продолжал Сотильо, устремив на неподвижного и беспомощного Митчелла гневный, но в то же время беспокойный взгляд. – Я ничего не говорю о том, что вы коварно пытались завладеть моим револьвером в то время, как я разговаривал с вами с предупредительностью, которой вы не заслужили. Вы должны были бы поплатиться за это жизнью. У вас одна надежда: я, может быть, вас пожалею.
Он посмотрел, какое впечатление произвели его слова, но не обнаружил признаков испуга на лице капитана Митчелла. Седые волосы капитана были в пыли, да и весь он перепачкался пылью. Он сидел с таким видом, словно ничего не слышал, только дернул бровью, чтобы отбросить соломинку, которая застряла у него в волосах и свисала на лоб.
Сотильо выставил вперед ногу и подбоченился.
– Это вы ворюга, Митчелл, – произнес он с пафосом, – вы, а не мои солдаты! – Его указательный палец с длинным, миндалевидным ногтем был направлен на арестованного. – Где серебро с рудников Сан Томе? Я спрашиваю вас, Митчелл, где серебро, которое хранилось здесь, в этой таможне? Отвечайте! Вы украли его. Вы один из участников кражи. Оно похищено у нашего правительства. Ага… Вы, иностранцы, думаете, я еще ничего не знаю, но я проведал о ваших плутнях. Серебра-то больше нет! Разве не так? Вы увезли его на одной из ваших lanchas [105]105
Барка, катер (исп.).
[Закрыть], несчастный! Как вы осмелились?
Вот теперь он произвел впечатление. «Каким образом Сотильо мог узнать об этом?» – подумал Митчелл. Его голова, единственное, чем он мог шевельнуть, внезапно дернулась, выдавая его изумление.
– Ага-а! Трясешься! – выкрикнул Сотильо. – Это заговор. Государственное преступление. Да знаете ли вы, что, пока вы не выплатите долг государству, это серебро принадлежит республике? Так где же оно? Куда ты его упрятал, подлый ворюга?
Капитан Митчелл, услыхав этот вопрос, воспрянул духом. Хотя он и не мог постичь, каким образом Сотильо узнал о баркасе, стало ясно, что тот хотя бы не захватил его. В этом не было никаких сомнений. Сперва капитан Митчелл, оскорбленный столь унизительным обращением, хотел молчать во что бы то ни стало, но сейчас, когда мелькнула надежда спасти серебро, он решил переменить тактику. Он задумался. В Сотильо ощущалась неуверенность.
«Этот человек, – подумал Митчелл про себя, – несомненно колеблется». Капитан Митчелл, невзирая на напыщенность манер, при столкновениях с реальной жизнью обнаруживал решительность и твердость духа. Сейчас, оправившись от первого потрясения, он вновь в какой-то мере обрел спокойствие и хладнокровие – глубочайшее презрение, которое он испытывал к Сотильо, немало тому способствовало, – и он с уверенностью произнес:
– Ну уж сейчас-то оно спрятано надежно.
К тому времени овладел собой и Сотильо.
– Muy bien [106]106
Очень хорошо (исп.).
[Закрыть], Митчелл, – проговорил он холодным и угрожающим тоном. – Но можете ли вы предъявить государству документ, удостоверяющий ваше право на разработку недр, а также разрешение таможни на вывоз серебра? Можете вы это сделать? Нет. Значит, вы вывезли серебро незаконно, и, если оно не будет доставлено сюда в течение пяти дней, виновные понесут наказание.

Он распорядился, чтобы пленника отвязали от стула и заперли в одной из расположенных внизу каморок. Затем принялся расхаживать по комнате, угрюмо и молчаливо, и заговорил лишь тогда, когда капитан Митчелл, которого держали за руки четверо солдат, – по двое с каждой стороны – вскочил и яростно топнул ногой.
– Вам нравится сидеть привязанным веревкой к стулу, Митчелл? – язвительно осведомился он.
– Это неслыханное, возмутительное насилие! – громовым голосом воскликнул капитан. – И чего бы вы ни добивались, вы не получите ничего, это я вам обещаю!
Высокий полковник с мертвенно-бледным лицом и черными, как смоль, вьющимися волосами и усами пригнулся, чтобы заглянуть в глаза низенькому коренастому арестанту с багровым лицом и взъерошенными волосами.
– Ну что ж, посмотрим. Когда я привяжу вас на целый день, да к тому же под палящим солнцем, вы еще лучше узнаете, что такое насилие. – Он с надменным видом выпрямился и жестом приказал увести капитана Митчелла.
– А когда мне возвратят часы? – крикнул Митчелл, упираясь и вырываясь из рук солдат.
Сотильо возмущенно посмотрел на офицеров.
– Нет, кабальеро, вы только послушайте этого picaro [107]107
Жулик, мошенник ( исп.).
[Закрыть],– презрительно воскликнул он, и офицеры тотчас же насмешливо захохотали. – Он требует свои часы! – И Сотильо порывисто подбежал к арестованному, сжигаемый желанием пустить в ход кулаки и избить англичанина как можно больней. – Часы! Вы пленный, захваченный в период военных действий, Митчелл! Военных действий! У вас нет никаких прав и нет имущества! Caramba! Вы весь полностью, до последнего вздоха принадлежите мне. Запомните это.
– Вздор! – отрезал капитан Митчелл, стараясь казаться спокойным.
Внизу, в большом зале на первом этаже, где пол был земляной, а в углу высился громадный муравейник, построенный белыми муравьями, солдаты сложили небольшой костер из обломков столов и стульев и разожгли его неподалеку от сводчатого входа, из которого доносился приглушенный шум волн, набегавших на пристань. Когда капитан Митчелл спускался по лестнице, ему навстречу бегом промчался офицер, торопившийся сообщить Сотильо, что захвачено еще несколько пленных. Костер потрескивал, огромный темноватый зал мало-помалу наполнялся дымом, и, всматриваясь, как в туман, капитан Митчелл увидел над сомкнувшимися вокруг них плотным кольцом низкорослыми солдатами с блестящими штыками головы трех высоких пленных – доктора, главного инженера дороги и седую львиную гриву старого Виолы, который стоял, отворотясь от остальных, скрестив руки и склонив голову. Изумлению Митчелла не было пределов. Он вскрикнул; у доктора и инженера тоже вырвалось изумленное восклицание. Но конвоиры, пересекая зал, похожий на громадную пещеру, торопливо тащили его за собой. У бедняги Митчелла закружилась голова – такое обилие мыслей и предположений роилось в ней, так мучительно он старался придумать, что им сказать, как предупредить.
– Он в самом деле вас арестовал? – выкрикнул инженер, и в отблеске костра, внезапно пробежавшем по его лицу, ослепительно сверкнул монокль.
Офицер, стоявший на площадке второго этажа, раздраженно и нетерпеливо распорядился:
– Ведите всех сюда… всех троих.
Сквозь гомон голосов и лязганье оружия невнятно прозвучал голос Митчелла:
– Бога ради! Этот субъект украл мои часы.
Инженеру, которого торопливо тащили к ступенькам, удалось на мгновенье замедлить шаг и спросить:
– Что? Что вы сказали?
– Мой хронометр! – яростно гаркнул Митчелл и в тот же миг сквозь низенькую дверцу стремительно влетел головою вперед в комнату, служившую камерой, где царила кромешная тьма и было так тесно, что он зацепился за стену. Дверь сразу же захлопнулась. Капитан Митчелл знал, что это за комната. Его поместили в кладовую для хранения ценностей, откуда всего несколько часов назад вынесли серебряные слитки. Комната была узкая, как коридор, и в конце ее виднелась квадратная дверца, забранная толстой решеткой. Митчелл, спотыкаясь, прошел несколько шагов, затем сел прямо на земляной пол и прислонился спиной к стене. Даже слабый луч света не проникал в камеру и не препятствовал его размышлениям.
Он напряженно думал, стараясь сосредоточиться на главном. Мысли его не были мрачными. Старый моряк, при всех своих слабостях и причудах, был органически неспособен долго думать об опасности, угрожающей лично ему. Причиной тому была не столько душевная твердость сколь недостаток воображения особого рода, присовокупляющий ко всем свойственным человеку восприятиям слепой страх перед физическими страданиями и смертью; это предвкушение телесных мук, которых люди иного склада не ожидают ежеминутно, не оставляет страдальца никогда – он постоянно пребывает в тревожном ожидании. Избыток воображения такого рода, разбушевавшись не в меру, как нам известно, причинил невыносимые страдания сеньору Гиршу. Капитану Митчеллу, однако, не было дано предугадывать события; он совершенно не умел, схватив на лету какой-нибудь оттенок слова, поступка, жеста, проникнуть мыслью в глубинную суть явлений. В невинном упоении самим собой он не снисходил до того, чтобы замечать других.
Например, капитан Митчелл не мог поверить, что Сотильо его действительно боится – ему просто-напросто не приходило в голову, как это можно кого-то застрелить, разве только этот кто-то приставил бы ему нож к горлу. «Каждому ведь ясно, что я не убийца, – степенно рассуждал старый моряк. – Чем же тогда объяснить эти оскорбительные и нелепые обвинения?» – спрашивал он себя. Впрочем, больше всего его заботил один вопрос, на который он никак не мог найти ответа: каким образом этот фрукт узнал, что серебро отправлено на баркасе? Он захватил его? Нет, несомненно нет. Он не мог его захватить, это ясно! К этому выводу – ложному, как мы знаем, – капитан Митчелл пришел во время своего многочасового бдения на пристани. Наблюдая за бурным морем, он решил, что в эту ночь в заливе ветер дул сильнее, чем обычно; мы же знаем, что все было как раз наоборот.
– Как этот паршивец все узнал? – крикнул он, едва только дверь его камеры с оглушительным лязганьем и грохотом распахнулась (она сразу же захлопнулась вновь, едва он успел поднять голову), из чего Митчелл заключил, что у него появился товарищ по несчастью. Доктор Монигэм, который сыпал вперемежку английскими и испанскими ругательствами, тут же умолк.
– Это вы, Митчелл? – спросил он брюзгливо. – Я ударился головой об эту распроклятую стену с такой силой, какой вполне хватило бы, чтобы свалить быка. Где вы?
Митчелл, который успел уже привыкнуть к темноте, видел, как доктор беспомощно протягивает руки.
– Тут я сижу, на полу. Не споткнитесь о мои ноги. – Голос капитана Митчелла прозвучал с огромным достоинством. Доктор послушался благого совета и не стал блуждать в темноте, а опустился рядом с капитаном на пол. Узники, почти соприкасаясь головами, принялись рассказывать друг другу о своих злоключениях.
– Да, именно так все и случилось, – приглушенным голосом говорил доктор сгоравшему от любопытства Митчеллу, – нас схватили в гостинице старого Виолы. По-моему, один из их пикетов, во главе которого стоял офицер, доехал до самых городских ворот. Им был дан приказ не входить в город, но брать и уводить с собой всех, кто встретится на равнине. Мы разговаривали, сидя в кухне, дверь была раскрыта, и солдаты увидели свет. Наверное, они сперва подкрадывались к нам. Инженер улегся на скамье в нише у камина, а я поднялся наверх поглядеть в окно. Долго-долго ничего не было слышно. Старый Виола, как только увидел, что я поднимаюсь к нему, знаком велел мне молчать. Я тихонько вошел в комнату. Поразительно – жена его мирно спала. Уснула, невзирая на все, что творится: «Сеньор доктор, – шепотом сказал мне Виола, – мне кажется, ей стало полегче». – «Да, – с немалым удивлением ответил я, – ваша жена необыкновенная женщина, Джорджо».
И тут раздался выстрел, и мы оба вздрогнули и съежились, словно ударил гром. К этому времени патруль, очевидно, вплотную приблизился к дому, и один из солдат прокрался к самому порогу. Заглянул в дверь, увидел, что на кухне пусто, и вошел, держа в руках винтовку. Инженер потом мне сказал, что именно в это время он на мгновенье закрыл глаза. Когда он их открыл, он увидел, что посредине комнаты стоит человек и вглядывается в темные углы. От неожиданности инженер, не размышляя ни секунды, выскочил из ниши и очутился перед камином. Солдат, для которого это оказалось ничуть не меньшей неожиданностью, вскинул винтовку и выстрелил, но от волнения промазал и преуспел лишь в том, что оглушил нашего инженера и слегка его обжег. Но послушайте дальше! Едва раздался выстрел, больная проснулась и села на постели с громким криком: «Джан Батиста, дети! Спаси детей!» До сих пор я слышу этот страшный вопль. Он был полон глубочайшего отчаяния. Я окаменел, ошеломленный, но в это время муж Терезы кинулся к ее кровати, протягивая руки. И она схватила его за руки! Глаза ее сверкали безумным огнем; старик бережно уложил ее на подушки, затем в растерянности оглянулся на меня. Она была мертва! Все это совершилось быстрее, чем за пять минут, и я тут же стремглав бросился вниз узнать, что там случилось. Мы с инженером попробовали уговорить их офицера, но он был непреклонен; тогда я вызвался подняться с двумя солдатами наверх и привести старика Виолу. Он сидел в ногах кровати, смотрел на жену и, казалось, совсем не слышал, что я ему говорю; но когда я прикрыл лицо покойницы простыней, он встал, тихий, задумчивый, и спустился вместе с нами.
Солдаты повели нас по дороге – дверь так и осталась открытой, горела свеча. Инженер двинулся в путь, не сказав ни слова, я же раза два оглянулся на мерцавший позади огонек. Мы прошли уже порядком, как вдруг старый гарибальдиец, который шел рядом со мной, сказал: «Немало народу я предал земле на полях битвы этого континента. Попы что-то толкуют о святой земле! Вздор! Всю нашу землю сотворил господь и вся она святая; но еще святее море, не ведающее ничего о королях, попах и тиранах. Доктор! Я бы ее в море схоронил. Там не будет никакого фиглярства – ни свечей, ни ладана, ни святой воды, и попы молитв не бормочут. Дух свободы витает над гладью морской…» Удивительный старик… И говорил он так негромко, словно размышляя про себя.
– Да, да, – нетерпеливо перебил капитан Митчелл. – Бедняга. Но скажите бога ради, каким образом подлец Сотильо узнал о серебре? Ведь не мог же он захватить кого-нибудь из наших каргадоров, которые везли вагонетку? Уму непостижимо! Все они надежные, проверенные люди, работают у нас несколько лет, а за погрузку серебра я им заплатил особо и посоветовал не менее суток не показываться никому на глаза. Я видел, как они вместе с итальянцами шли к товарной станции. Главный инженер сказал, что они могут оставаться там, сколько угодно, и их будут кормить.
– Ну-с, – ответствовал на это доктор, – должен вам сообщить, что вы можете навсегда забыть о вашем лучшем баркасе, а заодно и о капатасе каргадоров.
Капитан Митчелл так разволновался, что вскочил. Но не успел он и слова вымолвить, как доктор изложил ему историю, рассказанную Гиршем.
Ужасная весть, словно гром небесный, ошеломила Митчелла. «Потонул, – шептал он в ужасе, – потонул!» Далее он слушал молча, а вернее, делал вид, что слушал, ибо новость так его потрясла, что он не мог как следует вникать в то, что рассказывал доктор.
Доктор же рассказывал, как на допросе делал вид, будто слыхом ни о чем не слыхивал, так что в конце концов Сотильо приказал ввести в комнату Гирша и велел ему повторить всю историю, чего добился лишь с большим трудом, ибо Гирш поминутно прерывал свое повествование душераздирающими ламентациями. Наконец Гирша, еле живого, увели и заперли на втором этаже, чтобы был все время под рукой. После этого доктор, продолжая изображать человека, никоим образом не посвященного в тайны рудников Сан Томе, заявил, что история эта не кажется ему правдоподобной. Разумеется, он не может в точности знать, что предприняли живущие в Сулако европейцы, поскольку все его время было поглощено уходом за ранеными и к тому же он навещал дона Хосе Авельяноса. Доктору удалось так убедительно сыграть глубочайшее равнодушие, что Сотильо, казалось, полностью ему поверил. До определенного момента допрос шел в согласии с установленной формой: один из офицеров, сидя за столом, записывал вопросы и ответы, остальные расхаживали по комнате, слушали очень внимательно, дымили длинными сигарами и не спускали с доктора глаз. И вот тут-то Сотильо велел всем выйти.
ГЛАВА 3Едва они остались наедине, полковник сразу изменил свою строго официальную манеру. Он встал и приблизился к доктору. Глаза его сверкали алчностью и надеждой. Заговорил он вкрадчиво, доверительно:
– Серебро, наверное, и в самом деле погрузили на баркас, но в море его не отправили, я не могу в это поверить.
Доктор важно кивал головой, неторопливо, с удовольствием покуривал сигару, которую в знак дружеских чувств предложил ему Сотильо, время от времени осторожно вставлял тщательно продуманное слово. О европейской колонии в Сулако он говорил холодно и суховато, и поверивший ему Сотильо сперва только высказывал предположения, затем же прямо намекнул, что всю эту затею с отправкой серебра Чарлз Гулд изобрел лишь для отвода глаз, поскольку сам хочет завладеть всеми сокровищами. На это доктор даже бровью не повел и негромко заметил:
– На такую штуку он вполне способен.
– Вы сказали так о Чарлзе! – воскликнул Митчелл возмущенно, негодующе, не веря собственным ушам. Нечто похожее на брезгливость и даже подозрительность звучали в его голосе, ибо он, как и все европейцы в Сулако, считал, что доктор несколько сомнительная личность.
– Что вас побудило брякнуть подобную чушь этому охотнику за чужими часами? – спросил капитан сердито. – Чего ради вам вздумалось так беспардонно лгать? Этот чертов карманник вполне способен вам поверить.
Он сердито фыркнул. Доктор помолчал.
– Да, именно так я ему и сказал, – произнес он тоном, не оставляющим сомнений в том, что пауза была сделана сознательно, а не невольно. Капитан подумал, что никогда еще не видел такой бесстыдной наглости.
– Ну и ну! – пробормотал он, но вслух ничего не прибавил. На смену негодованию пришло удивление, а следом – печаль. Все его надежды рухнули: серебро потеряно, погиб Ностромо, а это тяжкий удар, поскольку Митчелл был искренне привязан к своему капатасу, – мы легко привязываемся к тем, кто нам служит, ибо в чувстве этом смешиваются и симпатия, и полуосознанная благодарность. А при мысли, что утонул и Декуд, его сердце сжалось от боли. Бедная девушка, какое горе ее постигло!
Капитан Митчелл не принадлежал к брюзгливым старым холостякам, напротив, он с удовольствием смотрел, как молодые люди ухаживают за молодыми женщинами. Что же тут дурного, так и следует поступать. Именно так, а не иначе. Моряки другое дело; морякам, – утверждал он, – лучше не жениться, но из моральных побуждений, ибо, объяснял капитан Митчелл, женщины, даже самые замечательные из них, не способны жить на борту судна, а оставляя жену на берегу, вы, во-первых, поступаете несправедливо, а уж огорчает ли ее отсутствие мужа или же, наоборот, совсем не огорчает, ни в том, ни в другом случае ничего хорошего нет.
Он и сам не мог бы сказать, что его больше всего удручило – громадный денежный ущерб, который потерпел Чарлз Гулд, смерть Ностромо – тяжелая потеря для самого капитана Митчелла, или же мысль о безутешном горе, которое постигнет красивую и привлекательную девушку.
– Да, так-то вот, – заговорил после паузы доктор, – он в самом деле мне поверил. Чуть на шею не бросился. Sí, sí, все понятно, Гулд, мол, напишет в Сан-Франциско компаньону, богатому американо, что серебро потеряно. И превосходно. Колоссальное богатство, его можно разделить между многими.
– Да он форменный сумасшедший! – воскликнул Митчелл.
Доктор ответил, что Сотильо действительно не в своем уме и что безумие его неподдельно и потому его можно полностью сбить с толку. Сам он, доктор, лишь слегка его подтолкнул, направив на ложный путь.
– Я как бы невзначай, – рассказывал он дальше, – упомянул, что сокровища обычно зарывают в землю, а не отправляют в открытое море. Тут мой Сотильо хлопнул себя по лбу. «Por Dios, да, – говорит он, – наверняка они зарыли его где-нибудь здесь, в гавани, и отправили в море пустой баркас!»
– Силы небесные! – буркнул Митчелл. – Вот уж не думал, что можно быть таким ослом… – Он помолчал и с печалью добавил: – Впрочем, как это может помочь? Я назвал бы вашу выдумку удачной, если бы баркас сейчас спокойно плыл по заливу. Тогда этот идиот, поверив вашим басням, не стал бы посылать на его поиски свое судно. Я смертельно этого боялся.
Капитан Митчелл глубоко вздохнул.
– Я солгал ему с определенной целью, – сказал доктор.
– В самом деле? – отозвался Митчелл. – Что ж, я рад, ибо в противном случае я бы подумал, что вы его дурачили для развлечения. Впрочем, возможно, именно в этом и заключается ваша определенная цель. Должен сказать, что лично я не считаю возможным снисходить до шуточек такого рода. Мне они не по вкусу. О, нет. Я не вижу ничего смешного в том, чтобы чернить репутацию своих друзей, даже если бы это помогло мне обмануть самого гнусного негодяя на свете.
Если бы капитан Митчелл не был так угнетен печальной вестью, его отвращение к доктору приняло бы более откровенные формы; но сейчас ему и в самом деле было безразлично, что сказал и что сделал этот человек, к которому он никогда не ощущал симпатии.
– Интересно, – проворчал он, – почему они нас заперли вместе с вами и вообще, чего ради Сотильо вздумалось вас запирать, коль скоро вы с ним так подружились?
– И в самом деле, почему бы это? – мрачно сказал доктор.
У капитана Митчелла было так тяжко на душе, что он предпочел бы сейчас полное одиночество самому приятному собеседнику. В то же время любой собеседник был бы предпочтительнее для него, чем доктор, к которому он всегда относился с неодобрением, считая его чем-то вроде нищего или бродяги, который, будучи по своему общественному положению ниже порядочных людей, в силу этой особенности отличается от них тем, что осведомлен гораздо лучше. Поэтому он все же задал доктору вопрос:
– А что этот мерзавец сделал с двумя остальными?
– Главного инженера дороги он, конечно, отпустил, – сказал доктор. – С железнодорожной компанией он ссориться не станет. Во всяком случае, сейчас. Я думаю, капитан Митчелл, вы не вполне отчетливо представляете себе положение Сотильо…
– Не вижу никакой необходимости ломать над этим голову, – огрызнулся Митчелл.
– Конечно, – согласился доктор, по-прежнему невозмутимо и угрюмо. – Необходимости в этом не вижу и я. Как бы старательно вы не ломали голову, пользы никому не будет.
– Верно, – кратко и уныло подтвердил капитан Митчелл. – Какую уж там можно принести пользу, если тебя заперли в этой чертовой дыре?
– Что до старого Виолы, – продолжал доктор, будто не слыша произнесенных капитаном слов, – Сотильо освободил его по той же причине, по какой намерен вскорости освободить и вас.
– А? Что? – воскликнул Митчелл, таращась, как сова, в темноте. – Что у меня общего со старым Виолой? Уж скорее он отпустил его на волю потому, что у старика нечего красть, – ни часов, ни цепочки. Но попомните мое слово, доктор Монигэм, – продолжал капитан с нарастающим гневом. – Этот вор еще узнает, что избавиться от меня гораздо трудней, чем он думает. Спуску ему я давать не намерен. Во-первых, я потребую вернуть часы, ну, а дальше… дальше будет видно. Для вас, я полагаю, ничего страшного нет в том, что вас заперли за решетку. Но Джо Митчелл человек совсем другого рода, сэр. Я не из тех, кто безропотно терпит, когда их обижают и грабят. Я занимаю видное положение в обществе, сэр.
И тут капитан Митчелл заметил, что решетка на окне их камеры стала видимой – черные прутья на сероватом четырехугольнике. Почему-то начало нового дня заставило умолкнуть капитана Митчелла; кто знает, может быть, он вдруг подумал, что еще много дней придет, как пришел этот день, но никогда он больше не увидит своего капатаса и не воспользуется его бесценными услугами. Скрестив на груди руки, он прислонился к стене, а доктор, волоча увечную ногу, стал ковылять взад и вперед по длинной камере, словно подкрадывался к кому-то.
Когда он удалялся к противоположной от окна стене, он полностью скрывался в темноте, и оттуда слышалось лишь тихое шарканье. Погруженный в мрачное раздумье, доктор ходил и ходил без передышки. Когда дверь камеры внезапно распахнулась и громко выкрикнули его имя, он не удивился. Круто повернулся и вышел сразу, словно от его поспешности зависело нечто важное, капитан же Митчелл прижался спиной к стене, не зная, идти ли ему вслед за доктором или остаться в знак протеста на месте. «Пусть меня вынесут отсюда на руках», – подумал он, но когда офицер, стоявший у двери, несколько раз подряд окликнул его укоризненным и удивленным тоном, он неторопливо пошел к двери.
Сотильо вел себя сегодня совсем иначе. Он был учтив, но чувствовалось, что он не уверен, требуется ли сейчас учтивость. Он сидел в глубоком кресле за столом и сначала смерил капитана испытующим взглядом, затем небрежно произнес:
– Я пришел к решению не задерживать вас, сеньор Митчелл. Я человек отходчивый. Мне кажется, вас можно отпустить. Пусть, однако, этот случай послужит вам уроком.

Рассвет, народившийся где-то далеко за горами и заполнивший тихо и постепенно ущелья, прокрался в комнату, и красноватые огоньки свечей померкли. Капитан Митчелл с презрительным и безразличным видом обвел глазами комнату и остановил тяжелый, пристальный взгляд на докторе, который сидел на подоконнике, опустив голову с совершенно отрешенным видом, возможно, потому, что ему ни до чего не было дела, а может быть, и потому, что его мучили укоры совести.
Сотильо, утопавший в большом глубоком кресле, произнес:
– Я надеялся услышать от вас ответ, достойный истинного кабальеро.
Он подождал этого ответа, однако Митчелл безмолвствовал скорее оттого, что был не в силах подавить свое негодование, нежели оттого, что намеренно хотел ему досадить, и Сотильо растерянно взглянул на доктора, а тот поднял глаза и кивнул, после чего полковник сказал, сделав над собою некоторое усилие:
– Вот ваши часы, сеньор Митчелл. Теперь вы видите, насколько несправедливы вы были, обвинив в бесчестном поступке моих славных солдат.
Откинувшись на спинку кресла, он простер над столом руку и подтолкнул к Митчеллу часы. Капитан, не церемонясь, быстро подошел к столу, взял часы, поднес их к уху и, успокоившись, положил в карман.
Было видно, что Сотильо с трудом сдерживает себя. Он еще раз покосился на доктора, который смотрел на него немигающим взором.
Но когда Митчелл повернул к дверям, не удостоив его ни кивком, ни взглядом, полковник поспешно сказал ему вслед:
– Ступайте вниз и ожидайте там сеньора доктора, которого я тоже собираюсь отпустить. Я полагаю, от вас, иностранцев, все равно нет никакого толку.
Он издал короткий принужденный смешок, и только тут капитан Митчелл впервые не без интереса взглянул на него.
– Правосудие потом займется вами, – быстро добавил Сотильо, – что касается меня, я позволяю вам жить свободно, на воле и как вам угодно. Вы меня слышите, сеньор Митчелл? Можете возвратиться к своим делам. Я выше того, чтобы уделять вам внимание. Меня интересуют дела более серьезные.
Капитану Митчеллу с большим трудом удалось заставить себя промолчать. Его так и подмывало поставить наглеца на место. Ему не нравилось, что его отпускают на свободу в такой оскорбительной форме; но бессонная ночь, тревоги, волнения, разочарование, постигшее его, когда он узнал, как трагично завершилась их попытка спасти серебро Сан Томе, – все это давило, угнетало его. Одно лишь было в его силах – скрыть беспокойство – скорей по поводу всего происходящего, чем по поводу своей судьбы. Он вдруг отчетливо ощутил, что вокруг него разыгрывается какая-то неведомая ему игра. Выходя, он демонстративно не взглянул на доктора.
– Скотина! – произнес Сотильо, когда за Митчеллом захлопнулась дверь.
Доктор Монигэм соскользнул с подоконника и, сунув руки в карманы длинного серого плаща, сделал несколько шагов.
Сотильо тоже встал и, преградив ему дорогу, насмешливо и испытующе взглянул на него.
– Я вижу, ваши земляки не очень-то вам доверяют, сеньор доктор. Не любят они вас. Интересно, почему?
Доктор поднял голову, посмотрел ему в лицо долгим, ничего не выражающим взглядом и сказал:
– Возможно, потому, что я слишком давно живу в Костагуане.
Под черными усами Сотильо сверкнули белые, как сахар, зубы.
– Так, так, так, но вы-то любите себя? – произнес он вкрадчиво.
– Оставьте их в покое, – ответил доктор, устремив все тот же невыразительный взгляд на смазливую физиономию Сотильо, – и они очень скоро себя выдадут. А я тем временем, возможно, смогу что-нибудь узнать у дона Карлоса.
– Ах, сеньор доктор, – качая головой, сказал Сотильо, – умный вы человек, все понимаете с первого слова. Мы просто созданы, чтобы помогать друг другу.
Он отвернулся. Он больше был не в силах выдержать этот неподвижный, безжизненный взгляд: его неизмеримая, непроницаемая пустота напоминала бездонную пропасть.
Даже люди, совершенно лишенные морального чувства, столкнувшись с подлостью, способны о ней судить, правда, на свой особый лад, но вполне четко. Сотильо думал, что доктор, так сильно непохожий на других европейцев, готов продать всех своих земляков, в том числе и Чарлза Гулда, за соответствующую долю серебра. Он не презирал его за это. В вопросах морали полковник был совершенно невинен. Его моральная ущербность была так глубока, что превращалась в моральную тупость. То, что было выгодно ему, на его взгляд, никак не могло быть достойным порицания. Тем не менее он презирал доктора Монигэма. Он смотрел на него сверху вниз. Он презирал его всей душою потому, что не собирался вознаграждать его за предательство. Он презирал его не за то, что у него нет совести и чести, а за то, что он дурак. Доктору Монигэму, который видел Сотильо насквозь, удалось провести его полностью. Доктору именно того и нужно было, чтобы Сотильо считал его дураком.