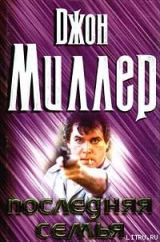
Текст книги "Последняя семья"
Автор книги: Джон Миллер
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 29 страниц)
Аарон взял в руки деревянный футляр. Он снял крючок с древней застежки и открыл крышку, обнажив бордовый бархат внутренней обивки. В футляре лежала длинная черная трость. Старик вынул ее и передал Полу.
– Я помню ее. Последний раз видел еще ребенком.
Пол поразился ее тяжести. Ручка трости в форме буквы "Г" была вырезана из слоновой кости. Сама трость, черная и блестящая, словно темное стекло, оканчивалась серебряным наконечником, украшенным затейливой филигранью.
– Возьмешь ее с собой, – не терпящим возражений тоном велел Аарон.
– Она еще великолепнее, чем мне представлялось, – восхитился Пол. – Весит, должно быть, фунтов десять. Ты намекаешь на мое увечье?
– Она тяжелая не без причины. И твое увечье здесь совершенно ни при чем. Эта трость в любом случае тебе не помешает. Посмотри на наконечник.
Пол залюбовался тростью. Резной рисунок на ручке изображал сцену поединка: один из дуэлянтов стоит, другой падает, раненный. Пол перевернул трость и осмотрел наконечник. В серебряном кружке чернело отверстие.
Аарон забрал трость у Пола и повернул ручку. Она сместилась, открыв казенник. Старик вложил туда медный патрон и вернул ручку на место. Потом поднял трость и направил ее на толстое бревно. Раздался устрашающий грохот. Пол встал и сунул палец в новую дыру в стене.
– У этой старинной трости интересная история, – сообщил Аарон. – Не помню в точности, в чем там дело, но что-то связанное с картежником. Трость изготовил знаменитый ружейный мастер по чертежам некоего картежника. Они ему приснились, или что-то в этом роде. Рукоятку вырезал художник-китаец из Фриско в 1880 году. Сама трость вырезана из африканского эбенового дерева, внутри – ствол от винтовки. Серебряный наконечник – из мексиканских рудников. Я выменял эту трость на кое-какой хлам сорок лет назад. В случае чего она станет ответом на твою последнюю молитву.
– А я и не знал, что она стреляет.
– Прежде не было нужды тебя просвещать. Сорок четвертый калибр дорог, так что не трать патроны попусту. Открой казенник и заряди ее. Поворот ручки на пол-оборота против часовой стрелки взводит боек и приводит в действие спусковой механизм. Я дам тебе шесть патронов. Надеюсь, они не угодят в тебя.
– Я буду осторожен.
– Ногу себе сдуру не прострели.
– Я буду держать ее незаряженной.
– Еще чего! Разумеется, ты будешь держать ее заряженной! На кой черт она тебе незаряженная? Ну вылитая маменька! Та тоже вечно какую-нибудь глупость сморозит.
Пол покачал головой.
– Спасибо.
– Тросточка наверняка стоит целое состояние. Я только одалживаю ее тебе. Дай слово, что будешь держать ее при себе. И что вернешь... лично.
Пол встал, и они обнялись.
– Я вернусь, дядя Аарон.
– С детьми? Привези их сюда, пока я не помер.
– Постараюсь.
Старик вытер рукавом повлажневшие глаза.
– Я когда-нибудь говорил тебе, как много ты для меня значил все эти годы?
– Нет, дядя Аарон, никогда.
Старик хлопнул племянника по плечу.
– И сейчас не собираюсь. Сбрей эти дурацкие усы – в них ты похож на конокрада.
Пол одним глотком допил кофе и встал. Трость он прислонил к стене.
– Я заберу ее на обратном пути.
– Как знаешь, – сказал Аарон, махнув рукой. – Все равно по-своему сделаешь.
Глава 6
Лаура Мастерсон стояла в дальнем конце бального зала, где когда-то, под хрустальной люстрой, вывезенной из Франции, кружились элегантные пары. В этой комнате безусые мальчишки в сером[2]2
Цвет униформы в армии южан во времена Гражданской войны в США.
[Закрыть] кланялись хихикающим девицам в пышных кринолинах, а струнные оркестры играли мелодичные вальсы. А тем временем страна разделилась на два лагеря, и оба готовились обмениваться пулями и пушечными ядрами. Потом эта комната была превращена в госпиталь, здесь лежали на матах жертвы желтой лихорадки, и за ними ухаживали приходской священник и женщины в белых льняных одеяниях. Лауру окружали призраки прошлого, но она смотрела сквозь них на свою работу.
Она стояла в нише дверного проема, прислонившись к косяку высокой двери, открытой в широкий коридор, называемый домашними галереей. С расстояния пятидесяти футов лицо на полотне казалось выписанным детально, как у Вермеера, но вблизи превращалось в крошечные брызги, короткие мазки и точки. Лицо на картине было то ли изуродовано, то ли не закончено. От правого глаза, будто выклеванного немилосердным стервятником, осталась зияющая дыра. Лаура пила кофе и задумчиво разглядывала созданный ею образ. В ее представлении это лицо, как и все ее образы, было прекрасно, но, по словам одного критика, «ее лица шокируют зрителя, отталкивают его и одновременно манят».
– Это никого манить не будет, – заметила Лаура, обращаясь к кофейной чашке. Нельзя сказать, чтобы картина Лауре нравилась, но так бывало со всеми ее работами. Будь это не так, она могла бы утратить талант, каков бы он ни был. Лаура не имела ни малейшего понятия, откуда вдруг у нее взялся этот дар (хотя сама она это так не называла). Лаура пришла к своему увлечению поздно, но оно поглотило ее, стало настоящей страстью. Прежде ей и не снилось, что такое возможно. Казалось, кисти по холсту движутся без всякого ее участия. Линии уверенно ложились на полотно, рука точно воплощала образы, рожденные ее сознанием. До того как Лаура открыла в себе эти образы, она была совсем другим человеком. Критики называли ее новой Анной Райе, и не столько потому, что они родились в одном городе, сколько из-за перспективности обеих.
Лаура вспомнила отзывы о последней своей выставке. За завтраком дочь настояла, чтобы ей позволили прочесть их вслух; «Эти картины привлекают, гипнотизируют, а потом надрывают душу, – писал Роджер Уолд в „Таймс-Пикеджун“. – ...Это образы ангелов... современных мучеников... зовущие к чему-то в силу самой своей природы... Классическая эротика... Такая живопись зачинает новое направление в искусстве». Некоторые люди любят искусство, которое бередит душу, а если произведение способно что-то зачать, тем лучше. Такие произведения стоят денег, и приток денег давал Лауре возможность жить в доме, выстроенном в 1840 году, рисовать в бальном зале, где некогда танцевал Джефферсон Дэвис, и при этом не трогать основной капитал.
Полотно, что стояло сейчас перед Лаурой, изображало Пола Мастерсона. Таким она его видела – раненым, смертельно испуганным, одиноким, раздавленным чувством вины. Пол занимал особое место в ее работе, потому что уход мужа наполнил Лауру болью, привел ее в замешательство, и она пыталась разрешить свой душевный конфликт на холсте. Даже если ее занимали другие сюжеты, стоило ей начать работу, как Пол помимо ее воли вторгался в картину. Так получилось и с этим полотном.
Линия подбородка, форма ушей, пронзительная синева единственного глаза, очертания рта, посадка и форма головы, хмурый излом бровей и призрак улыбки – все принадлежало Полу. На сознательном уровне, как считала Лаура, ей удалось справиться со своими чувствами к нему; на подсознательном же всякий раз, когда она о нем думала, в голове как будто опрокидывалось ведро с электрическими угрями.
Некоторые коллекционеры, купившие у Лауры ранние работы, потом избавлялись от них – то ли потому, что картины начинали раздражать владельцев, то ли из-за их несоответствия новому стилю оформления интерьера. К великой радости таких людей, спрос на картины отнюдь не падал, и перепродажа приносила солидную прибыль. Ценители, которым нравилось испытывать чувство тревоги, или те, кто хотел, чтобы их стены выглядели пооригинальнее, а коллекция росла в цене, расхватывали творения Лауры Мастерсон, как только те выставлялись на продажу. Лауре пришлось нанять агента, Лили Тенер, чтобы она курировала выстроившихся в очередь покупателей, составляла списки и договаривалась о цене. За четыре года цены на привилегию испытывать шок или очарование выросли с двух тысяч долларов за ранние полотна, законченные пять лет назад, до сорока. Теперь Лаура выставлялась в престижных галереях Нью-Йорка, Чикаго, Сан-Франциско, а через несколько месяцев намечалась выставка в Берлине. Ее работы просто созданы для немецкого рынка, утверждала Лили Тенер. «Эти колбасники (так Лили называла немцев) расхватают их и по сто тысяч за штуку».
Лаура вернулась к столу, опустила кисть в скипидар и загляделась на цветное облачко, расплывавшееся в банке. Когда кисть как следует пропиталась жидкостью, Лаура тщательно вытерла ее мягким полотном. Она снова и снова сжимала тряпкой щетинки, пока мокрые пятна не стали бесцветными. Потом промыла и вычистила остальные кисти, вымыла руки, бросила проскипидаренные тряпки в мусорный бачок с крышкой и взглянула на часы. Три часа утра.
Лаура бросила взгляд на стул в противоположном конце студии, где недавно сидел Рейд Дитрих, ее любовник, который любил читать здесь или просто следить за ней во время работы. Рейд был восприимчивым зрителем и хорошим критиком, его присутствие всегда действовало на Лауру благотворно. Сегодня он поднялся в спальню, не дождавшись, пока Лаура закончит. Иногда он так делал – ничего не говоря, просто исчезал из студии. Лаура была так поглощена работой, что не замечала его исчезновения. Вот и сейчас она не помнила, когда он ушел, хотя знала, что он чмокнул ее в щеку – он всегда целовал ее перед уходом. За работой Лаура часто теряла чувство времени. От нее ускользали часы, а то и целый день. В таких случаях она могла наобещать чего-нибудь детям и не помнить, что она вообще с ними говорила.
Лаура Мастерсон часто работала по ночам. Иногда она заканчивала только с восходом, когда золотистый свет утреннего солнца врывался в мастерскую через высокие окна. Лучи проходили сквозь граненое стекло, рисовали радугу на стенах, зажигали оранжевые сполохи на потолке. Но сколько бы Лаура ни работала, она всегда сама будила детей, кормила их, днем встречала из школы, обнимала и целовала на ночь. Желание находиться рядом с детьми всегда казалось Лауре важнее и сильнее желания писать. «Порисовать я могу и потом, когда они вырастут и заживут собственной жизнью». Ей не приходилось, как некоторым женщинам, выбирать между семьей и карьерой.
Дом стоял недалеко от собора Святого Карла в Садовом районе. Построили его в те времена, когда мастера собирали свои инструменты в холщовые котомки и скитались по стране, словно солдаты-наемники. Тогда дома украшали лепниной, яркой стенной росписью, декоративной кирпичной кладкой и фигурными кипарисовыми балками, скрепленными деревянными гвоздями. Полы стелили дубовые, прочные, как колода для рубки мяса. Люди, что строили этот дом, имели все основания говорить, что он простоит века – памятник красоте, изяществу и удобству.
Здание изуродовали и разгородили в 50-х годах нынешнего века. Наследники очередного владельца решили, что имущество должно приносить доход, и разделили дом на семь отдельных квартир. Когда Лаура купила его, он только что не разваливался на части.
Лаура никогда не писала ради денег. Она унаследовала крупную сумму от отца, высокооплачиваемого адвоката и члена правления банка Уитни. Часть этой суммы Лаура потратила на покупку и реставрацию дома, но ей понадобилось немало времени, чтобы обставить его. Современной в доме была только кухня, просторная и открытая. Мебель и обстановка остальной части дома была приобретена у антикваров.
Дом стоял на обнесенном оштукатуренной кирпичной стеной участке площадью немногим меньше двух акров. Растительность во дворе была предоставлена самой себе, и тропинки у границ участка переходили в густую чащу воинственных растений, вооруженных шипами и колючками острее жала. Лишь самые дикие представители фауны рискнули бы сунуться в эти непролазные дебри.
В доме было два этажа, причем первый находился на высоте четырех футов над землей. Широкие деревянные ступени вели к полукруглому портику с большими колоннами. Лаура устроила перед входом водоем, окруженный с трех сторон стеной живого бамбука, и полюбила сидеть там у воды, думать.
* * *
Пес по кличке Волк встряхнулся и побрел следом за Лаурой на второй этаж. Лаура, во сколько бы ни ложилась, всегда заглядывала перед сном к детям.
Ребу, который выбрал себе этот псевдоним в раннем детстве, решив, что Адам звучит, недостаточно мужественно, недавно исполнилось девять. Худенький мальчик с бледной кожей и рыжими, как у матери, волосами. Круглый год он спал в одном и том же красно-желтом спальном мешке. Лаура называла этот мешок коконом. В комнате Реба, как всегда, царил разгром. Разбросанные игрушки, хомячья клетка с единственным обитателем, птичья клетка с австралийским попугаем по имени Бисквит, комиксы, одежда покрывали коврик у кровати слоями, словно чешуя. Лаура мысленно взяла себе на заметку, что надо бы сподвигнуть сына на уборку в субботу. Она не возражала, когда он самовыражался, хозяйничая у себя в комнате, но считала, что какая-то дисциплина мальчику необходима. Собака вошла в комнату, посмотрела на спящую птицу, понюхала хомяка, который тут же юркнул в колесо, и свернулась калачиком у постели Реба. Волк останется здесь до утра, пока Лаура не спустится в кухню готовить завтрак.
Комната Эрин во многих отношениях была лагерем противника. Девочка унаследовала от отца тонкие черты лица, белокурые волосы и бескомпромиссность, которой славился Пол до трагедии в Майами. Круглая отличница, аккуратная и пунктуальная, Эрин вступила в тот возраст, когда дети считают себя вправе критиковать родителей. Она не проявляла терпимости в отношении матери и особенно младшего брата. Эрин считала творения матери эпатажем и безвкусицей и бурно протестовала всякий раз, когда Лаура вешала какую-нибудь из своих картин вне студии больше чем на два-три дня. Реб, напротив, любил работы матери и часто рисовал вместе с ней в студии. Для своих девяти лет он был чрезвычайно развитым ребенком и обладал замечательным чувством цвета и пропорции.
Лаура любила обоих детей одинаково, если такое возможно, но пятнадцатилетняя Эрин могла сама о себе позаботиться, что обычно и делала, поэтому вся невостребованная дочерью материнская любовь доставалась сыну. Эрин помнила отца человеком из плоти и крови. Реб знал Пола только по фотографиям из альбома да по открыткам в подарках к Рождеству и ко дню рождения. Реб мечтал о встрече с человеком на фотографии, о настоящей дружбе, которая когда-нибудь возникнет между ними. Он вырезал из журналов снимки гор, похожих на горы Монтаны, и наклеивал их в альбом для рисования, который хранил под кроватью. Ловить форель на стремнинах в прохладной тени синих гор представлялось ему верхом счастья. Лаура об этом знала и чувствовала себя совершенно беспомощной. Она не могла заменить детям отца. Пыталась, но у нее не получилось. Когда она думала о том, что Пол прячется от детей, ее трясло от негодования. В такие минуты Лаура была очень близка к тому, чтобы возненавидеть человека, которого когда-то любила сильнее всего на свете.
Спальня Лауры находилась непосредственно над бальным залом, только зал был вдвое длиннее. Она вошла к себе и подошла к кровати, где, свернувшись калачиком, спал в одежде Рейд Дитрих. Кровать представляла собой древнее сооружение на четырех столбиках с пологом из сетчатой ткани, закрывающей кровать с четырех сторон. Полупрозрачная материя создавала впечатление, будто Рейд – образ из сновидения. Лаура размышляла и колебалась несколько месяцев, прежде чем пригласила Рейда разделить с ней постель в доме, где жили дети. Никаких осложнений в семье это решение не вызвало. Они с Рейдом не выставляли напоказ свою близость. Приличий ради Рейд никогда не отправлялся спать при детях и всегда перебирался из постели Лауры в свою, в гостевой комнате, до того, как дети просыпались. Никого эти уловки не обманывали, но так Лаура чувствовала себя спокойнее, и дети никогда не заводили разговоров на рискованную тему. Казалось, они понимали, что одиночество – худшее из зол.
Дети привыкли к Рейду, и мужское влияние пошло им на пользу. Они никогда не предлагали ему переселиться к ним насовсем, но, с другой стороны, никогда не возражали против его присутствия.
Когда Рейд бывал в городе, он делил свое время между двумя домами – своим и Лауры – и яхтой, которую держал на озере. Он хранил у Лауры в гостевой комнате часть своей одежды, а в ванной – туалетные принадлежности.
Лаура несколько мгновений изучала лицо спящего, потом поцеловала Рейда в щеку. Он улыбнулся ей сквозь туман уходящего сна.
– Вы сбежали от меня, – сказала она с притворной строгостью в голосе. – Вы очень плохой мальчик, сэр.
– Я устал. Что ты намерена делать – отшлепать меня?
– А ты возражаешь?
– Сколько времени?
– Четвертый час.
– Я ушел вскоре после полуночи.
– Я подумала, может, ты разлюбил меня?
– Не глупи. Кто бы, кроме меня, терпел постоянное невнимание возлюбленной, которая потом заявляется в постель, благоухая, словно хвойный аэрозоль.
– Это скипидар. – Лаура наморщила лоб. – Бедный малыш, я не обращаю на тебя внимания? – Она расстегнула пуговицы его рубашки и провела рукой по гладкой груди, твердому животу. Потом Лаура расстегнула молнию на его брюках, и рука ее скользнула ниже. Она погладила пальцем член, тот шевельнулся и ожил.
– Ну вот, посмотри, что ты натворила, – сказал Рейд. – Теперь тебе придется его убаюкивать.
– Хорошая мысль, – промурлыкала она. – Я сейчас вернусь, только смою быстренько хвойный аэрозоль.
Лаура отошла к гардеробу, расстегнула джинсы и сбросила их на пол, потом сняла свитер и остановилась в дверях ванной комнаты, давая Рейду возможность полюбоваться на себя. Лауре было тридцать восемь. В густой шапке прямых светло-рыжих волос в последнее время тут и там появились серебряные нити, а в уголках васильковых глаз – тончайшая паутинка морщинок, но здоровый цвет классически пропорционального лица молодил ее. Несмотря на две беременности, загорелое тело Лауры вызывало у мужчин потаенную улыбку и зажигало в глазах похотливый огонек.
Лаура стянула трусики, скомкала их, швырнула в спальню и, смеясь, скрылась в ванной. Открыв душ, она встала под воду и ощутила, как гранитный пол холодит ступни, а горячие струи обжигают тело. Она стояла, пригнув голову, спиной к распылителю и упиралась руками в стену, когда дверь ванной отворилась и вошел Рейд. Он шагнул к ней под душ и обнял, заслоняя от струй.
– Этот стриптиз окончательно разбудил моего маленького дружка, – сообщил он, глядя вниз.
– И правда, проснулся, – засмеялась Лаура. – Только почему ты называешь его маленьким?
Лаура ничего не имела против этого вторжения или против внезапно усилившегося давления на свое бедро. Она повернулась, прижалась к Рейду всем телом, провела руками по его спине и остановилась на мускулистых ягодицах. Он пробежал языком по ее шее вниз, к груди, задержался там, покусывая сосок, потом прочертил линию через живот к пупку и ниже. Язык замер у складки на лобке, потом задвигался, описывая круги.
– О, Рейд, как хорошо! Мне это нравится, – сказала она игриво. Он провел языком дорожку к тому месту, где начиналась лощина. – Ах, а это я люблю больше всего!
Лаура стояла, закинув голову назад, и прислушивалась к своему телу, которое Рейд вел к зыбкой грани оргазма. Она обхватила его голову, потянула вверх, потом закинула правую ногу ему на бедро, открываясь, и рукой помогла ему проникнуть внутрь. Потом она сцепила обе ноги у него за спиной и, используя его как опору, повела к кульминации.
Позже, когда они лежали словно пара вложенных друг в друга ложек, Лаура изучала затылок любовника в тусклом свете, падающем из ванной. Она всегда спала с включенным в ванной ночником и приоткрытой дверью. Лаура утверждала, что так быстрее добежит до детей, если они вдруг позовут, но на самом деле просто боялась темноты. Она погладила Рейда по плечу и крепко его обняла. Ей всегда было покойно и надежно с ним рядом.
Лаура относилась к Рейду с большой нежностью – может быть, она даже любила его, – но с ним она никогда не теряла самоконтроль, как бывало с Полом. Она объясняла это тем, что стала старше, она уже не та школьница, которой была, когда встретила Пола. Но она никогда не открывалась Рейду до конца, никогда не делилась с ним самыми сокровенными мыслями. Хватит с нее откровенности.
«Встретила Пола... Нет, отыскала Пола». – Лаура мысленно повторила собственную фразу. Да, она нашла его и смаковала каждую минуту, которую они проводили вместе. Так было вначале. Их любовь была тогда совершенной. Потом они привыкли друг к другу, погрязли в самодовольстве, в рутине. Но она по-прежнему любила его, и каждое его прикосновение вызывало в ней потрясение. Сравнивая Пола с Рейдом, Лаура признавала, что Пол давал меньше, но их союз принес ей гораздо больше. Почему? У Рейда более красивая внешность – на ее вкус. Он любит то же, что любит она, у него замечательное тело, их тела словно созданы друг для друга. Пол же всегда был эгоцентриком; не посоветовавшись с ней, он принимал решения, которые влияли и на ее жизнь. Он был потрясающе щедрым любовником, но за пределами спальни становился меланхоличным и отстраненным; ему в отличие от нее не нужны были прикосновения, ласки. Работа поглощала его целиком, иногда он неделями не появлялся дома, звонил редко и нерегулярно. Но они любили друг друга, это несомненно. Даже после рождения детей Пол оставался пылким любовником, как в начале самого бурного романа. Но это было до ранения, а потом...
Рейду Дитриху было тридцать девять, но выглядел он на десять лет моложе. Они познакомились год назад на открытии выставки Лауры в галерее Артура Максвелла на Мэгэзин-стрит. Лаура вошла в зал, а он стоял перед одной из ее картин. Пятнадцать минут спустя он все еще стоял там и по-прежнему не сводил глаз с картины. Пока он изучал творение Лауры, она изучала его самого. Высокий – около шести футов, худощавый, но крепкий, светлые волосы зачесаны назад. Тонкие, но мужественные черты лица, чувственный рот. Больше всего Лауру поразили его глаза, похожие на детские стеклянные шарики с серыми разводами под поверхностью. Она никогда не видела глаз такого оттенка. Они загипнотизировали Лауру, она потерялась в их бездонной глубине с той самой минуты, как их увидела. Хотя поначалу ее интерес был чисто художническим.
– Боже, какой роскошный мужик! – воскликнула Лили Тенер. Она заметила его первая и обратила на него внимание Лауры.
В конце концов Лаура подошла поближе и встала у него за спиной. Рейд смотрел на «Святого Себастьяна».
У мученика на картине были темные локоны, ниспадающие на плечи, и бледный нимб вокруг головы. Через полупрозрачную кожу просвечивали темно-синие дорожки вен.
Кровь Себастьяна высасывали пять пиявок-стрел с побагровевшим оперением. Две овцы лизали кровь, капающую с древка стрелы. В темноте древесных крон сидели на ветках зловещие черные птицы и наблюдали за будущим святым, очевидно, дожидаясь своего часа. Несмотря на врезавшиеся в тело веревки, которыми его привязали к дереву, несмотря на раны и птиц, жаждущих выклевать ему глаза, Себастьян улыбался овце – любительнице полакомиться человечьей кровью. Первоначальный замысел Лауры изменился сам собой во время работы – движение руки, мазок кисти, и как-то неожиданно, вопреки воле живописца святой Себастьян вышел умиротворенным.
– Не знал, что овцы пьют кровь, – прокомментировал, увидев картину, Реб.
– Фу, мам, какая гадость! – скривилась Эрин. – Неужели ты думаешь, она кому-нибудь понравится?
Рейд же на выставке произнес, не поворачивая головы:
– Поразительно. Поистине уникальная интерпретация... хм... смерти святого Себастьяна. Какую меру страдания способен вынести человек, оставаясь в мире с самим собой... со своим Богом? Она затрагивает во мне какую-то струну, о существовании которой я и не подозревал. – Лаура подумала, что он говорит всерьез, но он неожиданно рассмеялся. – А кто стрелял в святого Себастьяна?
– Действительно, мне бы надо было знать, – сказала она. – Наверное, те, кто делал из людей мучеников.
– Я подумываю, не купить ли мне его, но...
– Но?
– Слишком дорого. Четырнадцать тысяч неизвестно за кого...
Лаура оглядела его с головы до пят. Цельнозолотые «Картье», костюм, сшитый по авторской модели, пара явно недешевых кожаных туфель.
– Наверняка за свои часы вы заплатили не меньше. А на что годны часы? Они способны лишь вторгаться в ваши мысли и гонять вас целыми днями, как сержант на плацу. «10.20 – о Боже, мне пора!» Восемнадцатикаратный[3]3
Здесь: мера содержания золота в сплавах. 18 карат соответствуют 750-й пробе (75%).
[Закрыть] надсмотрщик. Симпатичный надсмотрщик, но его тиканье – это форменное щелканье бича.
Рейд повернулся и смерил Лауру долгим изучающим взглядом. В прозрачных глазах вспыхнул огонек интереса.
– Может быть, художник согласится поменяться со мной? Картину на часы. – Он улыбнулся. – Тогда я убил бы двух зайцев одним Картье – получил бы картину и избавился от тирана на запястье.
Лаура оценивающе на него посмотрела:
– Вы готовы обменять часы на это полотно?
– Немедленно. – Он улыбнулся. – Вы здесь работаете?
– Нет, но я знакома с владельцем галереи. – Лаура огляделась и перехватила взгляд Артура Максвелла. Он подошел к ним. – Артур, это...
– Рейд Дитрих, – подсказал Артур, хищно улыбаясь. – Мистер Дитрих недавно переехал в Новый Орлеан и стал клиентом галереи.
– Он желает поменять свои часы на эту картину, – объяснила Лаура.
– Что ж, замечательно. Остается только утрясти вопрос с моими комиссионными. – Он привстал на цыпочках и скрестил руки на груди. – Может, заплатите ремешком?
Рейд покраснел.
– Так это ваша картина? О, как неловко получилось! Вы – Лаура Мастерсон?
– И не имею никакого отношения к Бэт Мастерсон.
– Дитрих. И тоже не имею никакого отношения к Марлен.
Они рассмеялись.
– Я сейчас же заплачу за картину. Ваш муж, наверное, ужасно вами гордится. Действительно потрясающая работа.
– Я разведена.
– А обручальное кольцо?
– Охраняет меня от приставал. И потом, эти косые взгляды в бакалее... У меня двое детей.
– А я вдовец. – Он посмотрел ей в глаза долгим взглядом, потом коснулся ее руки. – Пожалуйста, извините меня, но я должен уладить свои дела с Артуром, пока кто-нибудь не увел Себастьяна у меня из-под носа.
– Я всегда могу написать вам другого, – сказала Лаура, удивляясь сама себе. Она осознала, что флиртует с Рейдом, и неожиданно смутилась. Он внимательно и бесконечно долго смотрел на нее, потом улыбнулся. Насколько Лаура могла судить, улыбка у него была чудесной.
– Кто был моделью?
– Мой бывший муж.
– Вам приходилось думать о вмешательстве подсознания в творчество?
– Можете быть уверены.
* * *
Рейд выписал Артуру чек на четырнадцать тысяч долларов, и на табличке с названием появилась красная точка, означающая, что картина продана. Рейд потом часто хвастался, что цена картины со времени покупки выросла втрое, а цена часов осталась прежней.
В тот вечер Лауре не удалось больше с ним поговорить, потому что пришлось отвечать на вопросы других посетителей, а Рейд, подписав чек, исчез почти сразу.
Позже на той же неделе Лаура расспросила о нем Артура. Тот рассказал, что Рейд недавно переехал из Нью-Йорка, что он один из партнеров компании по продаже сложного и дорогого диагностического оборудования. Интересуется художниками Луизианы, сам происходит из старинной семьи из Атланты, держит большую яхту на озере Понтчартрейн и живет во Французском квартале. Но самое главное – он не гомосексуалист, хотя сам Артур считал это обстоятельство чрезвычайно досадным.
Через неделю Артур по настоянию Рейда позвонил Лауре и спросил, не может ли она поехать с ним к мистеру Дитриху домой и проследить за водружением картины на новом месте.
Огромный – четыре тысячи квадратных футов – трехэтажный особняк на Дюмейн был набит антиквариатом и произведениями старых мастеров. При доме имелся участок, обнесенный высокой кирпичной стеной, и квартиры для слуг, которые Рейд использовал под хранилище. Рабочие галереи уже укрепили «Святого Себастьяна» над резным мраморным камином в гостиной.
Рейд в спортивной одежде встретил Лауру и Артура у двери.
В гостиной висел написанный темперой портрет женщины в стиле Эндрю Уайта. Портрет сразу привлек внимание Лауры и долго потом стоял перед глазами. Артур сообщил, что это покойная жена Дитриха.
– Автомобильная катастрофа, – шепнул он, проходя мимо картины. И добавил, выразительно подняв светлые брови: – Ей отрезало голову.
Рейд настаивал, чтобы они остались перекусить, но Артур отговорился делами. Лауре тоже нужно было уходить, но когда она взглянула на часы, собираясь принести извинения, Рейд посмотрел ей в глаза и спросил:
– Ваш надсмотрщик?
Расположившись на восточном ковре, они ели сандвичи с копченой говядиной и запивали их сухим красным вином. Сразу же установились дружеские отношения, и, словно в довершение к чудесному обеду, разверзлись тучи и на внутренний двор обрушился ливень. Рейд, чтобы прогнать из комнаты промозглую сырость, затопил камин, над которым висело творение Лауры.
Последние полгода они почти не расставались. Каждый полагал, что им стоит проводить ночи в обществе друг друга, когда это возможно. Образ мыслей Рейда, если не совсем, то по крайней мере очень близко, совпадал с ее собственным. Кроме того, Рейд почти всегда готов был откликнуться на ее зов. «И любовь наша крепнет...»
Рейд никогда не рассказывал подробно о гибели жены, а Лаура не расспрашивала. Он умел с несравненным изяществом менять тему всякий раз, когда разговор подбирался слишком близко к предмету, который Рейд не хотел обсуждать.
Лаура жила без Пола вот уже пять лет, но ей до сих пор иногда хотелось, чтобы он оказался рядом. Лаура очень привязалась к Рейду, но душа ее рвалась к Полу, несмотря на все старания забыть его и освободиться. Лаура знала, что никогда больше не выйдет замуж по любви. Хорошо, если найдется достаточно других причин, чтобы она вообще решилась выйти замуж. Но она не будет торопиться. Ее жизнь и так достаточно полна.




