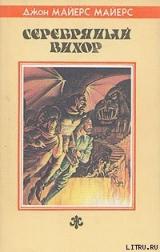
Текст книги "Серебряный Вихор"
Автор книги: Джон Майерс
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 26 страниц)
26. Вход в преисподнюю
Поверхность, по которой мы скользили вниз, была покатой, как нора сурка. Задержать падение я не мог, и потому артачиться не имело смысла. Фаустофель цепко держал меня за шиворот, и мы продолжали лететь в пропасть очертя голову. Потом неожиданно, где-то в самых недрах земли, склон выровнялся, и Фаустофель вознамерился сделать там привал.
Если я и пытался бежать от воображаемых опасностей, то теперь, оказавшись беспомощным перед реальной действительностью, всецело проникся духом фатализма и хладнокровно сбросил с плеча руку моего компаньона.
– Убери клешню! – презрительно процедил я, стараясь вызывающим тоном замаскировать выказанное малодушие. – Я и сам по себе справлюсь, без твоего участия. Хочешь показать интерьер – нечего суетиться, будто ты владелец недвижимости, которую собираешься всучить покупателю. Идем! Веди вперед – хоть к самому дьяволу, лишь бы развязаться поскорее!
– Именно туда мы и направляемся, – отозвался Фаустофель и что есть мочи гаркнул:
– Отпирайте двери и придержите Гарма! Только когда двери распахнулись, я догадался об их существовании. В проеме было разлито сумеречное свечение. Это было первое, что я увидел, однако ошеломило меня не это. Присмотревшись, я разглядел возвышавшуюся передо мной гигантскую гору, покрытую, как мне почудилось, жухлой травой. Однако бока этой горы ходили ходуном, то вздымаясь, то опускаясь, – как будто дышали. И точно: гора на самом деле оказалась чудовищно громадной собакой – вскоре мы приблизились к ее хвосту. Так вот какого песика, согласно надписи, следовало остерегаться: этот величиной был вдвое больше кита.
Я глянул искоса на Фаустофеля: он смотрел на меня с любопытством.
– Не бойся. Гарма спускают с цепи только на тех, кто собирается улизнуть. Его время еще не пришло.
Мы старались держаться от чудища подальше, но я был начеку, опасаясь внезапного прыжка.
– И что же, его натравят на здешних обитателей и выгонят их вон?
– Совсем нет! – жестко отрезал Фаустофель. – Он выскочит на свободу сам – ив неистовом бешенстве перегрызет всем глотки. Пощады не дождется никто.
– Господи! – вырвалось у меня.
– Незачем будет тогда взывать к вашему Богу, – презрительно бросил Фаустофель. – Кем бы Он ни был, спасения не будет и Ему. Гарм со своей сворой сожрет на небе звезды – все до единой, а Млечный Путь створожится от его бешеной слюны.
– Но неужели нельзя посадить пса на цепь покрепче? – О дружках Гарма я даже не рискнул заикнуться: одного вида этой псины было достаточно. – Кто его освободит и откуда вообще взялась такая собачечка?
– Кто? – язвительно фыркнул Фаустофель. Лицо его сделалось мрачнее его собственного пророчества. – А злобная порочность разве не способна порождать орудия собственного мщения, и всегда ли они пребудут в бездействии? Цепи для разнузданности выкованы надменностью, однако изо дня в день их разъедает ядовитый гной, сочащийся из разлагающегося мироздания, и когда-нибудь эти оковы порвутся, непременно порвутся!
Мы как раз проходили под одной из громадных цепей, удерживавших Гарма: она изрядно проржавела, однако запас прочности, к счастью, был еще велик.
Я все же ускорил шаг.
– А человечеству тоже будет каюк? – прошептал я.
– Ага, тебе это не очень-то по вкусу, хотя собственная жизнь тебе давно опротивела, так? – Фаустофель сардонически расхохотался. – Ты что же, воображаешь, что если небесные престолы рухнут и богов перемелют псиные челюсти, то уцелеют жалкие гомункулы, которых эти самые боги дрессируют словно блох и словно блох щелкают на ногте? Куда уж вам!
Вероятно, он говорил правду. Но мысль о полной гибели человечества показалась мне ужаснее самой черной дыры. Я только на секунду представил себе небытие всех моих собратьев – и тотчас же, дабы не сойти с ума, вышвырнул из головы эту жуткую картину и приложил руку к запылавшему лбу.
– Нет! Такого не может быть! – запротестовал я. – Кто-то да должен спастись.
– Наслушался басен? – Фаустофель посуровел и, перестав меня подначивать, озабоченно наморщил лоб. После напряженной паузы он резко проговорил: – Болтают, будто парочка, которую даже собаки не тронут, останется в живых и дождется нового промысла свыше, но я…
Речь его прервало оглушительное рычание, по сравнению с которым гром казался младенческим писком. Оглянувшись, я понял, что Гарм только что нас увидел. Оскалив зубы величиной с телеграфный столб, он с хрипом метался из стороны в сторону, грохоча цепями, и свирепо рвался вперед.
– Тихо, не дергайся! – успокоил меня Фаустофель. – Псине вздумалось размяться – и только. Пока ты в аду, бояться тебе нечего.
Утешение, мягко говоря, было слабым, но в этот момент Гарм гавкнул что есть мочи – и вырвавшееся у него из пасти горячее дыхание уложило меня на месте. Но ненадолго. Едва опомнившись, я сиганул в воздух резвее кролика, а потом со всех ног бросился к расселине ближайшей скалы, где и затаился, будто мышь в щелке.
– Стой, болван, стой! Гарм тебя не цапнет. Стой, говорю!
Несмотря на развитую мной спринтерскую скорость, Фаустофель настиг меня в два прыжка. Он вновь стряхнул с себя мрачность и ехидно ухмылялся при виде выказанной мной трусливости.
– Вырвись он на свободу, ты бы никуда от него не делся – как жучок, который от страха притворяется мертвым. Давни каблуком – и одно мокрое место останется. Хорошо хоть, что стрекача ты дал в нужную сторону. Наш путь лежит через этот проход, но должен предупредить серьезно: вздумаешь опять драпать как курица с отрубленной головой – пеняй на себя.
– А ты больно уж умный, как я погляжу! – огрызнулся я. – Впрочем, что с тобой пререкаться? Сам знаю не хуже твоего: мудрость – это готовность ко всему, но страх гибели лишает разума, так что придется тебе это учесть.
– Учтем, учтем – дело привычное, – пробормотал Фаустофель, ускоряя шаг.
Не совсем уяснив смысл сказанных им слов, я промолчал. Проход оканчивался спиралевидной лестницей. Вниз вели вырубленные в скале ступени, истертые множеством подошв за сотни, а быть может, и за тысячи лет. Фаустофель уверенно шагнул вниз, и я, понимая, что обратного пути нет, безропотно последовал за ним.
Ступени были широкими и пологими. Фаустофель спускался довольно проворно, а я не отставал ни на шаг, стараясь не думать, с чем придется столкнуться на очередном витке. Охваченный невеселыми предчувствиями, я мало обращал внимания на величину пройденного пути, но, должно быть, позади остались тысячи ступеней, прежде чем мы, по знаку Фаустофеля, задержались на небольшой площадке.
– Здесь имеется окошечко, через которое виден подлунный мир, – заметил Фаустофель таким небрежным тоном, словно демонстрировал туристу вид на озеро Мичиган. – Можешь полюбопытствовать.
С этими словами он уступил мне место у пробитой в толще скалы амбразуры диаметром в три-четыре фута. Я посмотрел в нее, но не увидел решительно ничего. Потом, вцепившись покрепче руками в подоконник, высунулся наружу.
Мы находились под землей, но ожидаемой тьмы вокруг не было: не было ни тумана, ни облаков – ничего, что могло бы препятствовать взору. Воздух, казалось, тоже отсутствовал – или же был прозрачнее дистиллированной воды. Я посмотрел вверх, прямо перед собой, по сторонам – направо и налево, посмотрел вниз. Нигде ничего – полная, совершенная пустота… Глаза тщетно искали опоры, на которой могли бы остановиться; я вдруг почувствовал, что они готовы вырваться из орбит – и само тело погружается в зыбучее, невидимое, бесплотное пространство. Задрожав, я испуганно отпрянул от амбразуры.
– Там же ничего нет! – вскричал я с упреком, словно Фаустофель был тому виной. Пустота вокруг не слишком меня удивила, но бездонный вакуум внизу потряс до глубины души. – Из окна самолета что-нибудь да увидишь – тучку или радугу, а тут – хоть шаром покати… Упасть некуда.
– Да, падение здесь будет вечным и бесконечным, – подтвердил Фаустофель. – Это и есть та самая, известная тебе Бездна.
Ни о чем подобном раньше я и не подозревал, но немного ободрился и с наигранной беспечностью переспросил:
– Бездна? Та самая?
– Та самая, – кивнул Фаустофель, явно довольный произведенным на меня впечатлением. – Ты ей сродни, поэтому советую познакомиться поближе. Бездна содержит все сущее: она порождает весь материальный мир.
– Ну, если ты хочешь сказать, что все содержится в воздухе, я, пожалуй, не прочь с тобой согласиться. В Чикаго, если ветер подует со стороны боен, то чего только не нанюхаешься…
Фаустофель шутки моей не поддержал.
– Бездна – это вовсе не воздух, хотя зачатки воздуха носятся и в ней. Так, по-твоему, там пусто, ничего нет?
Пустота, или Бездна, как Фаустофель ее называл, поражала ужасающей бесцветностью.
– Конечно, пусто – что же там может быть? – с вызовом бросил я. – Ни соринки, ни пылинки, ни малюсенькой блестки.
– Таких громадных предметов там, разумеется, не сыщешь, – задумчиво проговорил Фаустофель, облокотившись на подоконник в позе созерцающего живописный пейзаж. – Тем не менее в Бездне находятся во взвешенном состоянии микроскопически малые частицы всего, что существует на белом свете. Я употребил термин «взвешенное состояние», однако действительности он не соответствует. Первичные зачатки материи проносятся сквозь Бездну стремительнее, нежели способно нарисовать себе воображение.
Поколебавшись, я рискнул спросить о том, с чем был знаком хотя бы понаслышке.
– Так, значит, это атомы?
Он оборотился ко мне с саркастическим видом.
– Я, в отличие от ваших ученых, называю их проще – первичными зачатками, но коли ты с ними на короткой ноге – попробуй употреби свое влияние, сделай их видимыми.
– Но ведь это ты веришь, что они там есть, – не я!
– Протяни руку – увидишь сам.
Я больше не решался выглядывать из амбразуры, но Фаустофель силком ухватил мою руку и высунул ее в отверстие ладонью вверх.
– Следи внимательно! – приказал он мне. На первых порах я ничего не замечал. Потом ощутил, как на ладонь падают словно бы мельчайшие бусинки росы или дождя. Вскоре можно было уже различить две крошечные капли влаги – почти столь же бесцветные, как сама Бездна.
– Наталкиваясь в полете на преграду, первичные зачатки сцепляются вместе, будто мартышки, – пояснил Фаустофель. – И вследствие этого становятся видимыми. Пока еще неясно, что именно ты выудил, однако результат всецело зависит от самого первого, исходного элемента. Сливаться в единое целое могут только родственные частицы, принадлежащие одной разновидности.
Невольно заинтригованный, я оперся локтем на подоконник и неотрывно стал следить за тем, что происходит у меня на ладони. Количество частиц стремительно прибывало, однако в покое они не оставались ни на секунду – мелькали и мельтешили, будто рой комаров над стоячей водой. Капельки плясали, то взлетая, то опускаясь, а когда сталкивались между собой – либо сливались вместе, либо отпрыгивали друг от друга. Иные с силой взметывались ввысь, выбрасываемые из общей массы, и, оказавшись за пределами моей ладони, исчезали бесследно.
Между тем некоторые капельки постепенно увеличивались в размере. Вскоре одна из них выросла настолько, что движение ее замедлилось; она почти что застыла на моей ладони, и характер мелькания других мелких частиц изменился. Теперь это скорее походило не на воинственную пляску комаров, а на роение пчел. Процесс удаления чужеродных частиц продолжался, однако остающиеся капельки бурно вращались наподобие веретена вокруг центрального ядрышка, которое сделалось средоточием новообразованного объекта на моей руке.
– Поживешь, так чего только не насмотришься! – проговорил я нарочито небрежно, стараясь скрыть охватившее меня благоговейное волнение и пристально разглядывая крохотульку, которая теперь покоилась у меня на ладони совершенно недвижно. – Кто бы мог подумать, что из этих крупинок получится всего-навсего комочек глины?
– Не очень-то советую задирать нос, – остерег меня Фаустофель. – Семена, породившие твой собственный состав, когда-то тоже пребывали в этой безличностной утробе. Да-да, и зародыши твоего Бога, твоих богов и кого угодно.
– Возможно, спорить не стану, – согласился я. – Но ты забыл упомянуть одну малость.
– Какую же?
Вопрос его прозвучал вызывающе – и с тем большим удовлетворением я нанес ему, как мне казалось, решающий удар.
– Жизнь! – торжественно воскликнул я, отшвырнув катышек глины подальше от себя и с триумфом воздев руку. – Жизнь не может зародиться сама по себе. Формулы жизни не сыскать ни в одном учебнике химии.
– Ты штудировал совсем не тот учебник. Я тоже отдал дань псевдонаучным заблуждениям.
По лицу Фаустофеля пробежала тень от явно неприятного ему воспоминания, но он быстро взял себя в руки.
– Погоди секундочку, – отрывисто бросил он мне, усевшись на подоконник в немыслимой для меня раскованной позе. – Проверим, есть ли еще порох в пороховницах.
Невероятно длинными пальцами левой руки он зачерпнул горсть частиц из Бездны, рассмотрел их на ладони и объявил:
– Парочка-другая вполне сгодится. Особенно примечательного, правда, нет, но кое-что сойдет за милую душу.
На его ладони произошел точно такой же процесс творческого кипения. Результат оказался ошеломляющим. Предъявленная мне для обозрения микроскопическая крупица несомненно обладала всеми признаками жизни.
– Что эта вот личинка, что ты сам – разницы ни малейшей! – изрек Фаустофель. – Можешь считать Бездну своей матушкой.
– Но ведь речь идет о животном! – запротестовал я. – Нечего и сравнивать: одно дело – какая-то букашка, а человек – совсем другое.
– Да неужто? Я-то думал услышать, что человек, в отличие от всех прочих существ, способных к жизнедеятельности, наделен душой, и душа вложена в него божеством, словно клинок в ножны: захочет – вытащит обратно.
– По правде говоря, – смущенно пробормотал я, – мне самому в наличие души не очень верится.
– И все же ты склонен полагать, будто в тебе помещено нечто такое, без чего вселенной не обойтись. Плоть твоя бренна – на этот счет у тебя сомнений нет, однако внутренний голос тебе подсказывает, что твое «я», малая искорка твоей собственной жизни замаринуется навечно той самой заботливой силой, которая ее и создала. – Фаустофель ткнул локтем в сторону Бездны. – Вот твой творец. Ищи в этом вакууме любовь и покровительство: в конце концов именно туда ты и возвратишься.
Я взглянул через плечо на безрадостные ступени, по которым спустился сюда, распростившись с прошлым; потом посмотрел на еще более безотрадное будущее, меня ожидавшее. В натуре всякого человека, даже не утруждающего себя размышлениями и не испытывающего потребности в религии, заложена надежда на то, что его не постигнет забвение и он избежит полного небытия. Теперь надежда эта для меня рухнула окончательно, однако особого потрясения не вызвала. Чувства мои можно было сравнить только с чувствами голого и нищего страдальца, лишенного всякого достояния, когда он вдруг обнаруживает, что у него отнимают и последнюю кроху.
– И ничего другого нет? – тихо спросил я.
– Ничего! – Держа личинку на ладони, Фаустофель пошевелил ее указательным пальцем левой руки. – Если тебе вздумается притязать на отождествление собственной жизни с духовным началом – обменяйся рукопожатием с этим вот твоим духовным сородичем: ведь вы оба запущены в бессмысленное движение одним и тем же начальным импульсом.
Мне едва хватило сил только на то, чтобы спросить почти безучастно:
– Зачем мне все это нужно знать?
– Как зачем! Стоит только тебе уяснить, что человек вовсе не любимчик доброго, хлопотливого божества, и ты сразу поймешь смехотворную абсурдность любых моральных претензий. Вы носитесь с ними словно дурни с писаной торбой, под непосильным бременем земных тягот пытаетесь выступать эдаким кандибобером! И даже те из вас, кто настроен по отношению к небесам наиболее скептически, как будто пытаясь возместить отсутствие веры, гораздо более рьяно, чем прочие, настаивают на непреложных нравственных законах, которым человечество якобы должно повиноваться; они всерьез орудуют словечками наподобие «судьба», «предопределение», «предназначение» и так далее.
Одним щелчком он сбросил личинку с ладони в пустоту. Представив себе ее нескончаемое падение, я невольно зажмурился. Фаустофель с довольным видом ухмыльнулся.
– Вот какова ваша судьба; вот что вам предопределено и предназначено, а ответ за вас держит исключительно эта самая Бездна: она вас сотворила из бесчувственных частиц, вновь разложит на мельчайшие мертвые пылинки и перекомпонует их с полнейшим равнодушием так, как ей заблагорассудится.
Опровергнуть эту теорию я не мог, но сквозившее в его речах самодовольство, по контрасту с моим отчаянием, меня взбесило:
– И ты меня затащил сюда ради этого шоу?
– Нет, это мы развлеклись так, попутно. Тебе необходимо вбить в сознание ту истину, что при сотворении рода людского душа никоим боком не участвовала. Только теперь ты вполне сумеешь оценить всю иронию ситуации, в которой, на свою беду, оказались те, кто поплатился главным образом за убеждение в собственной одушевленности.
Внезапно напустив на себя суровость, как будто причиной нашей задержки был не он сам, а я, Фаустофель рывком дернул меня за руку.
– Вперед! Пора свести знакомство с населением Преисподней.
Бесчисленные ступени, по которым мы спускались все ниже и ниже, напоминали ход в подземный застенок. Твердыня казалась несокрушимо прочной, как и подобает настоящей тюрьме. Однако ведущая вниз лестница неожиданно обрывалась на самом краю пропасти. И пропасть эта больше всего смахивала на внутренность гигантского полого цилиндра.
Вообразите состояние того, кто должен пробираться в жерло действующего вулкана, вплотную прижимаясь к каменной стене и едва переставляя ноги по вырубленной в камне узенькой – двоим рядом не поместиться – дорожке. Впереди нас все тонуло в густом дыму. Снизу доносился невнятный шум, в котором изредка смутно различались не то стоны, не то вскрики.
На грани смертельной опасности я, однако, не утратил контроля над собой. Преисподняя внушала мне меньший ужас, нежели Бездна, хотя бы потому, что обладала пространственными границами. Осмотревшись, я смело встретился взглядом с Фаустофелем. Он взирал на меня с большим любопытством.
– И много людей тут проживает? – хладнокровно осведомился я, не желая давать пищи его злорадству.
– Порядочно.
– Не хочу плохо о них отзываться, однако здешние места им вроде бы не очень-то по вкусу.
Фаустофель озабоченно нахмурился, словно его неотступно глодала какая-то невеселая мысль.
– Да, Серебряный Вихор, ты прав: их обуревает недовольство, но вовсе не теперешними жилищными условиями. Причисли их к лику святых, окружи райским комфортом и целой толпой обезумевших от любви к ним небесных красавиц, если они мужчины; а если женщины, сделай их хоть гуриями, хоть валькириями, все равно они будут терзаться и останутся несчастными. – Он скривил губы в сардонической усмешке. – Как ты думаешь, почему?
Я хотел было отделаться незначащей репликой, но вместо того у меня вырвалось:
– Не знаю.
– Они даже понятия не имеют ни о том, где были раньше, ни о том, где находятся теперь. Спроси любого из обитателей переполненных камер – и он поклянется, что сидит в одиночке. Ну-ка, что ты на это скажешь?
Сказать мне было решительно нечего.
– Да потому, что они загнаны в самый тупик существования. В этом тупике оказываются те, кто способен думать только о себе – и ни о чем другом. Пошли вниз!
Почти что вжимаясь в стену, я кое-как продвигался вслед за Фаустофелем. В нос мне шибануло острым запахом горящей серы, но вскоре я к нему принюхался и каким-то чудом сумел не раскашляться. Глаза мои тоже на удивление не слезились, хотя плотность дыма не позволяла видеть что-либо дальше десяти шагов. Только очутившись на обширной площадке, вырубленной в скале, я, по знаку моего проводника, замер на месте и принялся озираться по сторонам.
Здесь дыма было поменьше, и я мог непосредственно увидеть то, что происходило, надо полагать, на всех этажах гигантской воронки. Зрелище ужаснуло меня настолько, что я бы ударился бежать сломя голову куда попало, если бы Фаустофель изо всех сил не вцепился мне в рукав. Пришлось плестись за ним.
Вокруг нас там и сям были разбросаны каменные блоки. На каждом сидел грешник – мужчина или женщина, обхватив голову руками, тупо уставившись в пол и бормоча себе под нос что-то невнятное. Время от времени грешников подвергали пытке. Экзекуцию осуществляла целая орда чертей – поросших рыжей шерстью, рогатых, с хвостами. Истязатель, приблизившись к страдальцу сзади, коловоротом просверливал ему макушку. Жертва, онемев, застывала на месте с воздетыми руками, без малейшего намека на сопротивление. Заплечных дел мастер вливал в проделанное отверстие какой-то раствор, производивший действие, аналогичное действию нитроглицерина на дверцу запертого сейфа. Верхушка черепа моментально распадалась на четыре части, обнажая раскаленный докрасна, пульсирующий мозг. Издав дикий вопль, несчастный взахлеб, будто в горячечном бреду, нес бессвязные признания и каялся как на исповеди. С последним его словом раскроенный череп захлопывался, и швы тотчас же срастались, а сам бедняга, понурившись, вновь начинал шептать что-то себе под нос.
Я не в силах был скрыть своего потрясения, а это, в свою очередь, доставляло, как обычно, Фаустофелю немалое удовольствие.
– Это вот насест для птичек, которые совершили проступок, бессмысленный с точки зрения их жизни в целом, но благодаря ему и остаток их дней тоже лишился всякого смысла. – Фаустофель хмыкнул. – Выхватим кого-нибудь наугад и послушаем, что он нам споет.
Столь безжалостное предложение вызвало у меня взрыв негодования.
– Нет! – выкрикнул я. – Нет, ни за что, черт бы тебя побрал!
Фаустофель, ничуть не оскорбившись, расхохотался мне в лицо.
– Послушай, ты, человечишка: меня уже побрали, причем по самому высшему разряду, так что советую тебе выбирать выражения.
Сделав мне этот выговор, он огляделся по сторонам и ткнул пальцем в изможденного юношу в двух шагах от нас.
– Пожалуй, вон тот сгодится как нельзя лучше. Я поневоле вынужден был подойти поближе, а Фаустофель схватил юношу за длинные прямые волосы.
– Кто ты таков и почему угодил сюда? Голова юноши беспомощно откинулась назад, и затуманенный взгляд мало-помалу прояснился.
– Ты знаешь обо мне все. Мы встречаемся уже не в первый раз.
– Я что, подрядился вас запоминать? – возмутился Фаустофель. – Штаны от юбки я еще отличу, а в остальном вы все для меня одинаковые, как вши. – Он крепко встряхнул юношу. – Отвечай: почему ты здесь?
Юноша запротестовал:
– Но вы обязательно должны меня помнить. Я известен каждому – а если нет, то стану известен. Нет злодея чудовищнее, чем я.
– Злодей не злодей, а вот хвастун ты первоклассный, – заявил Фаустофель. – На свете не так уж много тех, кто сознательно закоренел в злодействе. А у тебя глаза как у раненой лани: на ретивого душегубца ты, скажем прямо, похож не очень.
Он отпустил юношу, голова которого бессильно поникла на грудь.
– Секундочку терпения, – бросил мне Фаустофель. – Сейчас подзовем ассистентов.
Под ассистентами он явно имел в виду компанию нечистых, поглощенных беседой. Точно так же, сбившись в тесную кучку, увлеченно треплются между собой продавцы универмага, которым и дела нет до тщетно взывающих к ним посетителей.
– Кому поручена опека над этим молодым человеком? – обратился к ним Фаустофель.
Ни один из чертей даже не обернулся в нашу сторону.
– Кто дежурный, я спрашиваю! Я спрашиваю – я, Фаустофель! – рявкнул вдруг мой вожатый что было мочи. Эхо от его оглушительного возгласа «Тофель… Тофель» прокатилось по просторной камере, заглушив на минуту стоны и бормотание ее обитателей. Не успел я и глазом моргнуть, как бесы всей оравой ринулись к Фаустофелю и вытянулись перед ним в струнку, почернев от страха и дрожа мохнатыми телами от рогов до копыт.
– Вот так-то лучше, – примирительно сказал Фаустофель, для острастки продержав их минуты две-три в состоянии полного шока. – А ну-ка, обработайте этого малого, да поживее!
Бесы, отталкивая друг друга, бросились со всех ног исполнять поручение, и после небольшой потасовки самый дюжий из них приступил к описанной выше операции. Сверло со свистом вонзилось в черепную кость, зашипело политое из склянки зелье, череп с жутким треском разломился по швам… Юноша, болезненно вскрикнув, вскочил на ноги и торопливо заговорил:
– Меня зовут Родя Раскольников, я широко образован, изучал философию, я – прямой наследник мудрости, накопленной человечеством за века. Эта мудрость должна была быть поставлена на службу человечеству, однако меня она привела к убийству и ограблению старухи.
Фаустофель с трудом подавил зевок.
– Да-да, теперь мне что-то вспоминается в этом духе… Старушонка была прескверная, хуже некуда, настоящая грымза, сквалыга немилосердная. Так ведь, кажется, если не ошибаюсь?
– Ну вот, вы сами все знаете. – Голос у Раскольникова упал. – Я в этом не сомневался. Но вам тогда должно быть известно, что попутно я убил и ее сестру, ничуть на нее не похожую. Бедное, беззащитное существо – она даже и не пыталась обороняться… Я уложил ее на месте как свидетельницу моего преступления.
– Поступок как нельзя более благоразумный, – заметил Фаустофель, подмигнув мне с заговорщицким видом. – Желаете о чем-нибудь его спросить?
Я не мог противиться соблазну. Болезненный интерес к подробностям преступления питают все.
– Много ли денег вы присвоили?
– Не знаю, – услышал я в ответ. – Кошелек я сунул в карман, но так и не решился в него заглянуть.
– Вот это да! – вскричал Фаустофель. – Укокошил, чтобы обобрать, и даже не потрудился пересчитать добычу. Вранье!
Я тоже, признаться, был разочарован таким бессмысленным результатом предпринятой налетчиком затеи, однако Раскольникова наше недоумение нимало не озаботило.
– Мне были нужны не просто деньги, как вы не понимаете? Я хотел доказать сам себе, что способен переломить судьбу, изменить свою участь.
Насмешливость с Фаустофеля как рукой сняло.
– Этого ты как раз и добился, – жестко отрезал он.
– Совсем нет, – уныло проговорил Раскольников. – Переменить жизнь мне не удалось: в тот самый момент она остановилась – и с тех пор время течет мимо меня.
Со стоном он опустился на каменный куб. Кости черепа шумно захлопнулись и вмиг срослись. Раскольников вперил взгляд в пол и принялся вполголоса рассуждать о чем-то сам с собой.
Мы покинули помещение и отправились по гибельной тропке к нижним этажам Ада.
– Что ты скажешь об этом удальце? – рассмеялся Фаустофель. – Шпокнул старую ведьму, а потом – уже ex post facto [1]1
После свершившегося факта (лат. ).
[Закрыть] – измыслил скрупулы, не позволяющие ему, видите ли, воспользоваться ее деньжатами. Элементарное чувство долга перед остывшим трупом просто обязывало расстаться с наличностью, не правда ли? Комедия – и только.
Я тут комедии никакой не усматривал и потому возразил:
– Осознание многих поступков нередко приходит позже.
– Еще бы! – язвительно фыркнул Фаустофель. – Добавь, что раскаяние проказника вернуло старую хрычовку к жизни, а кроме того, излечило от остеохондроза и повысило в крови процент содержания гемоглобина.
– Убитую раскаянием не воскресишь, – согласился я. – Но ведь убийца жестоко наказан за преступление. Черт возьми, неужели ты этого не понимаешь?
– Я понимаю одно: Раскольников – маньяк и эгоцентрик, убежденный в том, что весь мир волнует только вопрос, виновен он или нет.
Фаустофель обернулся ко мне со свирепым видом, и я робко прислонился к стене, выжидая, когда мы двинемся дальше.
– Ты что, плохо его слушал? Он и сам еще не решил толком, каяться ему в порочности или ею бахвалиться.
Но мне открылся вдруг смысл раскольниковского монолога.
– Он и не думал бахвалиться. Просто он и по сей день пытается уяснить, что побудило его выбиться из колеи.
– И если с рыданиями бить себя в грудь и объявлять всякому встречному и поперечному, какой ты великий грешник, это поможет делу?
– Нет, ничто не поможет, – сознался я, чувствуя, как в груди у меня зашевелились воспоминания, о которых я охотно бы забыл навсегда.
– А между тем средство имеется, и действует оно безотказно. – Фаустофель двинулся вперед, на ходу кидая на меня через плечо огненные взгляды. – Беда всех этих плакучих ив, рев-коров и прочих нюнь в том, что они принимают себя всерьез, носятся с собой как с драгоценностью. Тогда как главный и единственный выход – забыть обо всем начисто. Выкинуть из головы прошлое – и дело с концом. Встряхнулся – и пошел свеженький, как огурчик. Чего уж проще?
– Но это невозможно! – Впервые за долгое время я ощутил прилив гордости за себя. – Поступки человека имеют слишком большое значение: просто так из памяти их не выбросишь. Это тебе не экскременты, которые организм исторгает за ненадобностью. Деяния каждого неразлучны с ним до конца: они формируют личность, входят в ее состав. Только так – не иначе.
– А почему так?
– Почему? Этого я не могу объяснить. – Вспыхнувшее внезапно воодушевление оставило меня столь же мгновенно. Учитывая мое собственное плачевное состояние и полное отсутствие стремлений и надежд на лучшее, какие еще доводы я мог привести? В самом деле, есть ли разница – помнить или забыть? – Так уж заведено, – устало проговорил я, – но следовать этому порядку, наверное, вовсе не обязательно.
– Вот-вот, именно это я стараюсь тебе втолковать, – подхватил Фаустофель. – Пришли! Сворачиваем налево, проинспектируем здешний ярус.






