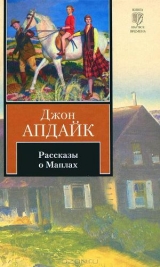
Текст книги "Рассказы о Маплах"
Автор книги: Джон Апдайк
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
– Машину пора было помыть. Мы теперь живем в грязи.
Прошлой осенью они переехали в старый сельский дом, окруженный запущенной разросшейся растительностью. Весной они набросились на этот клочок природы, применяя противоположные методики. Джоан вырывала из-под кустов отмершие побеги и занималась аккуратной стрижкой, словно перед ней были не кусты, а головы ее сыновей. Ричард презирал такое баловство и атаковал проблему в корне или рядом с корнем. Он сдирал вьющиеся плети с крыши сарая и отправлял их в вихляющийся полет; оставлял от барбарисов желтую стерню; стал подрезать возомнившие о себе тисы у входа в дом и так увлекся, что превратил все ветви в обрубки. Тисы принадлежали к редкой японской разновидности и имели нежную розовую мякоть, слишком похожую на человеческую плоть. Много дней после этого обрубки истекали янтарным соком.
Шок испытала вся семья, особенно оба мальчишки, придумавшие себе крепость в яме под деревьями.
– Или они, или я! – защищался Ричард. – Уже в собственный дом не войти!
– Они больше никогда не вырастут, папа, – стонал Дикки. – Ты не оставил ни одного зеленого листочка, откуда теперь взяться фотосинтезу?
У самого парня были зеленые глаза, он все время убирал с них волосы нервным женским жестом своего длинноволосого поколения.
– Так!.. – Ричард взял на изготовку секатор, оснащенный для большей мощи локтевым упором. – Может, пострижемся?
Дикки отшатнулся с круглыми от испуга глазами и наткнулся на брата, имевшего по малости лет еще более длинные волосы. Оба, переглядываясь, как близнецы, застряли во входной двери.
– Лучше ступайте в подвал и положите головы под гильотину, – посоветовал отпрыскам Ричард и несколькими могучими движениями искалечил цветущую лозу. Он был поборником прямых углов, чистой обшивки стен, незагороженных окон и сквозных пространств, на которых раз и навсегда искоренена вся органика – бесстыдная, неуместная, безостановочно ползущая вперед и вверх.
– Папу огорчают не ваши волосы. Тут другое, – объяснила Джоан за ужином Дикки и Джону. По мере укоренения их пакта семья все больше сплачивалась вокруг нее, так что даже кошки, как он замечал, теперь колебались, стоит ли им принимать от него угощение.
– Что именно? – подняла голову от омлета Джудит. Ей было шестнадцать, и она оставалась единственной союзницей Ричарда.
– Это взрослые темы, – ответила ей Джоан.
Пока старшая дочь тревожно смотрела на мать, Ричард сидел не дыша, боясь, как бы она не узрела правду. Как женщина в женщине. Зияющее пустое пространство – он видел этот стеклянный тоннель, прорубленный сквозь Джоан.
Но дочь была еще слишком молода. Чуя врага, она вспоминала про надежную старую мишень – Дикки.
– А все ты! Хотя бы раз попытался помочь папе! Только и делаешь, что заставляешь маму возить тебя на гольф и лыжню.
– А ты? – слабо огрызнулся брат, заведомо разгромленный. – Кто заставляет маму простаивать у плиты? Ты же у нас брезгуешь пачкать губки животной пищей!
– Я, по крайней мере, стараюсь помогать, когда я дома, а не просиживаю с книжками про балбеса Билли Кастера.
– Каспера[16]! – хором поправили ее Ричард-старший и Ричард-младший.
Джудит встала в полный рост – девочка неплохо сложена! Обтянувшие попу джинсы немного сползли, приоткрыв жемчужный живот и шелковые трусики.
– По-моему, отвратительно, когда у некоторых, например у нас, растет слишком много кустов, тогда как в гетто глянуть не на что, сорняков и тех нет, так что жителям приходится вылезать на крышу, чтобы подышать воздухом. Так оно и есть, Дикки, напрасно ты строишь рожи!
Дикки болезненно кривился, ему было невыносимо смотреть на тело сестры.
– Лучше убери свои прелести, юный социолог!
– Ты даже не знаешь, что такое «социолог», – сказала она, качая головой и волнуясь всем туловищем, от груди до пальцев ног. – Испорченный ограниченный эгоист!
– Тише, тетенька! – только и нашелся сказать он – бедный паренек, ослепленный этим цветением плоти.
Джудит превратилась для всех них в оптическую иллюзию: каждый воспринимал ее по-своему. Для Дикки она была угрозой, Джоан видела в дочери саму себя двадцатипятилетней давности, Бин находила в сестре еще один крупный источник тепла, способный, в отличие от лошадей, почитать ей на ночь сказку. Джон, на счастье, не видел ничего, разве что безнадежно отдаляющуюся от него подружку. А Ричарду приходилось отводить от дочери глаза. По вечерам, когда Джоан укладывала остальных детей спать, Джудит крутилась на диване, мешая отцу читать «Мои броски на миллион долларов», произведение Билли Каспера, в кресле напротив.
– Видишь, папа, как я растягиваюсь?
Каспер: «Упругость, напряжение в мышцах спины и вдоль левого бедра при махе назад…» Иллюстрации со стрелками. При этом тело на диване свивалось в узлы. Из-за гибкости Джудит и ее успехов в йоге Джоан, почувствовав себя посрамленной, прекратила заниматься сама. Поднимая глаза, Ричард наблюдал, как дочь выгибается, держа себя руками за лодыжки, как мерцает ее гладкий живот, увенчанный пупком. «При махе назад предплечье и плечо образовывают прямую линию…» Он пытался, но поза показалась ему неудобной. В гольфе он был прирожденным неудачником с хроническим вывихом кисти. Глядя, как он рассматривает свою кисть, Джудит давилась от смеха, ее хохот делался игривым, невыносимым.
– Папа у нас «нарцисс»!
Он косился на нее, и ему уже казалось, что она себя щекочет, мотая всклокоченной головой…
– Джудит! – Он не кричал на нее так с тех пор, как однажды, еще малышкой, она засыпала сахаром весь кухонный пол. Ему тут же стало стыдно. – Ты сводишь меня с ума!
На четвертой неделе он отправился по делам в Нью-Йорк. Когда он вернулся, Джоан сказала на кухне за рюмочкой:
– Сегодня все друг на друга шипели. Тебя нет, погода паршивая, я гружу в машину всех, кроме Джудит – она осталась ночевать у Маргарет Мерино…
– Ты ей разрешила?! У этой шлюшки с компанией наркоманов? Там, наверное, будут мальчики?
– Я не спросила. Надеюсь, будут.
– Живешь чужой жизнью, да?
Он соображал, получится ли отвесить ей пощечину и одновременно выхватить у нее рюмку, чтобы не разбилась. Рюмка принадлежала к подаренному им на свадьбу сервизу из бирюзового мексиканского стекла, от которого осталось всего три предмета. Уловив своим общим с ним глазом его расчеты, Джоан окаменела. О такое лицо можно было бы разбить кулак.
– Ты дашь мне закончить?
– Валяй. Ditez-moi[17], Шахерезада…
– Мы покатили на автомойку. Гекуба сходила с ума, без умолку тявкала и скакала по кустам вокруг машины, настоящая защитница! Ей понадобилось описать три круга, чтобы понять, что, убежав в одну сторону, она непременно появится с другой. Все просто стонали от смеха. С нами в машине были Дэнни Веттер и одна из подружек Бин по конюшне. Настоящая оргия веселья! – От воспоминаний она разрумянилась.
– Совершенно омерзительная история! Кстати, о мерзости: в Нью-Йорке я совершил странный поступок.
– Переспал с проституткой?
– Почти что. Сходил на порнофильм.
– Ну и жуть!
– Жуть, согласен. Просыпаюсь утром в пятницу ни свет ни заря. До одиннадцати у меня никаких встреч. Плетусь на Сорок вторую улицу. Представляешь, все еще залито невинным утренним светом, а эти заведения размером с пенал уже открыты. Ну и я… Ты сможешь это вынести?
– Вполне. Всю неделю слушала одно детское нытье.
– Плачу три бакса и захожу. Там кромешная темень, хоть глаз выколи, как в «комнате ужасов» на ярмарке. На экране хлопочет ярко-розовая парочка. Слышу людское дыхание, но не вижу ни зги. Когда хочу протиснуться в ряд, обязательно тычу кому-нибудь пальцем в глаз. При этом никто не ворчит. Прямо как застывшие тела не знаю в каком по счету круге ада… Наконец нахожу себе местечко. И что же я вижу? Вокруг одни мужчины, и все до одного спят! Расселись так, чтобы друг друга не касаться. Даже в этот час зал наполовину полон. Полон неподвижных людей…
Он чувствовал ее неудовлетворенность: ему не удалось передать сказочную магию пережитого, полнейшую, свинцовую тьму, негромкий храп, похожий на драконье сопение, аккуратность шахматной рассадки по кинозалу. Изобразить, как он нашел пустое местечко, занял его и присоединился к остальным.
– Как тебе фильм? – поинтересовалась Джоан.
– Ужас! Совершенно возмутительно! Заставляет рассуждать сугубо технически: положение камеры, фонящий микрофон… А уж само действие!.. Чтобы сниматься в порнографии, мужчина должен быть: а – блондином, б – импотентом.
– Верно. – Джоан отвернулась, словно скрывая ход своих мыслей. – Сегодня нам придется ужинать у новых Деннисов. – Мак Деннис снова женился – на женщине, похожей на Элеонор, чуть моложе ее, но, по мнению Маплов, проигрывавшей ей во внешности. – Они задержат нас надолго. А вот завтра, – продолжила Джоан негромко, словно говорила сама с собой, – когда дети займутся своими делами, можно будет, если ты захочешь…
– Нет, – перебил он ее, – я собираюсь на гольф. В четверг один из бухгалтеров повез меня на Лонг-Айленд. Там, даже арендованной клюшкой, я показал чудеса. По-моему, весь секрет вот здесь. – Он продемонстрировал ей свой натренированный мах назад. – Теперь я бью на двадцать ярдов дальше. – И он замахал руками, как мельничными лопастями.
– Понятно, – сказала Джоан, насмешливо присоединяясь к его радости. – Ты занимаешься сублимацией.
В машине, по дороге к Деннисам, он спросил ее:
– Ну как?
– Если честно, замечательно. Все мои органы чувств распахнулись, я ощущаю единение с природой. За навесом распустились жонкили, я любовалась ими и плакала. Невыносимая красота! Мне не сидится в доме, хочется все время рыхлить, подрезать, разгребать камешки…
– Знаешь, – сказал он ей с мрачным видом, – лужайка – это тебе не ковер, который достаточно подмести, здесь нужно принимать решения. Например, сирень: сплошь мертвые побеги.
– Прекрати! – взмолилась Джоан и заплакала. Мимо проносилась темнота, разрываемая светом фар.
В постели, вернувшись от Деннисов (было уже почти два часа ночи; оба перебрали бренди; Мак замучил их монологами об охране природы, миссис Деннис – об интерьерах «своего» дома, который для Маплов оставался домом Элеонор), Джоан призналась Ричарду:
– У меня повторяется одна и та же галлюцинация – это происходит всюду, даже на ярком солнце: мне кажется, что я умерла.
– От чего?
– Понятия не имею. Главное, что умерла – и что это совершенно не важно.
– Даже для детей?
– Они переживают день-другой, а потом даже они успокаиваются.
– Милая! – Он поборол властное побуждение повернуться и дотронуться до нее. – Это все от единения с природой.
– Наверное.
– У меня все по-другому. Мне представляются похороны. Сколько народу будет в церкви, что скажет про меня в проповеди Спенс, кто придет, кто нет…
Главное, придут ли поплакать вместе с Джоан женщины, которых он любил. От картины их дружного горя из-за того, что он навсегда отказал им в своих ласках, он получал подобие удовлетворения, в сравнении с которым меркло мелочное удовольствие и от плотского насыщения, и от маха назад. Плывя на спине в постели, он чувствовал, что, умерев, вырастет до своего истинного масштаба.
Возможно, Джоан улавливала его мысли своим общим с ним глазом; обычно она отворачивалась от него, подставляя свою шикарную спину, чтобы он сам решал, провокация это или отторжение, но теперь лежала параллельно ему, словно парализованная.
– Думаю, это как очищение, – проговорила она. – Представь, сколько энергии уходило на Крестовые походы!
– Может, и так, – пробормотал он без уверенности. – Может, и мы с тобой собираемся в поход.
Оголение
– Посмотри-ка! – Таким тоном Джоан Мапл обычно выражала радость. – На нас посягнули!
Ричард Мапл оторвал голову от песка.
По пляжу брела другая пара, помоложе их – смуглые гривастые существа, величавые от старания контролировать себя. Чтобы понять, что они наги, приходилось приглядываться. Частое посещение на протяжении лета нудистской части пляжа, отделенной мысом от пляжа, где загорали в купальниках и где возлежали Маплы с детьми, книжками, полотенцами и лосьонами, позволило этой юной парочке покрыться ровным загаром. Половые признаки, занимающие такое раздутое место в нашей внутренней мифологии – груди, лобковая растительность – на расстоянии, да еще на ярком солнце сводились почти к нулю. Даже пенис молодого человека казался второстепенной деталью. Его спутница выглядела его уменьшенной копией – та же завораживающая упругая походка, та же волнующая компоновка конечностей, живота, торса, плеч, головы.
Ричард с трудом сдержал стон восхищения. Двое голых безмолвно надвигались на спрессованный песок, на людей в купальниках и плавках, как две морские волны, расставшиеся с безразличием самовлюбленно мерцающего моря.
– Ну и ну! – произнес под одним из зонтиков женский голос, полетевший над пляжем, как обертка от сандвича. Старикашка с тощими ножками, прикрепленными к бочкообразной грудной клетке мальчишескими клетчатыми плавками, вскочил с видом беспомощной воинственности, захлебываясь собственной дерзостью, и стал делать жесты, похожие одновременно на сигналы таксисту и трясение кулаком. Чувства самого Ричарда, как он заметил, были бурными, даже истерическими: тут присутствовало и восхищение их бесстрашием, и ощущение общественной опасности; удовольствие при виде голой женщины вытеснялось ненавистью к голому мужчине, чьей союзницей она себя публично выставляла; удовольствие от вида мужчины вступало в конфликт с инстинктивным вниманием к его бескостному придатку, к этой обезьяньей сноске под богоподобной грудной мускулатурой; зависть к их молодости, смелости и красоте уступала место осознанию своего собственного телесного несовершенства, такому острому, что он стал невольно озираться, ища, где бы спрятаться.
Его довольная жена, полногрудая поборница свободы нравов, сказала:
– Сейчас их закидают камнями.
Внезапно обнаженная пара, уже прошествовавшая порядочное расстояние, развернулась и бросилась наутек. Особенно смешной выглядела при этом девица: ее ягодицы тяжело болтались от неуклюжих стараний не отстать от спутника. Расстояние между ними увеличивалось, волосы бегуна приподнялись, как пена над ослепительной морской синевой.
Головы на пляже вертелись, словно на теннисном матче; стало ясно, что нудистов обратил в бегство полицейский, появившийся на дальней оконечности дощатого прогулочного настила. Форма и его делала представителем отдельного биологического вида. Когда он неспешно пробегал мимо, аккуратно погружая в песок черные башмаки, оказалось, что он тоже молод, под солнцезащитными очками-слезинками золотились усы, короткие рукава летней гимнастерки выставляли напоказ загорелые бицепсы. Можно было догадаться, что под формой и сам он покрыт сплошным загаром.
– Боже, – тихо проговорил Ричард, – он один из них!
– Молодой симпатичный легавый, – быстро согласилась Джоан.
Видя, как ей понравилась собственная грубость, Ричард разозлился. Сейчас он был склонен к парадоксам, к бессловесной грусти. В эти каникулы Маплы проводили много времени вместе. Одна их дочь поселилась с мужчиной, один сын пошел работать, второй сын находился в летнем теннисном лагере, а младшая дочь, Бин, возненавидела свое ласкательное имя и в свои тринадцать лет так тяготилась родителями, что каждый день находила предлоги, чтобы не проводить время с ними. В такой редуцированной семье они очутились слишком на виду друг у друга; Ричард боялся, что младшая дочь видит их насквозь, лучше, чем они сами. Сейчас, пользуясь свободой от родительских обязанностей, он предложил, как предложил бы в колледже в пору ухаживания, уйти из библиотеки и отправиться в кино:
– Пойдем за ним.
Полицейский уже превратился в синюю точку вдали.
– Пойдем, – согласилась Джоан и поспешно встала. С нее хлынул песок. Ее радостная готовность могла быть деланной, зато соблазнительная фигура, лоснящаяся на солнце, старание не отставать, заставлявшее его инстинктивно сдерживать шаг, тяжесть солнца на плечах – все это было настоящее. «Хотя бы так», – мелькнуло у Ричарда в голове.
Одетый пляж сжался позади них в кляксу. За мысом они увидели голые тела: веснушчатых рыжеволосых особ с дряблыми молочно-белыми животами; загорелых брюнеток, стоя подставлявших солнцу свои твердые, как орехи, лица; спящих мужчин, чьи семенники походили на опавшие и медленно поджаривающиеся плоды; ряд задов, как морские гребешки на салфетке. Один бородач, возомнивший себя йогом, стоял на голове и в молитвенном экстазе разводил ноги. Среди всех этих, словно сошедших с картин Босха, персонажей медленно перемещался полицейский, неуклюжий в своей портупее и с револьвером на боку: он что-то шептал голым людям, почти прикасаясь к ним, те в ответ кивали и начинали одеваться, одни поодиночке, другие группами. Пару-нарушительницу, спровоцировавшую это контрвторжение, нельзя было различить среди множества голых тел, и наказанию подвергались все сразу.
Джоан подошла к ближней троице – двум парням и девушке, натягивающим потертые джинсы, кожаные сбруи и куртки без рукавов, надевающим сандалии и странные мягкие шляпы.
– Вас прогоняют? – спросила она.
Парни выпрямились, уставились на нее – консервативное бикини, приятная пухлость, сочувственная улыбка – и ничего не ответили. Член у одного из них, заметил Ричард, тяжело свисал в считанных сантиметрах от ее руки. Джоан вернулась к мужу.
– Что они тебе сказали? – спросил он.
– Ничего, молча пялились, как на дуру.
– За последние десять лет произошло десять революций, – стал объяснять он. – Первое – женщины научились говорить «fuck». Второе – угнетенные научились презирать тех, кто им сочувствует. Хотя не исключено, что ты их просто смутила, подойдя, когда они надевали штаны. Для мужчины это щекотливый момент.
Как ни парадоксально, у нудистов оказалось больше одежды, чем у простой буржуазии: когда они потянулись к мысу, их было легко отличить по тому, что теперь они были одеты с головы до ног, словно явились прямиком из сердцевины городской контркультуры. Перед молодым полицейским, сновавшим среди них, как скорбный ангел, они дружно принимали позы покаянного подобострастия.
– Боже, – воскликнула Джоан, – настоящее «Изгнание из рая» Мазаччо!
И Ричард почувствовал, как радостно бьется в упаковке обильной плоти ее сердце, как она горда этим сравнением, тем, что лишний раз доказала себе важность гуманитарных познаний для современной жизни.
Вернувшись с пляжа, Ричард до конца дня толкал тяжелую газонокосилку, борясь с жесткой травой вокруг арендованного дома. Мысли его были посвящены наготе. Он вспоминал Адама и Еву («Кто сказал вам, что вы наги?»), Ноя, над чьей хмельной наготой надсмеялся Хам, Сусанну и старейшин. Думал о себе, как он в детстве загорал на веранде второго этажа с матерью, которая была пусть провинциальной, но авангардисткой, помешанной на здоровье. Кроме них веранду по причине тепла облюбовывали осы. Час растягивался до бесконечности, каждую минуту пропитывало его смущение. Кожа матери была бледным пейзажем на самом краю его поля зрения, он смотрел туда не больше, чем на холмы вокруг их городка в Западной Виргинии, из которого ему, судя по всему, не суждено было вырваться…
Или эти слова Родена, что раздевающаяся женщина подобна солнцу, проглядывающему из-за туч… Собиравшиеся к вечеру облака роняли на лужайку тени, травинки вспыхивали от прорывавшихся солнечных лучей. В свое время он любил женщину, спавшую перед зеркалом. Впервые очутившись в ее постели, он был поражен отражением двух голых тел. Его и ее ноги, вытянувшиеся параллельно, казались бесконечно длинными. Видимо, она почувствовала, что он от нее отвлекся, повернулась, и дубликат ее лица появился в зеркале под его дубликатом. Зеркало находилось на расстоянии вытянутой руки от кровати. Его завораживало не ее, а свое тело – его длина, мерцание, волоски, пальцы ног, сказочным образом не имевшие отношения к его маленькой, удивленной, дурацкой физиономии.
Помнится, снизу донесся шум. Глаза обоих синхронно расширились, зеркало было забыто.
– Что это? – спросил он шепотом. Молочник, почтальон, собака, заслонка…
– Ветер? – предположила она.
– Похоже на скрип открываемой двери.
Они снова прислушались, ее дыхание касалось его губ. Снизу раздались отчетливые шаги. Он стал натягивать себе на голову простыню, а она, наоборот, резко ее откинула, отлепилась от него, задрав одну ногу, как женщина на картине Ренуара «Купальщицы». Он остался в зеркале один; зеркало превратилось в кричащее свидетельство того, что он находится в неположенном ему месте («Грязь – вещество в неправильном месте», – говаривала его мать) и не способен ни сражаться, ни бежать – он торчал посреди кровати, как рог вешалки для шляп, если пользоваться сравнением Молли Блум[18]. Пришлось прятаться на балкончике, прижимая к горячему лбу скомканную одежду.
…Сейчас он присел, чтобы срезать ручным секатором упрямые стебли рядом с навесом для лодки. На ум пришла приблизительная цитата одного мастера японских эротических картинок шунга: фаллос на этих картинках изображается увеличенным, потому что, изображенный в естественную величину, он слишком мелок.
Она, его любовница, вернулась, по-прежнему голая, и сказала: «Никого». Она прошествовала голая, как нарушительница из Эдема, по первому этажу, мимо кресел, картин и светильников, все вокруг затмевая, не боясь встречи с грабителем, молочником, мужем; когда она вернулась, ее нагота была спокойна и откровенна, словно у Венеры Тициана, она затопила его изнутри, как проглоченное солнце.
Запустив ей в волосы все десять пальцев, он вспоминал тициановскую Венеру, Олимпию Мане, Маху Гойи, бесстыдство. Взять Эдну Понтелье, героиню романа Кейт Шопин: в завершающий год самого застегнутого из всех столетий она подходит к берегу моря и сбрасывает с себя одежду, прежде чем утопиться. «Как странно и ужасно было стоять нагой под небесами! И как упоительно!»
Он вспомнил, как месяц назад один явился в этот дом с темным сырым подвалом, в который он сейчас с трудом заталкивал громоздкую газонокосилку, исполнившую свой долг. Он сам вызвался тогда приехать сюда и вдохнуть в дом жизнь, испытать его; раньше они его не снимали. Джоан легко согласилась: в те дни в ней тоже сидела тяга к одиночеству. Половина магазинов на острове еще не открылись на лето. Он накупил себе еды на несколько дней и жил здесь в полной непорочности и тишине. Как-то утром он прошел целую милю до пруда, срывая по пути чернику и продираясь сквозь дикий виноград. Пляж там был всего в шаг шириной, о присутствии прочей жизни можно было догадаться только по экскрементам и перьям, оброненным дикими лебедями. Сами лебеди, зависшие в пронзаемом светом тумане на поверхности пруда, показались ему богами, недосягаемым совершенством. На поросших кустарником холмах вокруг пруда не было ни одного дома, ни одной машины. Не воспользоваться такой чистейшей пустотой под небесами было бы святотатством. Ричард избавился от всей одежды и уселся на теплый шершавый камень в позе роденовского «Мыслителя». Потом встал и у кромки воды обернулся пророком, крестителем. На его ноги падали отраженные водой блики света. Его так и подмывало совершить что-нибудь исключительное, непристойное; как он ни тянулся вверх, до неба было не дотянуться. Солнце поддавало жару. Туман быстро улетучивался, лебеди ожили и устроили надменный олимпийский шум, захлопав крыльями. На секунду Ричард расстался с половой принадлежностью и осознал себя божественно очерченным центром концентрического Творения; даже его кожа сделалась красивой – нет, он чувствовал, как на него изливается красота, словно ему признавался в любви, самозабвенно вылизывал его божественный дух… В следующую секунду он, опустив глаза, убедился, что его одиночество нарушено: вверх по его волосатым ногам деловито ползли бронзовые клещи, осчастливленные источаемым этим великаном теплом, подобно тому, как он сам был счастлив от солнца.
Небо успело посереть, подернуться серебром, уподобиться цветом островной гальке. Шагая домой в надежде вознаградить себя выпивкой, он вспоминал популярную среди социологов историю о том, как в девятнадцатом веке один американский фермер хвастался, что, став отцом одиннадцати детей, ни разу не видел обнаженного тела своей жены. В другой книжке, кажется, Джона Гантера, рассказывалось о каком-то портовом городе в Западной Африке, последнем на побережье, где молодая женщина еще могла пройтись голышом по главной улице, не привлекая внимания. Кроме этого, он вспомнил фотографии в «Таймс» многолетней, еще до нескольких революций, давности: на них красовалась совершенно голая Бриджит Бардо, запечатленная со спины. Журнал по этому поводу язвил, что любоваться голыми женщинами можно не только в кино, но и в большинстве американских домов часов в одиннадцать вечера.
Одиннадцать вечера. Маплы ходили ужинать в ресторан; Бин ночует у подруги. Их спальня в арендуемом доме вся в белых тонах, полна жизни; белы даже столики и кресла, а потолок такой низкий, что тени, кажется, лежат у них на головах.
Джоан, стоя в ногах кровати, сбрасывает туфли. Она смотрит вниз, отчего ее лицо кажется укороченным и как будто надутым; она расстегивает на юбке пояс и молнию, демонстрируя комбинацию в виде белой буквы «V». Упавшую юбку она подбирает ногой и прячет в ящик. Потом поднимается кофточка, лишая ее головы, собирая в облако волосы. Снова появляется лицо, теперь озабоченное. Поворот головы, освещенный профиль. Фары машины на дороге ласково скользят по дому, потом теряют к нему интерес. Далее – неожиданный ход: в стремительном танцевальном па Джоан спускает свои трусики, после чего, перекрестив руки, поднимает комбинацию. Нейлон комкается на талии; она застывает в позе рабыни Микеланджело, Мадонны Мунка, девушки с кувшином Энгра, стоит к зрителю лицом, непричесанная. Комбинация разглаживается, змеиная кожа стягивается, процесс продолжается. С небольшим усилием она расстегивает на спине бюстгальтер и бросает его в корзину в коридоре. Величавое покачивание наполовину загоревших грудей. Шагая к кровати, она говорит голосом, которым обычно выражает недовольство:
– У тебя нет занятия лучше, чем на меня глазеть?
Ричард лежит на кровати полуодетый, любуется в одиночестве стриптизом и вот-вот зааплодирует.
– Нет, – честно отвечает он.
Он вскакивает и завершает раздевание; по потолку мечется его тень. Они стоят рядышком, как на пляже, после того как с ней не стали разговаривать юные нудисты, девушка и два парня; тяжелый член одного из парней висел совсем близко от ее руки. «Пялились на меня, как на дуру…» Муж не проявил тогда сочувствия к жене. Они переносятся на пляж, вспоминают то, что было там. Он снова чувствует, как колотится ее сердце в упаковке обильной плоти. Она смотрит на него голубыми, словно утреннее море, глазами и говорит с улыбкой:
– Нет.
Любезно, но твердо. Для Ричарда это – посягательство на святое. Оголенный отказ – новость для обоих.
Врозь
День выдался замечательный. Отличный день. Весь июнь погода насмехалась над бедой Маплов, поливая их солнечным светом, стыдя зелеными водопадами, под которыми они вели свои беседы, горестно шептались, чувствуя, что превратились в единственное пятно на безупречном лике природы. Обычно к этому времени года они успевали немного загореть; но в этот раз они встречали самолет дочери, возвращавшейся после года, проведенного в Англии, почти такими же бледными, как она, хотя Джудит была слишком ослеплена солнцем родины, чтобы это заметить. Они не стали портить ей возвращение и пока что утаили от нее свою новость. Подождать несколько дней, пока она отойдет от разницы во времени, – такое решение было достигнуто на серых переговорах за кофе, коктейлями, куантро, выстраивавших стратегию их разъединения, пока за закрытыми окнами шел незаметно для них ежегодный цикл обновления. Ричард хотел уйти в Пасху, но Джоан настояла, чтобы они дождались, пока соберутся все четверо детей, пока будут сданы все экзамены, пройдут все церемонии, когда утешением им могла стать побрякушка лета. Он изнывал от любви и страха, чинил противомоскитные экраны и газонокосилки, латал покрытие на их новом теннисном корте.
Корт за первую зиму превратился в изрытую глиняную площадку, лишившись покрытия. Уже много лет назад Маплы стали замечать, что разводам их друзей часто предшествуют крупные усовершенствования в доме, как будто любовь предпринимает последние усилия и терпит неудачу; у них самих последний кризис разразился среди гипсовой пыли и обнаженных труб, сопровождавших ремонт кухни. Но прошлым летом, когда желтые, как канарейки, бульдозеры срыли и превратили поросший травой бугорок, утыканный ромашками, в грязную проплешину, а потом бригада молодых людей с собранными сзади в косички волосами разгребла и утоптала глину, сотворив из проплешины равнину, произошедшее показалось им не зловещим, а бесстыдно праздничным; их брак так разгулялся, что норовил расколоть землю. Весной, просыпаясь на рассвете с ощущением, что их кровать опасно кренится, Ричард брел на голую теннисную площадку (столбики, сетка и все прочее до сих пор лежали в сарае), вид которой – картина сознательного опустошения – отвечал его настроению: все эти дыры и трещины в глине (в оттепель на корте от души порылись собаки, от весенних ручьев остались канавы) казались ему естественным следствием нескончаемого процесса увядания. Но в наглухо задраенной душе теплилась надежда, что роковой день никогда не наступит.
И вот этот день настал. Дождавшись пятницы, они вызвали Джудит; все четверо детей, которых вот-вот могли снова разметать дела, лагеря и поездки, были в сборе. Джоан считала, что лучше уведомить их по одному, Ричард стоял за оглашение приговора за общим столом. «Такое объявление – акт трусости, – возразила Джоан. – Они начнут ссориться, примутся друг за друга, вместо того чтобы сосредоточиться. Каждый из них – личность, знаешь ли, а не доска в заборе, не выпускающего тебя на свободу».
«Ладно, согласен». Джоан выдвинула четкий план. В тот вечер они устраивали запоздалый торжественный ужин с омарами и шампанским в честь возвращения Джудит. После пира родители, девятнадцать лет назад возившие дочь в коляске по Пятой авеню и Вашингтон-сквер, вели ее на прогулку, к мостику через соленый ручей, и там все выкладывали под обещание держать язык за зубами. Затем наступала очередь Ричарда-младшего, сразу после работы отправлявшегося на рок-концерт в Бостон. Это должно было произойти либо после его возвращения на поезде, либо ранним субботним утром, пока он не уедет на работу: в свои семнадцать лет парень подрабатывал уборкой поля для гольфа. Последними, в более позднее утреннее время, узнать новость должны были младшие, Маргарет и Джон.








