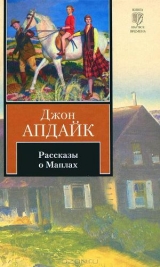
Текст книги "Рассказы о Маплах"
Автор книги: Джон Апдайк
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц)
Annotation
Трагикомическая семейная сага о жизни Ричарда и Джоан Мапл.
Цикл рассказов, который Апдайк писал – ни больше, ни меньше – несколько десятилетий, вновь и вновь возвращаясь к любимым героям.
Счастливые и трудные времена. Дети. Измены. Отчуждение. Вражда. Развод. Ненависть.
От любви до ненависти – один шаг. От ненависти до любви – тоже. Но… когда и почему этот шаг делается?
Впервые на русском языке – все рассказы о Маплах в одной книге!
СОДЕРЖАНИЕ:
Джон Апдайк. От автора (статья, перевод А. Кабалкина)
Джон Апдайк. Снег в Гринвич-Виллидж (рассказ, перевод А. Кабалкина)
Джон Апдайк. Обхаживание жены (рассказ, перевод А. Кабалкина)
Джон Апдайк. Родная кровь (рассказ, перевод А. Кабалкина)
Джон Апдайк. Два спальных места в Риме (рассказ, перевод А. Кабалкина)
Джон Апдайк. Демонстрация в Бостоне (рассказ, перевод А. Кабалкина)
Джон Апдайк. Металлический привкус (рассказ, перевод А. Кабалкина)
Джон Апдайк. Звонил твой любовник (рассказ, перевод А. Кабалкина)
Джон Апдайк. Ожидание (рассказ, перевод А. Кабалкина)
Джон Апдайк. Разнузданный Эрос (рассказ, перевод А. Кабалкина)
Джон Апдайк. Трубопровод (рассказ, перевод А. Кабалкина)
Джон Апдайк. Теория ложного следа (рассказ, перевод А. Кабалкина)
Джон Апдайк. Сублимация (рассказ, перевод А. Кабалкина)
Джон Апдайк. Оголение (рассказ, перевод А. Кабалкина)
Джон Апдайк. Врозь (рассказ, перевод А. Кабалкина)
Джон Апдайк. Жесты (рассказ, перевод А. Кабалкина)
Джон Апдайк. Развод (отрывок) (рассказ, перевод А. Кабалкина)
Джон Апдайк. Нижеозначенные Маплы (рассказ, перевод А. Кабалкина)
Джон Апдайк. Бабушки-дедушки (рассказ, перевод А. Кабалкина)
Джон Апдайк
Снег в Гринвич-Виллидж
Обхаживание жены
Родная кровь
Два спальных места в Риме
Демонстрация в Бостоне
Металлический привкус
Звонил твой любовник
Ожидание
Разнузданный Эрос
Трубопровод
Теория ложного следа
Сублимация
Оголение
Врозь
Жесты
Развод
Нижеозначенные Маплы
Бабушки-дедушки
notes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Джон Апдайк
РАССКАЗЫ О МАПЛАХ
Снег в Гринвич-Виллидж
Маплы только накануне переехали на Тринадцатую улицу и в этот вечер принимали у себя Ребекку Кьюн, благо что жили теперь по соседству. Высокая, с неизменной легкой улыбкой, немного рассеянная, она позволила Ричарду Маплу снять с нее пальто и шарф, пока здоровалась с Джоан. Ричард двигался с удвоенной точностью и изяществом и успешно справился с раздеванием гостьи. Хотя они с Джоан были женаты почти два года, у него был такой юношеский облик, что обычно люди невольно отказывались воспринимать его как хозяина дома, а их колебания в ответ заставляли колебаться и его, поэтому напитки обычно разливала жена, он же удобно устраивался на диване с видом обласканного и всем довольного гостя. Теперь он положил одежду Ребекки на кровать в темной спальне и вернулся в гостиную. Ее пальто показалось ему невесомым.
Ребекка сидела под лампой, на полу, подогнув под себя одну ногу и закинув руку на низкую ширму, еще не увезенную прежними жильцами.
– Я была знакома с ней всего один день, – говорила она, – как раз когда она меня учила этой работе, но все равно согласилась. Я жила в ужасном месте под названием «отель для дам». Там в холле стояли пишущие машинки; пользование машинкой стоило четверть доллара.
Джоан, сидевшая с прямой спиной в хичкоковском кресле из дома ее родителей в Амхерсте и комкавшая в ладони влажный платок, объяснила, повернувшись к Роберту:
– Перед тем как поселиться в теперешней квартире, Бекки жила с одной девушкой и ее парнем.
– Да, его звали Жак, – сказала Ребекка.
– Вы жили с ними? – спросил Ричард. Вопрос был задан игривым тоном, оставшимся от настроения, которое у него появилось после того, как он успешно и как-то пикантно оставил в темной спальне пальто гостьи, словно передал с большим тактом тревожное известие.
– Да, и он настоял, чтобы на почтовом ящике значилось его имя. Ужасно боялся пропустить письмо! Когда мой брат служил на флоте, он однажды приехал меня навестить – и видит на ящике… – Тремя параллельными движениями пальцев она начертила три строчки:
Джорджина Клайд
Ребекка Кьюн
Жак Цимерман —
Брат говорил, что я всегда была очень милой девочкой. А Жак даже не убрался, чтобы моему брату было где спать. Брату пришлось спать на полу. – Она прикрыла глаза и стала искать в сумочке сигареты.
– Разве не чудесно? – сказала Джоан и беспомощно улыбнулась, поняв, что сморозила глупость. Ее холодность беспокоила Ричарда. Это продолжалось уже неделю, и улучшения не наступало. Ее лицо было бледным, с розовыми и желтыми пятнами; это подчеркивало ее сходство с портретом Модильяни: овальные голубые глаза и привычка сидеть с совершенно прямой спиной, с вопросительно наклоненной набок головой, класть руки на колени ладонями вверх.
Ребекка тоже была бледная, но, скорее, – на это намекали тяжесть век и виртуозный изгиб рта, – бледностью с картины да Винчи.
– Кто-нибудь хочет хереса? – пробасил Ричард, вставая.
– Если хочешь, у нас найдется и покрепче, – сказала Ребекке Джоан. На взгляд Ричарда, эта реплика, вроде тех объявлений, которые можно истолковать двояко, содержала очевидный намек, что на сей раз смешивать старомодные напитки придется ему.
– Херес – это то, что нужно, – молвила Ребекка. Она произносила слова отчетливо, но таким слабым голосом, что из них не проистекало никаких последствий.
– Я тоже так думаю, – поддакнула Джоан.
– Отлично. – Ричард взял с камина восьмидолларовую бутылку «Тио Пепе», украденную для него приятелем. Чтобы все могли насладиться драматическим моментом, он откупорил бутылку прямо в гостиной, картинно наполнил, вернее, налил только до половины, три бокала, подал их дамам и оперся о каминную полку (раньше у Маплов каминов не было). Он покачивал своим бокалом, как советуют сомелье, чтобы высвободить всевозможные эфиры, пока жена не произнесла стандартный в доме ее родителей тост:
– Будем здоровы, дорогие!
Ребекка продолжила рассказ о своей первой квартире. Жак бездельничал, Джорджина не задерживалась на очередной работе больше трех недель. Деньги у троицы были общие, и доступ к ним – свободным для каждого. У Ребекки была отдельная спальня. Жак и Джорджина иногда участвовали в написании телевизионных сценариев и возлагали все свои надежды на сериал под названием «ИБИ в пространстве и времени» – что-то межгалактическое или по меньшей мере межпланетное. Еще у них был друг, молодой коммунист, который никогда не мылся и всегда имел деньги, поскольку его папаша владел половиной Уэст-Сайда. Днем, пока обе девушки были на работе, Жак флиртовал с молодой шведкой, жившей этажом выше и регулярно ронявшей свою швабру на их крохотный балкончик.
– Настоящее бомбометание! – объяснила Ребекка.
Когда она перебралась в свою, отдельную квартиру, устроилась и почувствовала себя счастливой, Джорджина и Жак попросились к ней со своим матрасом, согласные спать на полу. Но Ребекка почувствовала, что пришло время топнуть ногой. Она им отказала. Позже Жак женился – не на Джорджине, на другой девушке.
– Кому кешью? – спросил Ричард. Он купил банку орехов в лавке на углу специально для этого случая, хотя если бы не визит Ребекки, он бы купил там что-нибудь еще под другим предлогом, просто ради удовольствия сделать первую покупку в магазинчике, где ему предстояло стать завсегдатаем.
– Нет, спасибо.
Ричард настолько не ожидал от Ребекки отказа, что по инерции подсунул ей орехи со словами:
– Пожалуйста, вам понравится!
Она взяла два орешка и раскусила один пополам.
Он протянул серебряную чашку – свадебный подарок Маплам – жене, та взяла целую горсть кешью. При этом она была так бледна и так шла пятнами, что он даже спросил:
– Как ты себя чувствуешь?
Он не столько забыл о присутствии гостьи, сколько демонстрировал ей свою заботливость – впрочем, вполне искреннюю.
– Нормально! – раздраженно ответила Джоан. Возможно, так оно и было.
Хотя Маплы тоже кое-что рассказали – как первые три месяца своего брака они прожили в деревянной хижине в лагере «молодых христиан»; как Битси Флейнер, общая знакомая, оказалась в Богословской школе Бентама единственной девочкой; как Ричард, работая в рекламе, видел Йогги Берру[1], который оказался очень забавным, так что газеты не врали, – друг на друга они не смотрели, рассказчиками были неважными, и доминировал в беседе голосок Ребекки. Она любила всякие странности.
Ее дядя-богач жил в доме из железа, с рядами кресел, как в зрительном зале. Он ужасно боялся пожара. Перед самой Великой депрессией он купил огромную яхту, чтобы плыть с друзьями в Полинезию. Все его друзья лишились во время биржевого краха денег, а он – нет. Он, наоборот, заработал. Он на всем зарабатывал. Но плыть один он не мог, поэтому яхта осталась ждать в Ойстер-Бэй – огромная, торчащая на тридцать футов из воды. Дядя был вегетарианцем. Ребекка до тринадцати лет не ела на День благодарения индейки, потому что в семье была традиция отмечать этот праздник у дядюшки. Традиция умерла во время войны, когда дети истоптали его асбестовые полы своими черными синтетическими подошвами. С тех пор семья Ребекки с дядей не разговаривала.
– Что меня удивляло, – закончила Ребекка, – так это его интерес к каждому новому овощу, как будто это новое лекарство!
Ричард долил в бокалы херес и, завладев благодаря этому вниманием, сказал:
– Разве у некоторых вегетарианцев не принято на День благодарения лепить индейку из молотых орехов?
– Не знаю, – выдавила Джоан после паузы. За последние десять минут она разучилась говорить и поперхнулась на последнем слоге. От ее кашля у Ричарда кольнуло сердце.
– Чем же они их фаршируют? – осведомилась Ребекка, стряхивая пепел на блюдечко перед собой.
За окном раздался цокот копыт. Первой к окну подскочила Джоан, за ней Ричард, последней Ребекка. Ей пришлось встать на цыпочки и вытянуть шею. Шестеро конных полицейских, приподнявшись в стременах, колонной по двое проскакали галопом по Тринадцатой улице. Когда Маплы перестали восхищаться, Ребекка объяснила:
– Каждый вечер в это время они тут как тут. Для полицейских они просто красавчики!
– Глядите, пошел снег! – воскликнула Джоан. К снегу у нее было умиленное отношение. Она его так любила и так редко видела в последние годы. – И это в первый наш вечер здесь! В первый наш настоящий вечер!
Забывшись, она обняла Ричарда, а Ребекка, вместо того чтобы отвернуться, как поступила бы на ее месте другая гостья, вместо того чтобы слишком широко или слишком поощрительно улыбнуться, сохранила свое вежливое рассеянное выражение и, глядя сквозь обнявшуюся пару, по-прежнему наблюдала за происходящим снаружи. Снег не оставался лежать на мокрой улице, задерживался только на капотах и крышах машин у тротуара.
– Пожалуй, я пойду, – сказала Ребекка.
– Пожалуйста, не надо! – взмолилась Джоан с неожиданной для Ричарда настойчивостью. Понятно, она очень устала. Наверное, новое жилище, поменявшаяся погода, хороший херес, струя приязни между ней и мужем, хлынувшая во внезапных объятиях, присутствие Ребекки – все вместе стало для нее неотъемлемыми частями этого волшебного мгновения.
– Нет, я пойду, ты такая уставшая!
– Побудь еще чуть-чуть, выкури сигаретку. Дик, налей еще хереса.
– Разве что капельку, – попросила Ребекка, протягивая свой бокал. – Кажется, я говорила тебе, Джоан, о парне, с которым встречалась? О том, выдававшем себя за метрдотеля?
Джоан хихикнула, предвкушая развлечение.
– Честно, нет, никогда не говорила. – Она закинула руку на спинку стула и продела пальцы между перекладинами, словно ребенок, старающийся оттянуть момент, когда его отправят спать.
– А как он это делал? Подражал метрдотелям?
– Он вообще был из тех, кто, выходя из такси и видя поднимающийся из решетки на мостовой пар, обязательно встает на четвереньки. – Ребекка втянула голову в плечи и вскинула вверх руки. – Мол, бойтесь меня, я сам дьявол!
Маплы посмеялись – не столько над самой историей, сколько над тем, как Ребекке удается изобразить выкрутасы своего спутника на контрасте со своей собственной скромностью. Они уже видели ее стоящей у дверцы такси и наблюдающей за спутником, который опускался все ниже, становился невольником собственной шутки, свивал пальцы в рожки, превращал пар у своих ног в пламя, отращивал копыта… Дар Ребекки, смекнул Ричард, был не в том, чтобы попадать в нелепые ситуации, а в умении изображать все, что она считает странным, в столкновении с собственным спокойствием. В ее изложении даже этот вечер мог предстать гротеском: «Мимо несутся галопом шестеро полицейских, а она как закричит: «Снег, снег!» и как начнет его тискать! Он в ответ твердит, что она больна, и накачивает нас хересом».
– Что еще он выкидывал? – жадно спросила Джоан.
– Когда мы с ним в первый раз куда-то пошли – это был большой ночной клуб где-то на крыше, – он перед уходом оттуда уселся за пианино и играл, пока арфистка не попросила его перестать.
– Та женщина играла на арфе? – потребовал уточнения Ричард.
– Ну да, тренькала себе… – Ребекка пошевелила пальцами, словно перебирая струны.
– Он что же, играл одну с ней мелодию? Аккомпанировал? – Ричард поймал себя на том, что задает вопросы каким-то сварливым тоном.
– Нет, просто сел и давай играть что-то совсем другое. Даже не знаю, что это было.
– Неужели так все и происходило? – не поверила Джоан.
– Потом мы перешли в другое место, там пришлось ждать у стойки, пока освободится столик. Смотрю – он бродит среди столиков и спрашивает людей, всё ли у них в порядке!
– Вот ужас! – ахнула Джоан.
– Конечно. Он и там потом бренчал на пианино. Мы были главным аттракционом. Где-то в полночь мы надумали отправиться в Бруклин, в гости к его сестре. У меня уже не было никаких сил. Мы вышли из метро на две остановки раньше, под Манхэттенским мостом. Вокруг никого, только черные лимузины снуют туда-сюда. Над нами, на высоте во много миль, – она подняла голову, словно глядела на облако или луну, – висел мост, а он твердил, что это надземная железная дорога. В конце концов мы нашли лестницу, и двое полицейских сказали, что нам лучше спуститься обратно в метро.
– Чем этот удивительный человек зарабатывает на жизнь? – спросил Ричард.
– Он школьный учитель. Большой умница! – Она встала и протянула длинную серебристо-белую руку. Ричард принес ее пальто и шарф и вызвался проводить до дома.
– Здесь меньше квартала! – запротестовала Ребекка, но без всякой настойчивости.
– Обязательно проводи ее, Дик! – потребовала Джоан. – Заодно купишь пачку сигарет. – Казалось, ей нравится мысль, что он побредет по снегу, словно она предвкушала, как он принесет домой вместе со снегом на плечах и с холодом на лице все ощущения от прогулки, раз она сама недостаточно здорова, чтобы выйти.
– Тебе бы перестать курить на денек-другой, – посоветовал ей Ричард.
Джоан на прощанье помахала им с лестницы.
Снег был виден разве что в свете фонарей, но все равно щекотал лицо.
– Теперь повалит по-настоящему, – сказал он.
– Да.
На углу, где зеленый сигнал светофора казался из-за снега голубоватым, он, видя, что она спешит переходить за ним на «зеленый» через Тринадцатую, спросил:
– Вы ведь живете на правой стороне улицы?
– На правой.
– Я запомнил, мы же везли вас сюда из Бостона. – Тогда Маплы жили на Восьмидесятых улицах. – Недаром мне запомнились большие дома.
– Церковь и училище мясников, – уточнила Ребекка. – Каждое утро, часов в десять, когда я иду на работу, ребята, будущие мясники, со смехом выбегают на перемену, а сами все в крови.
Ричард задрал голову и посмотрел на церковь. Шпиль с трудом можно было разглядеть на фоне высокого жилого дома на Седьмой авеню, с редкими освещенными окнами.
– Бедная церковь! – сказал он. – В этом городе шпилю трудно быть выше всего остального.
На это Ребекка ничего не ответила, даже своего обычного «да». Он почувствовал, что его склонность к проповедям неуместна. От смущения он привлек ее внимание к первому, что увидел, – к плохо освещенной надписи над большой дверью.
– «Профессиональное училище торговли продовольственными товарами», – прочел он вслух. – Между прочим, по словам соседей сверху, в нашей квартире когда-то жил оптовый торговец мясом, называвший себя «поставщик элегантной пищи». Вернее, там жил не он сам, а его содержанка.
– Вон те большие окна, – сказала Ребекка, указывая на верхний этаж богатого дома, – как раз напротив моих. Я смотрю туда через улицу и чувствую, что мы соседи. Там всегда кто-то есть. Понятия не имею, на что они живут.
Еще несколько шагов – и они остановились. Чуть громче обычного – так показалось Ричарду – Ребекка спросила:
– Хотите подняться? Посмóтрите, где я живу.
– Конечно. – Отказаться было бы противоестественно.
Они спустились по четырем бетонным ступенькам, открыли потертую оранжевую дверь, вошли в душный полуподвальный вестибюль и стали подниматься по деревянной лестнице. Посетившее Ричарда еще на улице подозрение, что он нарушает границу общественного сада вежливости, сменилось чувством очевидной вины. Мало кому доводится наслаждаться таким сладостным беззаконием, как подъем по лестнице следом за женщиной. Три года назад Джоан жила в Кембридже в четырехэтажном доме без лифта. Даже когда у них все превратилось в рутину, Ричард, провожая ее домой, не мог избавиться от страха, что хозяин выскочит из своей двери и разорвет его в клочки.
Отпирая дверь, Ребекка сказала:
– Как же здесь чертовски жарко! – впервые, насколько он помнил, употребив бранное словечко.
Она включила слабый свет. Под потолком тянулись балки – изнанка крыши, – нарезавшие пространство, где обитала Ребекка, на огромные призмы. Шагнув вперед, к Ребекке, Ричард обнаружил справа, там где косая крыша упиралась в пол, неожиданный уголок с двуспальной кроватью. Кровать была туго заправлена с трех сторон и походила не столько на предмет мебели, сколько на платформу, раз и навсегда обтянутую одеялом. Он поспешил отвернуться, но и на Ребекку сейчас смотреть не мог, поэтому уставился на два кухонных табурета, на железную лампу с чередующимися жирными рыбинами и штурвалами на абажуре, на книжный шкаф с четырьмя полками. Все это было достаточно непрочным и из-за близости к косой стене угрожало, казалось, вот-вот обрушиться.
– Вот она, печь над холодильником, – сказала Ребекка. – Я, кажется, рассказывала. Или нет?
Духовой шкаф был гораздо крупнее холодильника и опасно громоздился над ним. Ричард провел пальцем по его белому боку.
– Очень миленькая комната, – проговорил он.
– А вот и вид, – сказала она.
Он встал с ней рядом у окна, отодвинул занавески, посмотрел через видавшее виды стекло на окна квартиры напротив.
– Ну и здоровенное у них окно! – протянул он. Она издала короткий утвердительный звук.
В квартире напротив горел свет, но там было пусто.
– Прямо как мебельный магазин, – сказал он. Ребекка еще не сняла пальто. – А снег все сильнее!
– Так и есть.
– Так что… – он сказал это излишне громко, а закончил, наоборот, еле слышно, – спасибо, что позволили взглянуть. Я… вы прочли это? – Он указал на томик «Тетушки Мейм»[2] на пуфике.
– Еще не успела.
– Я тоже. Знаком только с отзывами.
С тем он и пошел к выходу. Там поступил совсем смешно – оглянулся. Только у двери, как он потом решил, ее поведение стало совершенно непростительным: она не только подошла к нему ближе, чем требовалось, но и перенесла всю тяжесть тела на одну ногу, наклонила вбок голову и уменьшилась в росте на несколько дюймов, сделав его положение доминирующим, да еще для пущей пассивности спрятала лицо в тени от балки.
– Что ж… – пробормотал он.
– Что ж… – тут же повторила она за ним, возможно, без всякого умысла.
– Главное, не п-попадайтесь под руку мясникам. – Запинка, конечно же, погубила шутку, и ее смех, начавшийся в ту секунду, когда она увидела по его лицу, что он сейчас скажет – или сделает? – что-то забавное, отзвучал раньше, чем он закрыл рот.
Пока он спускался по лестнице, она стояла, держась за перила, и смотрела на ступеньки у него под ногами.
– Спокойной ночи.
– Спокойной!.. – откликнулся он и поднял глаза, но она уже ушла в свою комнату.
А их разделяло несколько ступенек!..
Обхаживание жены
О, любовь моя! Да. Вот мы сидим на широких теплых половицах перед камином, полумесяц семьи, между нами дети, сидим и едим. Мы с дочерью делим на двоих полпинты жареной картошки, ты и сын тоже; а посередине, ни с кем не делясь, а просто погрузившись в свои бесхитростные размышления, восседает в своем детском кресле наш малыш, сосет из своей бутылочки с хмурым мастерством, и его самовлюбленные задумчивые глазенки отражают блеск из самой сердцевины пламени. И ты. Ты. Ты позволяешь, чтобы твоя юбка, та черная юбка, в которой этим утром ты с нежной женственной отвагой садилась на велосипед и уплывала играть заковыристые гимны на старом пианино в воскресной школе, – ты позволяешь этой черной юбке соскальзывать с приподнятых колен вниз по бедрам, подчеркивать абсолютную географию твоего тела, так что теплу камина и моему взору предлагается параллельная белизна бедер, их внутренняя округлость. Ах да, у Джойса есть как раз такая строчка, я пытаюсь раскопать ее в легендарных, недоисследованных пещерах «Улисса»: хлопанье подвязки порадовало Буяна. Там сказано «звонкохлопнула»: «Тугая подвязка звонкохлопнула по зовущему похлопать тепложенскому тугому бедру». Как-то так. Надо же такое уловить: «звонкохлопнула по тепложенскому…» Как прекрасно чувствовать занимательную и мощную, необъяснимую и совершенно волшебную внутреннюю жизнь языка! Не всякий додумается, что если к «man» прибавить «wo», то получится «woman»[3]. В этом все различие: широкое «w», восприимчивое «o». Утроба[4]. Дети в нашем семейном полумесяце, кажется, выходят из тебя и движутся ко мне, влажные пальцы и глаза, тусклая бронза. Три ребенка, пять человек, семь лет. Семь лет с тех пор, как я женился на желанной жаркой женщине с такой же ж… то есть с белыми бедрами. Обхаживание завершилось женитьбой. Жена. Слово-нож, острое, кладущее конец всему, кроме обхаживания. К моему жестокому изумлению.
Мы поедаем мясо, мясо, которое я вырвал из грубых рук продавщицы гамбургеров в закусочной в миле от нас, в свирепом месте, в жиру и в хроме; угрозой мне были там грязные шутки молодых хищников, старики тянули ко мне свои бурые от кофе лапы; я спрятал бумажник и был таков. В холодной машине бок мне согрел пухлый коричневый пакет с булочками; еще горячее был пакет поменьше, с двумя коробками жареной картошки. Быстрее назад, через черный зимний воздух – к камину, в наше сокровенное пристанище, где меня встречают радостными приветствиями и где голова оленя с разинутым ртом и трепещущим шелковым горлом придавливает мои плечи мертвой тяжестью. А теперь ты, ты рядом с белым «О» тарелки, на которую дети с омерзением выбросили прозрачные кружочки лука, извлеченные из гамбургеров, – пальцы твоих ног подползают ближе к теплу, пепельная белизна внутри твоего бедра лениво оголена, вечная резиновая подвязка звонкохлопает по моему тепломужскому сердцу.
Кто бы мог подумать, желанная жена, в том белом церемониальном трепете (уголком глаза я видел тогда, глухой к зловещему хору поздравлений, как трепещет свадебный букетик у тебя на талии), что все эти семь лет, все эти жаркие постели не уведут нас прочь от того трепетного начального момента? Клетки обновляются раз в семь лет, но глубже, в атомах, существует, судя по всему, поразительная непрерывность; можно подумать, что Бог желает обновления всей вселенной в каждое мгновение (о Боже, Боже всемогущий, великий друг моего детства, я тебя никогда не забуду, какие бы ужасные вещи ни приходилось слышать. Говорят, например, что круглые окна-розетки в церквях символизируют влагалище). Твои ноги полностью оголены, как будто ты сидишь в купальнике, они погружены в янтарную влагу тепла. Что ж, начинай. Зеленый огонек выскакивает из сгустка смолы на полене, из застывшей слезинки, оранжевые тени на потолке обретают новую жизнь. Начинай.
– Помнишь медовый месяц? Отсвет керосинового обогревателя на потолке как большое окно-розетка.
– Мм-м… – Ты стискиваешь коленями подбородок, втягиваешь все, что только можно втянуть. Наверное, тебе не хочется это вспоминать: пятна крови, неуклюжесть и все такое. – Было холодновато для июня.
– Какая вата, мамочка? Что ты говоришь? – спрашивает дочка, выговаривая слова с сердитой отчетливостью. Она так старается не запинаться, что мы покатываемся со смеху.
– Я про дом, где мы с папой однажды остановились.
– Мне невкусно, – говорит сын и швыряет на пол обкусанную, вымазанную зеленой горчицей булку.
Ты поднимаешь хлеб и произносишь с чудесной мрачноватой мечтательностью:
– Это же надо! У остальных тоже горчица?
– Мне не ндавится! – не унимается мальчишка. Ему два года, и язык для него, как толстые, но все время ускользающие поручни: он цепляется за них, как может.
– Держи. Пусть берет мой. Дай мне его гамбургер. – Я передаю свой гамбургер, ты берешь, он принимает, о благодарности нет и речи. Никакой признательности за мой героизм, а ведь я принес воскресный ужин домой и спас тебя от стояния на кухне. Ты хитрая, ты чувствуешь это и чувствуешь, что я чувствую, что ты это знаешь, что я надеялся направить твою энергию на более важное занятие. Мы чувствуем все, что происходит между нами, любое дуновение, вплоть до несуществующих; это утомляет. Ухаживание за женой отнимает вдесятеро больше сил, чем завоевание дуры-девчонки. Огонь принимается за клочки газеты, шрифт, несший какое-то послание, бледнеет на глазах и шныряет в дымоход. Ты натягиваешь юбку на колени, обхватываешь руками ноги. Поленья со свистом испускают дух, малыш досасывает содержимое своей бутылочки и, испытывая отвращение от попавшей в соску пены, с плачем роняет ее на пол. Рот маленького эгоиста широко разинут, от недавнего довольства нет и следа. Ты берешь его на руки и встаешь. Ты любишь малыша больше, чем меня.
Кто бы подумал после того кровопролития, что барьер останется в целости, что ты будешь всякий раз исцеляться, превращаться в девственницу? В высокую, светловолосую, непонятную, далекую, вежливую деву.
Мы укладываем детей спать в обратной зависимости от их возраста. Я бесконечно терпелив, сама доброта, образцовый папаша. Но тебе все понятно. Мы наблюдаем, как огонь охватывает бумажные пакеты и картонные упаковки, брошенные на дышащую подушку углей; читаем, смотрим телевизор, хрустим крекерами – не важно, что мы делаем. Уже одиннадцать. Одно колющее мгновение ты стоишь на коврике в спальне в трусиках, надевая ночную рубашку; о, тучная белая сладость, тучная тучность. В постели ты читаешь. Про Ричарда Никсона. Он тебя завораживает; ты его ненавидишь. Ты знаешь, как он разгромил Джерри Вурхиса, как преследовал миссис Дуглас, как матросом резался в покер, хотя был квакером, – каждую мелочь, каждую низость, каждый шаг приспособленчества. Боже, пусть бедняга тоже ложится спать, никто из нас не совершенен.
– Может, выключим свет?
– Подожди. Сейчас он добьется осуждения Хисса[5]. Как странно! Тут сказано, что он вел себя достойно.
– Нисколько в этом не сомневаюсь. – Я тянусь к выключателю.
– Нет, дай дочитать главу. Уверена, в конце будет интересно.
– Милая, у Хисса рыльце было в пушку. Все мы грешники. Зачатые в похоти, мы умираем нераскаявшимися. – В кои-то веки тебя пронимают мои цветистые речи.
Я прижимаюсь к твоей гладкой изогнутой спине. Сонная, ты читаешь, лежа на боку. Я вижу сквозь твою прядь страницу книги, белую и четкую, как грань кристалла. Все, ее больше нет, книга выпала из твоих рук, ты уснула. Какая хитрость! Я размышляю в темноте. Хитрость за хитростью! Фары проезжающих машин обдают полосами света наши стены и потолок. Большое круглое окно-розетка вырисовывалось на потолке: это светила вверх через прорези-лепестки черная керосиновая плита, водруженная нами тогда посередине комнаты. Когда огненное кольцо колебалось, дрожала и большая гибкая звезда из переплетенных полутеней, словно она была соткана из шелка и дышала на ветру. Цветом она смахивала на кровь. За свои мирные дома мы платим дорого, кровью.
Поутру ты, к моему облегчению, выглядишь уродиной. За пресным завтраком, в бледном свете понедельника, ты предстаешь прыщавой, твоя пышность теперь отталкивает, халат смотрится болтающейся запятнанной тряпкой, грудь в вырезе приобрела землистый цвет, кожа между грудями и подавно желтеет тоскливо. Глотая кофе, я мысленно пью за твою дряблость, каждая морщинка, каждый болезненный оттенок для меня облегчение и сладкая месть. Дети ноют. Тостер барахлит. За семь лет эта женщина износилась.
А мужчина мчится на работу, вступает в схватку за право преимущественного проезда, балансирует на самом краю разрешенного предела скорости. Из домашней мути, вялости, бледности, безволия – в город. Камень – вот его епархия. Выбивание звонкой монеты. Маневрирование абстракциями. Принуждение неодушевленных предметов к работе. О, безжизненные, твердокаменные радости труда!
Я возвращаюсь с перекрученными в машине мозгами. Из головы не выходит всякая всячина, которую пришлось бы растолковывать тебе не одну неделю; весь вечер я слеп, меня преследуют обрывки фраз и цифр. Ты подаешь мне ужин, как официантка, даже меньше чем официантка, я ведь с тобой знаком. Дети робко прикасаются ко мне, как к торчащей балке, прикрученной к конструкции непостижимой для них высоты. Постепенно они засыпают. Мы проводим время в спокойной, не сходящейся параллельности. Мои мысли хронически прямоугольны, им не вырваться из замкнутых схем, из-за решетки профессионализма. Ты шуршишь книгой про Никсона; пропадаешь наверху, среди горячих труб, издающих мерзкий вой. У себя в голове я нахожу, наконец, залипшую кнопку, жму на нее, но без толку, жму и жму. У меня кружится голова. Мне тошно от сигарет. Я бесцельно кружу по комнате.
Как же я удивлен, когда в полное смысла время, в десять вечера, ты ловишь меня на моем очередном повороте влажным, быстрым, девичьим поцелуем с запахом зубной пасты; ожидаемый подарок, дарить который уже не стоит.
Родная кровь
Маплы были женаты уже девять лет, почти перебор.
– Черт бы все это побрал, черт бы побрал!.. – говорил Ричард своей жене Джоан по пути в Бостон, куда они ехали на переливание крови. – Я езжу по этой дороге пять раз в неделю, и вот опять! Кошмар какой-то! Я совершенно вымотан – эмоционально, умственно, физически. К тому же, она мне даже не тетка. Тебе она и то не тетка.
– Вроде как дальняя родственница, – уточнила Джоан.
– Проклятие, у тебя вся Новая Англия ходит в дальних родственниках, мне что же, весь остаток жизни потратить на спасение их всех?








