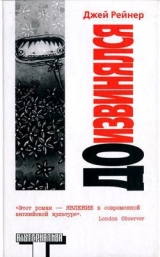
Текст книги "Доизвинялся"
Автор книги: Джей Рейнер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц)
Люк перевел взгляд на тарелку.
– Нормально. Тушеный бычий хвост.
– Хорошо. Вот видишь? Если бы я судил о здешней кухне только по моему блюду, вышло бы несправедливо.
– Линн права. Ты заболел.
– Чушь. Я просто отказываюсь принимать, что поступать следует только так, как мы всегда поступали. – Я помешкал. – Кстати, на чем я остановился?
– Э… на извинениях за ту пытку визгом, которую я считал истерикой.
– Нет, не считал. Ты пытался меня убить.
– Ладно. Тогда я, может, тебя ненавидел, но теперь мне все равно. Это зовется личной историей. Ее не перепишешь.
– Согласен, не перепишешь. Но ее можно пересмотреть. С историческими событиями сплошь и рядом такое проделывают. Справедливые войны становятся несправедливыми. То, что казалось разумной политикой, полвека спустя превращается в возмутительную. Почему нельзя переоценить историю отдельных людей?
Свиной желудок унесли и заменили его стейком и пирогом с почками, обещавшим темную поджарку под золотистым куполом слоеного теста. Я надрезал верхнюю корочку, и к потолку поднялся столб пара. Я попробовал несколько кусочков стейка.
– Вот дрянь!
– В чем дело?
– Подливка пресная. – Я прожевал еще кусок говядины. – И мясо недодержали.
Люк поднял руки.
– Видишь? Ресторан просто хлам. Давай признавай поражение.
– Обслуживание хорошее. Хлеб неплох. И в тесте на салфетку он получил четыре балла. А это ведь что-нибудь да значит. Передай меню.
У Люка вырвался слабый стон, эхо того воскресного много лет назад. Я выбрал филейный стейк с кровью под беарнским соусом и картофель во фритюре. К тому времени, когда заказ принесли, тарелка Люка опустела. Он хищно смотрел, как я разрезаю карамельно-коричневое мясо. Оно мягко поддалось под ножом, завернулось, открывая блестящую пурпурную внутренность. Это был фантастический стейк. Наконец-то для смерти коровы нашлась веская причина.
– Ну, видишь? – сказал я, счастливо нарезая мясо. – Я знал, что это место хотя бы на что-то годится.
– Это стейк. Тебе пожарили на гриле стейк, а ты хочешь выдать им медаль?
– Простые вещи труднее всего сделать как надо.
– Нет, не труднее. Их проще всего сделать как надо.
– Это всего лишь цинизм, Люк.
– С меня хватит. Я попрошу счет и смирительную рубашку.
Глава девятая
Позже, вернувшись к себе, я прикончил хрупкий запас «Манжари» из Ящика Порока и налил себе солидную порцию водки. Линн не было дома: она устраивала чтения для банды мрачных чешских писателей и раньше полуночи домой не вернется. Квартира была в моем распоряжении. Включив компьютер и расправившись с шоколадом, я подержал водку во рту, чтобы избавиться от последнего послевкусия на языке. Пришло время писать.
Марк Бассет представляет
Как-то я заявил в этой колонке, что поданное мне блюдо похоже на собачьи консервы, только без вкусовых добавок. Про другое я сказал, что оно, возможно, будет вкуснее на выходе из тела, чем при входе в него. Я употреблял такие выражения, как «сточные воды», «жидкий цемент» и «токсичные отбросы». Однажды я призвал привязать шеф-повара к столбу посреди рыночной площади (к любому столбу на любой рыночной площади) и закидать его порциями липкого картофельного пюре его приготовления. Другому я предложил попробовать зажарить на гриле собственные почки, чтобы посмотреть, не станет ли он относиться к злополучному органу с большим уважением. Совсем недавно я выступал за то, чтобы шеф-повара приговорили к смертной казни за преступления против пиши, в которых он повинен.
Все это я писал отчасти потому, что мне действительно были противны блюда, которые мне подавали, но в основном потому, что верил: моя работа ресторанного критика заключается в том, чтобы служить вам, читатели, – не обязательно предоставляя информацию, но неизменно развлекая. Судя по числу приходящих мне писем, у меня была веская причина полагать, что вы, как столпившиеся вокруг гильотины парижане, по достоинству оценили эти внезапные вспышки поношений.
Теперь я понимаю, что плохо служил вам. Возможно, жестокость способна на минуту нас развлечь, но это преходящее и в конечном итоге скудное удовольствие: крохотное в сравнении с наслаждением от хорошей и принятой с комфортом пиши. Я пришел к выводу, что мне следует подбирать вам побольше вкусных блюд и поменьше жестоких шуток. И потому с сего момента в этой колонке вы не встретите больше ничего негативного. Если я стану рассказывать вам про ресторан, то только потому, что там хорошо кормят. Если я буду упоминать блюдо, то только потому, что его стоит попробовать. Жизнь слишком коротка, чтобы растрачивать ее на низкокачественное. Я же стану выискивать для вас только алмазы в тоннах породы, а это, кстати, подводит меня к «Камере высоко подвешенных туш» в Смитфилде…
Закончил я несколькими восторженными словами про мой стейк и бычий хвост Люка. Распечатав, я накарябал сверху «Линн, прогляди, если будешь сколько-нибудь трезвой» и пошел спать. Это стало последней ресторанной рецензией, которую я написал за долгое-долгое время.
– Он тебя выгонит.
– Нет, не выгонит.
– Он тебя выгонит.
– Ты не Хантер.
– Нет, я с тобой живу, и все равно я бы тебя выгнала.
– Это в тебе говорит похмелье.
– Это говорит твоя женщина, а похмелье ей помогает.
– Почему он меня выгонит?
– Потому что твоя колонка станет скучной.
– Что скучного в хороших ресторанах?
– Ничего. Рецензии на них скучны.
– Не обязательно.
– Нет обязательно. Дело в том, каков ты сам. Ты лучше пишешь, когда с тобой случается что-то неприятное. Счастливый, ты становишься неуклюжим и нудным, во всяком случае, на бумаге.
– Может, я всегда был таким. Может, я просто научился ценить приятное.
– Это не ты, Марк. Все это на тебя не похоже.
– Может, тебе просто не нравится сама мысль, что я расту над собой…
– И что? Находишь путь к себе? Послушай, если тебе покажется, что ты переживаешь второе рождение, дай мне знать, чтобы я подстелила полотенца.
– Все извинения, которые я принес, потеряют свою цену, если я и дальше буду писать гадости. Я только создам новых жертв, у которых придется просить прощения. Какой в этом смысл?
– Ну, вот теперь мы к чему-то пришли.
– Ты это к чему?
– Ты сам сказал. Какой смысл извиняться? Ты сам задал вопрос.
– Нет, я всего лишь сказал…
– Ты сказал «какой смысл?». Я тебя расслышала, и ты прав.
– Дело… Дело в том, чтобы загладить причиненное зло.
– Нет, не в этом. Ты упиваешься извинениями. Просто опять ищешь острых ощущений.
– Опять?
– С тобой всегда так было. Ты изображаешь невозмутимость, отсутствие эмоций, но на самом деле кидаешься из крайности в крайность.
– Нет, не кидаюсь.
– Стопроцентно. Марк Бассет непривлекателен. Марк Бассет не может найти, с кем переспать. Марк Бассет ненавидит тот ресторан, Марк Бассет обожает этот. Марк Бассет лучший писатель. Боготворит покойного отца…
– Линн!
– Ладно. Удар ниже пояса. Но отчасти я права. У тебя докторская степень по жалости к себе и восторгам по поводу себя любимого. Никакой половинчатости. А теперь ты подсел на извинения потому, что они тебе кружат голову. Хочешь скажу, почему на самом деле нужно переписать эту заметку? Потому что, если и впредь поливать рестораны дерьмом, это даст тебе еще уйму людей, перед которыми можно извиняться, а тебе как раз того и надо.
– Без толку переписывать.
– Почему?
– Она уже в газете. Я отослал ее вчера вечером.
– Замечательно. И фразу «Прошу уволить меня немедленно» внизу приписал? А ведь мог бы. Почему бы тебе не послать им заявление по электронной почте? Давай же. Нажми кнопку самоуничтожения. «Дорогой Роберт Хантер, мне больше не нужно место в газете. Искренне ваш Марк Бассет…» Марк! Марк, ты меня слушаешь? Марк!
В углу комнаты беззвучно работал телевизор. Я вперился в него, чтобы не встречаться глазами с Линн, но теперь меня приковало происходящее на экране. Шли новости, и хотя звук был отключен, было ясно, что передают репортаж про сотрудников международных гуманитарных организаций, которых взяли в заложники на русско-грузинской границе, и про попытки их семей заставить правительства своих стран сделать что-нибудь для их освобождения. Я уже однажды видел интервью с толпой родителей и родственников: серые от тревоги и недостатка сна безвольные лица; стиснутые зубы, головы внимательно наклонены к интервьюеру; матери моргают, пытаясь не плакать. На сей раз они стояли у массивных дверей Форин-офис, министерства иностранных дел Великобритании на Кинг-Карл-стрит в Уайтхолле, где предположительно с ними только что встречались представители правительства, которые старались (но безуспешно), чтобы их речи звучали успокоительно.
Но заинтересовали меня не они, а женщина, быстро идущая к подъезду за их спинами, та самая женщина, которая показалась мне знакомой в репортажах о переговорах по репарациям за рабство в Алабаме несколько дней назад. Сейчас я действительно ее узнал. Я ткнул пальцем в экран.
– Посмотри, как она держит перед собой книги.
Линн раздраженно повернулась к телевизору.
– Кто?
– Вот эта. Идет на камеру. Посмотри. Это она. Разве ты не помнишь? Именно так она ходила в университете. Книги. Высоко перед грудью, будто защищается. Прячется.
– Нет, не прячется.
– Да, прячется. Это…
– Ну и что с того, если это она? Какая разница? Никакой!
– Сама знаешь, что большая. Сама знаешь, что я ей сделал. Сама знаешь, что случилось.
– Ты уверен, что тебе следует говорить об этом со мной?
– Если мне и надо перед кем-то извиниться, то перед ней обязательно.
– Черт, Марк, я так больше не могу. С меня хватит.
Дженни Сэмпсон. Один звук ее имени вызывает у меня отвращение к самому себе. Мы вместе поступили в университет Йорка, где оба изучали политику: она напряженно, я с напускным легкомыслием. За два года и семь месяцев мы едва обменялись парой слов, хотя часто оказывались в одной маленькой семинарской группе. Встречаясь в кампусе, мы находили повод смотреть себе под ноги, или на деревья, или куда-нибудь еще, но только не друг на друга, так как устали от бесконечных «привет» с натянутой улыбкой. Она была впечатлительной и серьезной и хотя силилась следовать последней моде, всегда что-нибудь выбивалось из стиля – ужасно практичные туфли или бежевая кофта поверх топа на молнии – и тем самым выдавало, что на самом деле ей все равно. У нее был прямой узкий носик, изящные губы, и она не красилась. Я всегда считал, что она чересчур поглощена собой.
Потом однажды утром она ни с того ни с сего пришла мне на помощь. Тянулся семинар по Парижской коммуне, и я доказывал, что в ее истоках была не какая-то там тяга парижан к равенству, а их чувство превосходства и ненависть к остальной Франции, что решение выйти на баррикады было всего лишь крайней формой антикосмополитизма. Парижане просто ненавидели всех остальных. Прекрасная теория за исключением одного: я вообще ничего по Парижской коммуне не читал, и подкрепить свои постулаты мне было нечем. Я придумал ее на ходу, потому что мне наскучило слушать руководителя семинара, надоедливого человечка, упорно называвшего всех товарищами. Он утверждал, что коммуна выросла из искренней веры в непоколебимую логику организованного равенства, и, хотя я присоединился бы к его мнению, меня раздражало самодовольство руководителя. Я продержался пять минут, и, когда уже готов был признать поражение, величественно вступила Дженни. Она ссылалась то на одну, то на другую монографию по истории Парижа. Она цитировала Расина и Гюго. В ужасающих деталях она описывала механизм французского местного самоуправления. Но поразила меня последняя фраза:
– Как писал в своей новаторской истории французского народа Бокьюс, Париж это не место, а состояние ума и идентифицирует себя исключительно по тому, чем он не является. А не является он Францией.
Повисла тишина. У руководителя дернулся нос. Руководитель им шмыгнул, потом поглядел на часы и сказал, что встретимся через неделю.
После, на улице, где ветер злобно свистел в каменных каньонах современного кампуса, я поблагодарил Дженни.
– Но последняя цитата. Где ты ее выкопала? Кто такой Бокьюс?
Прикусив нижнюю губу, она застенчиво потупилась.
– Поль Бокьюс.
– Шеф-повар Поль Бокьюс?
Она кивнула.
– Он написал монографию по истории?
Дженни покачала головой.
– Нет, я ее придумала. Мне нужно было что-то, чтобы утереть нос этому засранцу.
Я улыбнулся. В устах Дженни Сэмпсон слово «засранец» показалось гораздо резче, грубее и злее обычного.
– Поэтому ты выбрала великого французского шеф-повара?
– Я читала на ночь одну его книгу, и это была первая фамилия, которая пришла мне на ум, и… ну…
– Ты читаешь поваренные книги?
Она покраснела.
– У меня такое хобби.
– Серьезно? Поверить не могу. Я думал, я единственный, кто…
На следующий вечер она пришла ко мне с простым и довольно мило приготовленным луковым пирогом. (За мной было главное блюдо из утки, которую я пожарил на ее собственном жире в горшочках.) Мы обедали, она рассматривала мою коллекцию поваренных книг, и, наконец, у раздела мясных блюд, мы поцеловались. После все должно было бы стать просто и прямолинейно. Последовала бы серия незамысловатых маневров, которые легко бы привели к тому, что мы переместились бы в горизонтальное положение, потом от одетости перешли к раздетости, от возбуждения – к истощению. И принимал бы в них участие мужчина, который не был мной.
Я не случайно в двадцать лет оставался девственником. Девственность была частью меня, как мои измученные стопы и громоздкие ляжки, и неспособность избавиться от нее уходила корнями в тот кошмарный вечер с Венди Коулмен, когда она попыталась и не сумела найти искомого. Воспоминания были такими тягостными, что два года спустя, когда представилась хотя бы возможность секса, я пришел в такой ужас, что не сумел выжать из себя требуемой упругости, так и остался безнадежно мягким.
Это второе унижение привело к третьему и к четвертому и так далее, пока я (вполне логично) не поймал себя на том, что сторонюсь женщин, если только не напился до омерзения, а тогда уже я сам никого не привлекал. Я не был импотентом. Наедине с собой у меня проблем не возникало, а занимался рукоблудством я довольно часто – иногда в ущерб здоровью. Некоторое время я даже подумывал, а не голубой ли я. Преодолев мучительную неловкость, я купил гей-журнал в маленьком киоске на Кингс-кросс и быстро обнаружил, что это не для меня. Иллюстрации были неожиданными, информативными и полными розовой плоти, но нисколько не возбуждали. Если мысль о сексе с другими мужчинами меня не заводила, когда я был один, то уж точно ничем не поможет, когда я буду с кем-то. Значит, гомосексуализм отпадает. Девственность опутала меня, липла ко мне как дурной запах. К тому времени, когда появилась Дженни Сэмпсон, я уже отчаялся.
Но за ужином в тот вечер у меня вдруг появилась уверенность, что Дженни, возможно, та самая. Все казалось как надо: сама ситуация, очевидная общность интересов, отчаянный клинч на моей импровизированной постели из брошенных на пол двух одинарных матрасов. И тут я, разумеется, запаниковал. Не может же опять сорваться? Или может? Как обратить провал в победу, когда самая важная часть уравнения, я сам, нисколько не изменилась? Я поймал себя на том, что произношу Речь…
– Мне просто хочется, чтобы ты знала, сегодня мы сексом заниматься не будем.
– Не будем?
– Нет. Просто не будем, и все, только не в первую ночь. Никогда такого не делал и никогда не буду. Считается, ну, знаешь, что мужчины обязаны себя проявить. Что мы по звонку должны выдать, как на заказ, внушительную эрекцию, а женщины, ну, они просто могут лежать и надеяться, что все получится само собой, а если нет, то что с того.
– Правда?
– Да, многие так считают. А мне это кажется эксплуатацией, хотя сомневаюсь, что кто-то возьмется начать какую-либо кампанию. «Спасем мужчин от деспотизма эрекции» – не самый подходящий лозунг для митинга, верно?
– Пожалуй, нет.
– В том-то и загвоздка. Ты, возможно, сумеешь подделать оргазм, но мужчины, понимаешь, мы-то эрекцию подделать не можем, правда ведь? Вы всегда выводите нас на чистую воду, поэтому дело в том… ну… я просто хотел сказать… вот как у нас будет сегодня ночью и…
Она улыбалась. Потом подняла руку смахнуть несколько непокорных прядей у меня со лба и сказала:
– Все в порядке, Марк. Просто полежим вместе. Это приятно. Это чудесно. – И опять меня поцеловала.
Разумеется, через полчаса я стал мужчиной.
Глава десятая
Первое слово, которое я сказал Дженни, когда мы проснулись утром, было последним, которое всплыло у меня в сознании, когда я засыпал прошлой ночью. И было это: «Спасибо». Меня переполняла благодарность.
Чуть отстранившись, но не вставая, она, зевнув, ответила:
– Не за что, – будто всего лишь принесла мне попить.
Мы договорились встретиться между лекциями в «Подвальном баре», скудно освещенной кофейне студенческого клуба, где пахло затхлой едой и свежим кофе и куда прогульщики, влюбленные или терзаемые похмельем ходили прятаться от дневного света. Вдоль стен тянулись кабинки с высокими перегородками – идеальное укрытие. Если отодвинуться подальше в тень, никого не увидишь, и тебя никто не увидит, вот почему большинство студентов любило «Подвальный бар». Вот почему мы с Дженни решили там встретиться. Нам понравилась мысль, что мы будем сидеть рядом в тесном закутке, объединенные общей удивительной тайной. Я пришел раньше времени, заказал у стойки и забрал кофе и как раз направлялся к дальней кабинке, когда кто-то окликнул меня по имени:
– Вали сюда, маркий Марк.
Отозваться на эти слова и пойти дальше было бы нетрудно. Просто поднять приветственно руку и сделать еще десять шагов к дальней кабинке. В «Подвальном баре» было не принято навязываться. Но времени у меня было слишком много, а время – враг решимости. Именадвух окликнувших меня ребят теперь уже не имеют значения. Просто два гипергормональных самца, крупные хищники студенческой саванны, раздувающие ноздри в предвкушении доступных феромонов. Я инстинктивно знал, что если сяду с ними, то разговор скоро перейдет на вездесущие проблемы секса. Ведь для этих якобы мужчин сексуальные победы приравнивались к победам в спортивных матчах, и те, и другие они сдабривали собственными комментариями. А я слишком часто оказывался в роли безвольного лжеигрока. Сколько раз я сидел в таких кабинках, слушая пьяные разговоры о сексе, ухмылялся особым знающим смешком или вставлял шпильки, чтобы не быть выброшенным из круга «своих», но и не оказываться в центре внимания.
Тем утром все было иначе. Ведь начиная с прошлой ночи я (как выразился бы мой врач) сексуально активный самец.
– Вы сексуально активны, молодой человек?
– Конечно, доктор. Да, активен. Я очень активен. Так уж вышло, я был сексуально активен прошлой ночью, спасибо за заботу.
Я заслужил место в их кабинке. Я вправе присоединиться к стае в саванне. А потому скользнул на нагретую, обитую кожзамом банкетку, стрельнул покурить и отпил кофе. А разговор все тек, глупая болтовня о боеспособности и боеготовности, и в какой-то момент, подбодренный успехом, я к ней присоединился. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что треп разливался полноводной рекой с собственными притоками и разветвлениями. Я до сих пор вижу те развилки, где мог бы направить его в другое русло, потоки, из которых я вышел ни в чем не повинным и незапятнанным. Но правда в том (и сейчас я это признаю), что мне того не хотелось. Мне хотелось, чтобы эти мальчишки знали, что я один из них. Мне хотелось, чтобы они слышали, как я похваляюсь сексом. И больше всего мне хотелось, чтобы они услышали, как я похваляюсь сексом с Дженни Сэмпсон. Мне нужно было, чтобы они про это знали, так как, преданные огласки, мои переживания и достижения как будто становились реальнее. Разумеется, в отчаянной погоне за этой реальностью я был вполне готов приврать.
Когда один спросил: «А Дженни Сэмпсон кричит?», я ответил утвердительно, хотя по пошлой ночи помнил только ее теплое дыхание у меня на шее и гудение холодильника.
Но я уже распустил хвост, переписывал случившееся под себя, подхваченный собственной сказкой:
– Она вопила, – сказал я. – Я даже подумал, кто-нибудь вызовет полицию, так она расшумелась. Честное слово, я так волновался, что…
Мне понадобилось несколько секунд, чтобы заметить, что их взгляды поднялись от мультяшной хари, какой, наверное, казалось мое лицо, куда-то мне за плечо. Их похотливые улыбки сползли, сменившись гаденькими ухмылками. Я сказал:
– Что? В чем…
– Привет, Дженни, – весело сказал один из них.
– Да, привет, – с готовностью вступил другой. – Мы как раз о тебе разговаривали.
Я обернулся.
Дженни стояла у конца стола, крепко прижимая к груди стопку книг. Она моргала, и даже в полумраке я видел, как на глаза у нее наворачиваются слезы. Бог знает, когда она пришла в «Подвальный», как давно слушала. Она могла сидеть в соседней кабинке, прислонясь головой к перегородке. Но сколько бы она тут ни провела, этого хватило. Недоросли у меня за спиной захихикали.
Я выдавил приветственную улыбку.
– На самом деле мы говорили просто про…
Но без толку. Он шмыгнула носом, моргнула, так что восхитительно затрепетали ресницы, и одними губами произнесла «сволочь». На том Дженни Сэмпсон повернулась и убежала.
До окончания учебы мы не сказали друг другу ни слова.
Когда наконец кого-то узнаешь, трудно взять в толк, как ты мог не замечать этого человека. Глядя, как Дженни сейчас идет в мою сторону по пустому гулкому коридору к выходу из Форин-офис, я чувствовал себя нелепо, настолько она была сама собой. Как я мог ее не узнать? Да, дорогой шорох модельных свободных черных брюк и черного пиджака, возможно, никак не вязался с той Дженни Сэмпсон, которую я знал. Да, тишину плоских подошв сменило цоканье точеных шпилек, выстукивающих уверенный ритм по шахматным плитам. Но все это не скрывало сути. Она оставалась прежней Дженни Сэмпсон, женщиной, которую я унизил.
Я явился без предварительной договоренности около часа дня, исходя из того, что ей понадобится выйти на ленч. Если я не смогу к ней подступиться, мой великий план (а правду сказать, дальше этого он разработан не был) заключался в том, чтобы оставить мой номер телефона в надежде, что она позвонит. Обошлось. Секретарь на ресепшн отрезала:
– Мисс Сэмпсон сейчас спустится.
И вот она собственной персоной: бездушная и деловитая. Она протянула мне руку для пожатия, точно мы условились о встрече, и сказала:
– Я иногда читаю твою колонку. Ты свое дело знаешь, но иногда излишне жесток.
– Да, ты права. Я пытаюсь исправиться. Вот почему я…
– Пойдем пройдемся, – прервала она, кивая на яркий прямоугольник дневного света в проеме открытой двери. – Мне нужно доставить пакет.
Она показала желтый пакет, а потом повернулась и широким шагом вышла во внезапный шум оживленной лондонской улицы. Я поспешил ее догнать, чувствуя себя неуклюжим и нерешительным на фоне ее собранности.
– Я начал говорить о том, зачем пришел.
– Да? – довольно нетерпеливо.
– Я хотел поговорить про нас… нет, про себя. Про то, что тогда сделал.
– Продолжай.
– Хорошо. Да. Ладно. Дело в том, что я думал о… ну знаешь… о нашей учебе в Йорке и о том, как я… ну, солгал про тебя. Это были ужасные, гадкие слова, жестокие, мерзкие и бездушные, и сегодня я пришел, потому что хотел попросить прощения. Я не рассчитываю, что ты просто примешь мои извинения, но…
– Хм.
– …тем не менее мне показалось, что это нужно сделать.
Теперь мы шли быстро: уставившись прямо перед собой, она прокладывала себе дорогу во встречном потоке пешеходов, а я почти бежал вприпрыжку, чтобы не отставать. У меня появилось такое ощущение, будто я пытаюсь продать ей что-то ненужное, и, наверное, так оно и было.
– Потому что нет смысла просить прощения, если наперед знаешь, что твои извинения примут, верно? Я хочу сказать, прощения следует просить ради самого прощения.
– Да?
– И не важно, сколько времени прошло, правда?
– Не важно?
– Дело в том, знаешь… – Я шарил наугад, пытаясь уяснить, а в чем, собственно, дело, когда мне на ум пришло: – Дело в том, что у обиды нет срока давности.
Я проскочил несколько ярдов, прежде чем сообразил, что она остановилась как вкопанная, и повернулся. Внезапно статуя ожила.
– Что ты сейчас сказал?
– Э-э… что нет… ну знаешь… нет срока давности…
– Да?
– Обиды…
– Ты это где-то прочел?
– Нет, я просто…
– Это не из учебника юриспруденции или?…
– Боюсь, только что придумал.
– И – для полной ясности – ты просишь у меня прощения?
– Я пытаюсь. Таков был план.
– Попросить прощения?
Я пожал плечами.
– Наверное. Я не рассчитывал, что ты согласишься меня выслушать, но…
– Нет, нет, нет. Я хочу тебя выслушать. – Теперь она казалась возбужденной, будто только что увидела в витрине вещь, которую искала много месяцев. Бросив взгляд на массивные наручные часы, она сказала: – У тебя есть свободных полчаса? Я живу в двух шагах отсюда. Если честно, то вон за тем домом.
– Ты живешь в правительственном здании?
– На служебной квартире. Одна из привилегий работы. Скоро перееду. Мне вот что хотелось бы сделать… – Она помолчала, словно пытаясь успокоиться. – Знаю, это, возможно, прозвучит немного странно, но мне хотелось бы тебя записать. У меня есть маленькая цифровая видеокамера. Для съемки совещаний и тому подобного. Ты не против? Не против? Этим ты бы мне очень помог.
– А как же твой конверт?
Дженни поглядела на желтую бандероль, точно совсем про нее забыла.
– Подождет, – отмахнулась она.
У меня не было причин отказываться. Если она хочет записать мои извинения, ее право.
Дженни привела меня в однокомнатную квартиру на двадцатом с чем-то этаже одного из зданий казначейства: величественная, перекатывающаяся эхом пустыня паркетного пола и длинные окна, заливающие это пространство светом. В дальнем углу стояла аккуратно застеленная двуспальная кровать, рядом – вешалка с черными брючными костюмами и белыми блузками на плечиках. Напротив – кухонный уголок в модернистском духе, и над рабочей поверхностью – полка, заставленная толстыми поваренными книгами с яркими корешками. Дженни попросила меня сесть на светло-кремовый диван в гостином уголке, а сама пошла доставать что-то из стенного шкафа возле кровати, я даже не понял, что он там есть, пока она не хлопнула ладонью по панели и панель не отодвинулась.
– Вот, нашла, – сказала Дженни.
Она вернулась с треножником и камерой, такой маленькой, что я засомневался, а помещусь ли целиком в ее узенький объектив. Дженни повозилась, подсоединяя провода, вставила в прорезь мини-диск и направила устройство в нужную сторону. Наконец она как будто удовлетворилась, что все на месте, и подтянула стул, чтобы сесть рядом с треножником, после чего нажала кнопку.
– Видишь красный огонек спереди, сразу под объективом? Я перевел взгляд на камеру.
– Э-э… да. Да. Вижу.
– Отлично. Пошла запись. – Она отвлеклась от панели управления, чтобы посмотреть на меня. – Поехали. Начинай, когда захочешь.
Я указал на камеру.
– Хочешь, чтобы я обращался к объективу, или к тебе, или… Дженни подалась вперед, уперев локти в колени и опустив на руки подбородок, точно собиралась с духом.
– Не важно. Как тебе будет удобнее. Обращайся к камере или ко мне. Честное слово, делай как тебе лучше.
– Ладно, – сказал я. А потом: – Сначала?
– Непременно. С самого начала. – Она ободряюще улыбнулась.
– Ладно. Поехали.
Я на секунду зажмурился, потом открыл глаза и посмотрел мимо камеры на Дженни. Она предоставила мне великолепную возможность превратить извинение из мгновенного прилива своекорыстного удовлетворения в нечто большее, в шоу или театральную постановку, в произведение видео– и аудиоискусства, которое будет обладать жизнью помимо меня и данной минуты. Я извинялся для последующих поколений. Ссоры с Линн, натянутые перебранки с братом, напряжение предыдущих дней – все поблекло. Я сосредоточился на здесь и сейчас.
– Я дурно с тобой обошелся, и мне ужасно, ужасно жаль. Кое-кто, возможно, скажет, что это дело прошлое и уже не имеет значения. Что мы были практически детьми. Но я так не думаю. Я не был ребенком. Я был взрослым, который вел себя как ребенок. Ирония заключается в том, что именно ты помогла мне переступить порог взрослой жизни, сделать тот шаг, который мне никак не давался.
Склонив голову набок, Дженни снова подбодрила меня улыбкой.
– Нам ведь не нужно притворяться, верно? Надеюсь, я достаточно повзрослел, чтобы говорить об этом без смущения. Ты лишила меня девственности, ты мне помогла, сотворила для меня чудо, и мне бы следовало испытывать к тебе только благодарность. А я нарушил твое доверие. Еще я надеюсь, что стал достаточно взрослым, чтобы понять, почему это сделал. Мне хотелось принадлежать к определенной социальной группе. Не более того. Я слишком долго был исключен из того клуба, из того нелепого клуба, из клуба мальчишек. Но тем не менее мне нужно было ощущать себя его членом, а ты дала мне прекрасную возможность в него вступить.
Я секунду помешкал, и она кивнула, подбадривая меня продолжать. Я спросил себя, стоит ли излагать ей недавно осенившие меня критические выводы о том, почему мужчины так ведут себя, когда дело доходит до секса. Сейчас казалось, она хочет всего, что я готов дать.
– Понимаешь, проблема с мужчинами проста: в глубине души они сознают, что их участие в акте воспроизведения ничтожно, иллюзорно и ограничивается всего секундами. – Я щелкнул пальцами. – А вот женщины… женщины – творцы. Они создают. Мы же просто занимаемся сексом. Но вы порождаете жизнь, и от того у нас остается ощущение, что мы малы, неадекватны, вообще не слишком нужны, что, откровенно говоря, совершенно верно. Наша ценность в сексе измеряется миллилитрами, да и их не так много. И что же мы делаем, чтобы затушевать свою ненужность? Мы хвастаем. Мы придумываем истории, мифологизируем себя, пытаясь залатать черную дыру в восприятии себя самих. Только так мы можем выносить то, чем являемся, только когда перепишем сюжет. Но для начала нужна хоть какая-то канва, а до тех пор, пока не появилась ты, у меня вообще никакой не было. Годами я сидел и слушал, как восхваляют себя мальчишки, и все это время хотел знать, что в их историях правда, а что выдумка. Мне требовалась базовая информация. И ты мне ее дала. Ты сделала меня мужчиной, и я повел себя как мужчина.
Я с трудом сглотнул. Глядя сейчас на Дженни, я вдруг вспомнил, как она стояла в той подвальной кофейне, изо всех сил прижимая ради защиты к груди учебники. Я моргнул и почувствовал, как по крылу носа у меня ползет слеза. Мгновение было таким напряженно реальным. Таким истинным. Я продолжил:
– Но ничего из этого меня не извиняет. Это просто… – я шмыгнул носом, когда вслед за первой слезой покатилась вторая, – …моя неловкая попытка объяснить, что случилось в тот день. Я никогда себе не прощу. Ты права, что обиделась. У тебя есть все основания быть в ярости. – Я еще раз сглотнул. – Прости, Дженни. Я очень, очень виноват перед тобой. Прости меня за все.







