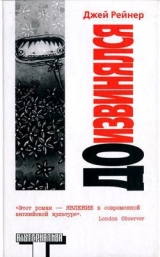
Текст книги "Доизвинялся"
Автор книги: Джей Рейнер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)
Глава пятая
Большинство людей считают счастье своим неотъемлемым правом, это как чистая питьевая вода или сорок телеканалов в гостиничном номере. Может, потому что мой отец умер, когда я был маленьким (отличное извинение почти всем ошибкам и промахам на свете), или просто потому, что я мрачный сукин сын, но я никогда так не считал. Для меня счастье всегда требовало труда. Нет, я не слоняюсь с хмурой, как небо зимой, миной, не выискиваю вечно, на чем бы закрепить веревку, просто состояние легкой, беспечной радости мне не дается. Веселье не для меня.
Вот почему пережитое у Фионы Гестридж меня опьянило. Когда я выходил из ресторана, меня распирало от удовольствия. Я полагал, что поступил правильно не только по отношению к Фионе, но и к себе самому. Я принес утешение нуждающимся и успокоил обиженных, а заодно искупил мои грехи. Такие мысли вертелись у меня в голове, пока я шел на восток по Фулхем-роуд мимо ни много ни мало трех ресторанов, закрывшихся вскоре после моих бичующих отзывов. («Деревянный стол», возможно, не самый худший ресторан на свете, – начинался один, – но, по-моему, до получения такого титула ему осталась лишь самая малость».) Эйфория – странное состояние: это удовольствие, которое ослепляет. Я любил самого себя.
А потом увидел его – сгорбившись и ссутулив плечи, он рассматривал витрину антикварного магазина. И в мгновение ока моя любовь к себе сменилась отвращением. Будто кто-то включил силу земного тяготения, и мои сердце, печень и все внутренности разом придавило к тротуару грузом вины. Он казался меньше, чем я помнил (в чем я тут же обвинил себя самого), и большая, мягкая, щекастая голова теперь съежилась и кожа обвисла, но в нем все еще можно было узнать Гарри Бреннана, человека, у которого я украл работу.
Тогда, чуть меньше четырех лет назад, я был редактором в отделе рецензий, а Бреннан – ресторанным критиком с почти двадцатилетним стажем, и его окружал ореол легенды, которым наделяют тех, чье главное достижение в умении выживать. Если верить слухам, в шестидесятых годах на Дальнем Востоке он принял участие в погребальном обряде, лишь бы попробовать человечину. Судачили, что помимо собаки, кошки и змеи, которых ему подавали во время командировки в Китай, он в различных ситуациях ел тушеную выдру и жаренного на вертеле барсука. Еще говаривали, будто он выдул целую бутылку «Шато Д'Икем» [3]3
Прославленный в XIX в. крепленый белый бордоский сотерн. – Примеч. пер.
[Закрыть]тысяча девятисотого года стоимостью в шесть тысяч фунтов и ни капли не предложил никому из сидевших с ним за столом; что его вышвырнули из «Симпсонс» [4]4
Фешенебельный лондонский ресторан, специализирующийся на приготовлении блюд английской кухни. – Примеч. пер.
[Закрыть]на Стрэнде за то, что он съел более трех фунтов отборной говядины на ребрах с фуршетного стола и лишь потом объявил, что платить за нее не станет, потому что она переварена. До сих пор, спустя много лет после того, как он ушел с поля боя, еще рассказывают «Гаррины истории».
Он был негодяем и реакционером, и стиль его рецензий был безысходно помпезным («На этой неделе я совершил путешествие в Ломбардию, дабы отведать черной жемчужины сего края, которая зовется трюфель…»), но невзирая на все это, я его уважал, так как он знал, что делает. Да и я ему нравился. Редактором в газету я попал случайно, остался сперва в силу привычки, потом по распоряжению руководства. Он знал, что я готовлю, и доверял мне вылавливать в своих статьях ошибки, которых, нужно признать, было немного.
Однажды незадолго до полудня он возник в редакции у меня за плечом и остался стоять, кашляя и чихая. Глаза у него были влажными и покрасневшими, и каждые полминуты он поднимал ко рту пухлый розовый кулак. А после во фразе, которая как ничто отражала его суть, сообщил, что «поражен инфекцией и оттого в затруднительном положении». В тот день ему предстояло обедать в «Благородном гребешке», почтенном рыбном ресторане в «Сент-Джеймс», [5]5
Лондонский клуб, преимущественно для дипломатов. – Примеч. пер.
[Закрыть]куда он часто захаживал, но о котором не писал уже много лет. Хозяева, его близкие друзья, только что наняли нового шеф-повара. Гарри не сомневался, что кормить будут отменно, но (как он выразился), сейчас «не вполне экипирован судить». Из-за простуды у него пропали вкусовые ощущения. Он спросил, нельзя ли позаимствовать мои.
– Мы закажем одно и то же. Тогда я смогу судить о текстуре и сервировке блюд, а вы, мой милый мальчик, скажете мне, на уровне ли вкус.
Разумеется, я согласился. Предложение мне польстило. Да и кто откажется от дармового ленча.
Поэтому мы пошли в «Благородный гребешок», где нас усадили за лучший столик в углу. Бокалы и фужеры стояли отполированные до блеска. Салфетки лежали неразвернутые. Предложили и унесли ржаной хлеб. Естественно, метрдотель от нас не отходил: здесь любые потуги ресторанного критика на анонимность не имели смысла. Мы начали со сносных морских черенков в чесноке и чили – Гарри назвал его «взвешенным новшеством» для ресторана, который некоторые блюда своего меню подает вот уже тридцать лет. Я сказал все, что следует: описал оттенок дымка во вкусе взбитого сливочного масла, сладковатый душок чеснока и темно-ржаную ореховость чили, жжение от которого не заглушало остальных ощущений. Мы вымазали тарелки хлебом, осушили бокалы чуть переохлажденного «Пуйи-Фюме» [6]6
Белое сухое вино с правого берега Луары. – Примеч. пер.
[Закрыть](Гарри предпочитал французские вина) и стали ждать главное блюдо – запеченную треску с гарниром из моллюсков-сердцевидок.
Гарри встал из-за стола ради – как он выразился – «краткого тактичного мочеиспускания», и заказ принесли, пока его не было. Еще прежде, чем передо мной поставили тарелку, я понял, что меня ждет сюрприз, и, возможно, неприятный. Люди за столиком в другом конце зала не могли не заметить. Если они действительно знали, то ничем вида не подали, – возможно, просто из вежливости. Но треска воняла. Над столом повисло облако смрада – точь-в-точь из палатки рыботорговца под конец дня, да еще с острым привкусом застоявшегося мусорного бака. Я люблю рыбу мертвой, но не настолько же. Наклонившись, я понюхал тарелку и поперхнулся. Потом оглядел зал. Все как обычно. Метрдотель заметил мой взгляд. Улыбнувшись, он сделал шаг вперед, точно собираясь прийти на помощь, но я отказался от нее, с деланной беспечностью подняв с раскрытой ладонью руку. Как я мог дать понять, что рыба не свежая? Гарри ведь дружит с хозяевами. Метрдотель встретил его как родного. Гарри сгорел бы от стыда. Во всяком случае, мне не хотелось, чтобы так вышло. К тому же мы недостаточно хорошо знали друг друга, и мне никак не хотелось напортить что-нибудь при нашей первой совместной профессиональной вылазке.
Я знал, что у меня нет выхода. Убедившись, что никто на меня не смотрит, я ловко поменял местами тарелки, так что у него оказалась моя и наоборот. Я наклонился над тарелкой Гарри. Тут как будто все было в порядке. Отравой не пахло. Никакой угрозой тоже. Кашляя, отплевываясь и вытирая нос скомканным носовым платком, вернулся Гарри и тут же пустился в историю о том, как застукал одного шеф-повара, когда тот мыл в руки в унитазе, потому что раковины не работали.
– …и пожалуйста, стоит себе в заляпанном халате, согнувшись пополам над унитазом, уж вы мне поверьте. А руки запустил в воду по самый локоть…
В конце каждой фразы он делал глубокий вдох, но насморк у него был такой сильный и нос так заложен, что дышать он мог только через рот. Он ничего не чувствовал. Рассказывая, он в самых пикантных местах истории взмахивал вилкой. Я перевел взгляд на ядовитое блюдо перед ним.
– …поэтому я сказал шеф-повару: «Милый мальчик, неужели в обычае данного заведения, чтобы кухонная бригада ополаскивала руки в нужнике?»
Временами он поглядывал на свою рыбу. Тогда его вилка приближалась к ней, точно он собирался ее пронзить. Всякий раз я невольно задерживал дыхание. Но потом, словно играющий с добычей сокол, прибор снова взмывал вверх, и я выдыхал, испытывая непередаваемое облегчение.
– …а он мне в ответ: «Это еще что, посмотрели бы вы на гребаную кухню». – Он помолчал. – Но кормили там довольно вкусно.
Хохотнув, Гарри опять посмотрел на свою тарелку. Вилка нацелилась, нырнула. «Он играет со смертью», – подумал я. Вот сейчас случится ужасная, гастритная катастрофа. Но рокочущий смешок над собственным остроумием вскоре превратился в рыкающий, скрипучий кашель, и он снова отложил вилку, чтобы подавить жуткие звуки. Выдохнув, я закрыл глаза и стал ждать. Наконец кашель Гарри унялся. Я осмелился взглянуть.
– Все в порядке, приятель? – спросил он. – Что-то вы побледнели.
– Так, пустяки.
Гарри снова опустил глаза на свою тарелку.
– Значит, ленч, говорите, – с фирменными апломбом и энтузиазмом сказал он, а потом мне улыбнулся.
– Да, – откликнулся я, – ленч.
Я смотрел, как опустилась его вилка, как первые протухшие кусочки сероватой рыбы поднялись и исчезли у него во рту. Он сомкнул губы на вилке и улыбнулся.
– Любопытная текстура, – сказал он, я кивнул. Что говорить, она действительно была любопытной.
Не знаю, чего я ожидал, но поначалу ничего не происходило. Мы просто ели ленч. Гарри разглагольствовал о великих шеф-поварах, с которыми был знаком, я в нужных местах вставлял уважительные «охи» и «ахи», хотя не мог перестать всматриваться в его лицо, выискивая предвестники беды. Мы заказали десерт, по куску пирога Татен, но не классического яблочного, а с персиками (хотя я, конечно же, предпочел бы пирожное с шоколадной глазурью), и умяли его со смаком. Я начал расслабляться. Может, все-таки рыба была не такая уж тухлая. Может, она была только чуть с душком. Опять же, вероятно, и нет.
Вскоре после того, как мы заказали кофе, Гарри заелозил на стуле. Потом он начал рыгать, прижимая ладонь к округлому животику, словно чтобы облегчить доступ воздуха. На верхней губе у него выступили капельки пота, лицо посерело. Наконец, в тот момент, когда наливали кофе, он оттолкнул стул от стола, нетвердо поднялся и пробормотал:
– Прошу меня извинить. Все было слишком вкусно.
Я застыл от ужаса и только смотрел во все глаза. Я знал, что сейчас произойдет. С того самого мгновения, когда подали основное блюдо, это стало неизбежно. Вопрос был только в том, кто успеет выйти первым: Гарри из обеденного зала или рыба из него. Он немного подался вперед, чтобы опереться о стол. Открыл рот, будто чтобы рыгнуть последний раз, прижимая руку к желудку. Раздалось негромкое шипение, словно из проткнутой велосипедной шины ускользал воздух, а затем извергся сливочно-бурный поток, хлестнувший на край стола и оттуда на пол.
К нам тут же слетелись официанты: подчищать и подтирать, перенести бедного Гарри на банкетку в баре, где он растянулся во весь рост. Его сальные, серые веки подрагивали от напряжения. Я хотел помочь, но учитывая профессионализм официантов, только путался под ногами, а потому, чувствуя себя виноватым ребенком, отошел в уголок. Это я устроил Гарри Бреннану такое. Я. Только потому что испугался попасть в неловкую ситуацию. После того, как его еще дважды стошнило в ведерко для льда, специально поставленное у банкетки, он поманил меня к себе. Вцепившись в мою руку, он воззрился на меня с дерматинового пурпура своего импровизированного ложа.
– Гарри, мне правда очень жаль, но…
Он остановил меня, горестно тряхнув головой.
– Сейчас не время, милый мальчик, – сказал он слабым голосом, будто свет мерк у него перед глазами. – Я не могу продолжать. Теперь вы должны потрудиться за меня. Вы должны занять мое место. – И, чуть приподняв голову с банкетки, добавил шепотом: – Мою рецензию ждут к шести вечера.
Я ужаснулся.
– Но, Гарри, я никогда…
Отпустив мою руку, он закрыл глаза и безвольно откинулся на банкету.
– Вы знаете, что делать, Марк. Вы знаете, что делать.
Повернув голову в мою сторону, он аккуратно и не без элегантности сблевал в ведерко для льда.
Два часа я вышагивал по квартире, не спуская глаз с циферблата часов. Как, черт побери, мне подменить Гарри Бреннана? Великого Гарри Бреннана? Как я смогу быть им? Сев за компьютер, я в пятый, шестой, седьмой раз начинал писать рецензию, но каждая попытка была неуклюжей, или скучной, или просто раздражающе глупой. За полчаса до срока я, просто чтобы успокоить нервы, налил себе солидную порцию водки из бутылки, которая уже несколько дней лежала в морозильнике. Водка настолько хорошо меня успокоила, что я налил себе вторую, а потом и третью. Я съел три дольки «Манжари», пару трюфелей в белом шоколаде и горсть орехов макадамия под толстым слоем глазури. Через пять минут я написал вступление, которое вдруг показалось чертовски логичным:
О кухне того или иного ресторана можно многое узнать по скорости, с которой подаваемая там еда исчезает во рту едока. Но гораздо больше можно узнать, если съеденному случится снова вылететь наружу.
То что надо. Нечто острое. Нечто решительное и бескомпромиссное. Вспомни только про бедного Гарри, блекло-серого на фоне искусственного пурпурного полубархата. Разве он не заслуживает правды? Разве он не этого хотел бы? Поэтому я продолжил писать и накропал нужную тысячу блистательных слов: немного про почтенные рестораны, которым следовало бы знать, когда уйти на покой, но в основном об ощущениях, которые испытываешь, когда блюет человек, с которым ты обедал. («Думаю, было бы дурным тоном пытаться идентифицировать блюда, когда они совершают обратный путь».) Час спустя я послал текст в редакцию и, чтобы отпраздновать, налил себе еще водки.
На следующее утро, когда я нянчил мое похмелье, мне позвонили из кабинета Роберта Хантера. Он прочел мою рецензию. Она ему понравилась. Она ему очень понравилась. Если уж на то пошло, она ему понравилась настолько, что он решил уволить Гарри Бреннана и взять на его место меня.
Вот как это случилось: я стал ресторанным критиком из-за одной порции тухлой трески, которая предназначалась мне, но досталась другому.
Глава шестая
Теперь я знаю, что процесс извинения в чем-то сродни первому поцелую – для обоих нужна храбрость. Нужно быть готовым к резкому отпору, но одновременно твердо уверенным, что момент благоприятный. Извиняющийся должен быть убежден, что сумеет подступиться со своей просьбой о прощении в момент, который сам искусственно создал, и надеяться, что по ходу разговора он станет более реальным и соответственно, менее искусственным. Профессор Томас Шенк почти тридцать страниц посвятил этой теме в своем новаторском учебнике по международным извинениям. [7]7
«Улаживание конфликтов в глобальном контексте», профессор Томас Шенк, «Издательство Колумбийской юридической школы». – Примеч. автора.
[Закрыть]И назвал это «поддержанием взаимной иллюзии».
В тот день, когда я встретил на улице Гарри Бреннана, профессор Шенк и его шесть законов о взаимных иллюзиях, разумеется, еще ждали меня в будущем. У меня не было группы поддержки, чтобы помогать приносить извинения. У меня не было команды психологов, чтобы анализировать умонастроения тех, у кого я просил прощения. Я прыгал без страховки и импровизировал на ходу. Я знал только, что, извинившись перед Фионой Гестридж, я воспарил в небеса, а при виде Гарри – опять упал на землю. Когда я его окликнул, он не шелохнулся, будто собственное имя ему незнакомо, и я было подумал, что вот-вот совершу ужасную ошибку. Он по-прежнему рассматривал витрину антикварного магазина. Но разговор с женой Гестриджа открыл во мне неожиданные резервы храбрости. Я окликнул его снова:
– Гарри?
Повернувшись, он прищурился – старик, которого внезапно вырвали из задумчивости.
– Это я. Марк. – Я широко улыбнулся, но улыбка поблекла под его пустым взглядом. – Бассет… – добавил я, надеясь, что это ему поможет.
Внезапно он ожил. Подняв руку, он схватил меня за плечо и рявкнул:
– Господи милосердный, вундеркинд собственной персоной. Юный тиран и озорник. Самое острое перо Лондона. Какое счастье, какой огромный удивительный сюрприз, какое…
Он буквально окатил меня волной энтузиазма, когда мы пожали друг другу руки и рассмеялись от радости, которую подбросил нам случай.
Я чувствовал себя распоследней сволочью, и это было хорошо. Подтолкнуло меня. Вот человек, чьи средства к существованию я украл, чей желудок вывернул наизнанку, чью жизнь разрушил, а он встретил меня как блудного сына. Нутро мне снова стянуло привычным узлом вины. Я точно знал, что не могу оставить все как есть. С этим необходимо покончить, и немедленно. Черт побери, если я смог попросить прощения у Фионы Гестридж, то найду в себе силы поговорить на чистоту со стариком Бреннаном.
Я махнул на венгерскую кофейню через дорогу.
– У вас есть время на…
– Хм, а пожалуй, есть. – Он посмотрел на часы. – Да, действительно есть. Почему бы и нет. Ради прошлых дней.
Сев за столик у окна, мы заказали кофе.
– Пирог! – рявкнула официантка средних лет и среднеевропейской внешности. Это был приказ, а не предложение.
– Вы как, Гарри?
– Я пас, но вы на меня не смотрите, обязательно съешьте. Я настаиваю. – Он кивнул на стойку в дальнем конце зала. – Выберите себе что-нибудь, – сказал он, ткнув пальцем в бесстыдно манящий «наполеон» из слоеного сахарного теста, крема, клубники и хрупких чешуек шоколада. – Молодой человек вроде вас обязательно оценит его по заслугам.
Я пожал плечами, точно признавая свое поражение после долгой битвы.
– Один «наполеон», пожалуйста.
Официантка фыркнула.
– Сейчас принесу.
Повисло молчание. Я поиграл десертной ложкой, поправил подставку под тарелкой. И наконец поднял глаза.
– Я должен кое-что вам сказать, Гарри.
И изложил в точности, как все случилось: что я не собирался красть его работу, что так вышло по чистой случайности. Нет, не совсем по случайности. В результате несчастья. Просчета. Что из неловкости и смущения я подменил тарелки; что я не желал ему зла, хотя и знал, что ему, возможно, придется несладко.
Говоря, я почувствовал, что горло у меня сжалось, а во рту пересохло. Я знал, что мне все труднее скрыть дрожь в голосе, то и дело опускал глаза, чтобы не встретиться взглядом с Гарри. Я на мгновение прервался, опасаясь, что вот-вот разрыдаюсь.
Сделав глубокий вдох, я поджал мои стоптанные и намозоленные пальцы, и маловольтный ток боли подтолкнул меня продолжать. Наконец я произнес:
– Гарри, мне ужасно, ужасно жаль.
Он смотрел на меня, разинув рот. Потом уголок рта у него пополз вверх, и Гарри вдруг разразился хохотом: бесшабашным, до слез смехом, который казался неистовым, жарким и необходимым. Он не остановился, даже когда пришла с нашим кофе и моим десертом официантка, вскоре я уже смеялся вместе с ним. Она поглядела на нас возмущенно, будто наша истерическая выходка оскорбляла ее чувство приличия – совсем как пара сношающихся дворняжек на ее кухне.
– Пирог! – рявкнула она в предостережение.
– Спасибо, – как только смог, выдавил я.
Когда она ушла и мы немного успокоились, я сказал:
– Вы на меня не сердитесь?
Он сделал глубокий вдох.
– Вовсе нет, мой милый мальчик. Хотите знать почему? Вы спасли мне жизнь.
– Да? – Зубцами вилки я проломил верхний слой «наполеона» и, зачерпнув немного крема, отправил его в рот.
– Через несколько дней после того, как Боб Хантер вышвырнул меня на улицу, я пошел к врачу. Старый мотор забарахлил. – Он похлопал себя по левой стороне груди. – А врач сказал, что до преждевременной могилы мне осталась самая малость. Высокое давление, закупоренные артерии. В некоторые даже пришлось вставить шунты. Если хорошенько попросите, шрам покажу.
Я проглотил еще кусочек.
– Возможно, попозже.
– И уровень холестерина у меня… Ну, скажем так, будь это олимпийский вид спорта…
– Вы завоевали бы золото?
– Вот именно. Врач велел отказаться от выпивки, жирного, мясного, соли. Короче, всего вкусного. Если бы я еще тянул прежнюю лямку, у меня не было бы и шанса. Мертв. Труп. Памяти Гарри Бреннана посвящается. Вы оказали мне услугу. Сейчас, на новой диете, я чувствую себя отлично. И правду сказать, живу так уже несколько лет. В отличной форме. Радуюсь жизни. Большей рекомендации раннему уходу на пенсию и не пожелаешь.
– Что ж, очень рад, – сказал я, собираясь атаковать вторую половину пирожного.
– Знаете, что меня доконало? Я вам скажу. – Кончиком чайной ложки он постучал по моей тарелке. – Десерты. От них все зло. Они-то и стали бы мне смертным приговором.
Медленно и очень решительно я положил вилку возле последних хлопьев хрустящего теста и завитков густого крема. Перед глазами у меня замаячили облепленные бляшками артерии, и на долю секунды закружилась голова.
– Доедать не собираетесь?
– Пожалуй, нет, – сказал я. – Очень вкусно, но…
– Жирно?
– Да, вот именно. Жирно.
– Наверное, оно и к лучшему, милый мальчик.
– Да. – Я отодвинул тарелку. – Значит, вы правда на меня не сердитесь? – Мне хотелось вернуться на более безопасную почву нашего прошлого.
– Отнюдь. Интересная история. Рад, что вы мне ее рассказали. Даже тронут. Я на вас зла не держу.
Меня охватило то же легкое тепло, которое охватило меня после разговора с Фионой Гестридж. Я расслабился, был в мире с самим собой. У меня возникло отчетливое ощущение, что я залечил старую рану.
Гарри Бреннан откинулся на спинку стула.
– Что, приятно снять камень с души, а?
– А ведь знаете, действительно приятно! – с жаром ответил я. – Не подумайте, что вы всего лишь один из списка, но недавно я попросил прощения у нескольких человек. Нет, если быть честным, только у одного. Но главное, какое замечательное чувство! Просто потрясающее. Я совершил хороший поступок, и, оказывается, это само по себе награда.
Гарри поднял косматую седеющую бровь.
– Милый мальчик, судя по вашим словам, выходит, вы обрели призвание.
– И самое главное, старик Бреннан прав. Совершенно прав. Я нашел что-то, во что могу верить.
– Марк, милый, это чудесно. Я очень за тебя рада. Но это еще не объясняет, почему, вернувшись домой, я застала тебя посреди комнаты в одних трусах, причем всего в пыли и грязи.
Я опустил взгляд. Линн была права. Зрелище не из приятных.
– Из-за спешки, наверное. Мне просто хотелось поскорее приступить.
– Но к чему именно?
– К их разбору. – Я указал на две ветхие картонные коробки со стянутыми скотчем углами, которые я только что притащил с чердака. В потолке был открыт люк, и в комнате витал запах старой бумажной пыли. – На мне был костюм, и мне не хотелось его пачкать. А какой смысл надевать джинсы, если и их измажешь, поэтому…
Телевизор у меня за спиной был включен и настроен на канал новостей. Мое внимание привлек голос Льюиса Джеффриса III. Переговоры по репарациям за рабство в Алабаме опять прерваны, толпа афроамериканцев с темными кругами под мышками некогда накрахмаленных рубашек сгрудились вокруг главы своей делегации, который как раз готовился сделать заявление для прессы.
– Мы не перестанем искать способ залечить раны истории, тем более что эти раны глубоки и вопиют…
– А ведь он первостатейный актер, верно?
– Марк!
– Подожди секундочку.
– …но пока наши собратья-американцы не признают, что на их прошлом лежит позорное пятно, не может быть надежды на примирение…
Подойдя поближе, я всмотрелся в экран.
– Знакомое лицо, – рассеянно сказал я. – Не знаю почему, но… – Белая женщина, приблизительно одних со мной лет, одетая в деловой синий костюм, слишком теплый для летнего дня, из задних рядов наблюдала за происходящим. Коснувшись пальцем экрана, я почувствовал, как на кончике собирается статика. – У вас чертовски знакомый вид, дамочка…
– Марк!
– …кто же вы такая будете?
– Господи боже мой! Марк!
Раздался щелчок, и экран погас. Я, выпрямившись, повернулся. Линн стояла, выставив вперед бедро и весь вес перенеся на одну ногу, в лице у нее читался едва сдерживаемый гнев. В вытянутой руке она держала пульт от телевизора, который теперь нацелила на меня, точно это было оружие.
– Будь добр, скажи, пожалуйста, что такого чертовски важного в этих коробках?
– Ах да. Конечно. Ладно. – Подойдя к дивану, я начал рыться в одной и вдруг осознал, что практически голый и что мне холодно. – Фотографии, – объяснил я. – Старый хлам. Я с друзьями в школе. Пикники. Потом дурачества на подростковых вечеринках. – Достав стопку фотографий, я начал пролистывать снимки, роняя их назад в коробку с хлопьями пыли и бумажных снежинок. – Я на каникулах. – Над одним снимком я помедлил: я и Люк в жарком сосновом лесу, каждого из нас держит за руку мой огромный, голый по пояс отец, и мы все трое улыбаемся в камеру. Мне, наверное, лет семь, Люку – пять…
– Марк? – Ее голос смягчился, стал почти молящим, точно она пыталась выманить зверька из темной норы.
Повернувшись, я успокаивающе улыбнулся.
– Нет, честно, все в порядке, любимая. Постой. – Я продолжил рыться в коробке. – Ведь иногда, чтобы вспомнить все, что ты сделал, нужны фотографии, верно? Всех людей, которым ты сделал гадость. Все проступки, которые совершил.
Линн стояла теперь рядом со мной, а я стремительно тасовал мою юность, сохраненную стопкой безвкусных, мятых карточек.
– Понимаю, – только и сказала она.
Наконец я нашел фотографию, которую искал. Ее сняли на вечеринке у одного моего приятеля. Гостиная, из которой вынесли мебель (обычно из комнаты убирали все, что можно, на случай, если ее погромят). Мои друзья разлеглись на полу, поставив так, чтобы были под рукой, банки пива и бутылки дешевого вина. По углам – несколько парочек в той или иной разновидности боксерского клинча. В центре снимка (по всей видимости, повод для этой фотографии) – куча мала подростков, которые ухмыляются в камеру. На самом верху – Стефан. Меня в куче мале не было, а значит, снимал скорее всего я, но уверен, что эта гора тел и мне представлялась чертовски смешной. Нам тогда, наверное, было по четырнадцать или пятнадцать лет, а в таком возрасте, особенно если сперва достаточно выпить, груда сидящих друг на друге друзей заставляет хохотать до колик.
Но на снимке меня заинтересовало другое, то, что находилось чуть справа от горы тел: темноволосая, хорошенькая, довольно крупная девочка сидит спиной к стенному шкафу и с полнейшим пренебрежением смотрит в объектив.
– Вот она, – сказал я, ткнув указательным пальцем в слегка смазанный овал лица.
Линн прищурилась, чтобы разглядеть получше.
– Кто она?
– Кое-кто, кого я знал ребенком, – снова рассеянно отозвался я. И услышал, как Линн раздраженно выдохнула.
Я повернулся к ней.
– Эту девочку, которую я когда-то знал, зовут Венди Коулмен, – сказал я. – И мой долг – перед ней извиниться.







