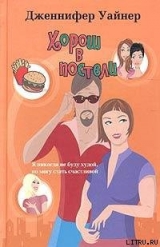
Текст книги "Хорош в постели"
Автор книги: Дженнифер Уайнер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц)
– А ты не пробовала варить их с имбирем и апельсиновой кожурой? – спросила Лили. Бонни скорчила гримаску.
– Я не люблю морковь, – призналась Анита, – но мне нравится вареная тыква с ореховым маслом.
– Это не овощ, а крахмал, – вставила я. На лице Аниты отразилось недоумение.
– Что значит «не овощ»?
– Это овощ с большим содержанием крахмала. Как картофель. Я это узнала в «Уэйт уочерс».
– На курсе «Жир и углеводы»? – спросила Лили.
– Достаточно! – вмешался врач. По его глазам я поняла, что болтовня ветеранов «Уэйт уочерс», «Дженни Грейг», «Притикина», «Эткинса» и других программ снижения веса начала его доставать. Он и сам знал, что борьба с лишним весом – не детская забава. – Давайте кое-что попробуем. – Он подошел к двери, выключил свет. Комната погрузилась в сумрак. Бонни нервно засмеялась. – Я хочу, чтобы вы все закрыли глаза и постарались представить себе, что вы чувствуете в этот самый момент. Вы голодны? Устали? Вам грустно, весело, тревожно? Постарайтесь сосредоточиться, а потом отделить физические ощущения от эмоциональных.
Мы все закрыли глаза.
– Анита? – спросил врач.
– Я устала, – тут же ответила она.
– Бонни?
– Может, устала. Может, чуть-чуть хочется есть.
– А эмоционально? – не отставал он. Бонни вздохнула.
– Меня тошнит от моей школы, – промямлила она. – Другие ученики постоянно говорят мне гадости.
Я посмотрела на нее из-под опущенных век. Бонни сидела, плотно закрыв глаза, руки поверх необъятных джинсов сжались в кулаки. Средняя школа, похоже, не стала добрее и участливее за те десять лет, что прошли после моего выпускного вечера. Мне очень хотелось положить руку ей на плечо. Сказать, что дальше будет лучше... да только, если отталкиваться от событий моей жизни, уверенности в этом у меня не было.
– Лили?
– Умираю от голода, – честно призналась она.
– А эмоционально?
– Гм-м... нормально.
– Нормально, и все дела?
– Вечером новая серия «Скорой помощи», – ответила она. – Так что да, нормально.
– Эстер?
– Мне стыдно. – Эстер разрыдалась.
Я открыла глаза. Доктор вытащил из кармана маленькую упаковку бумажных салфеток, протянул ей.
– Почему стыдно? – мягко спросил он. Эстер выдавила из себя слабую улыбку.
– Перед тем как началось занятие, я смотрела на пластмассовую свиную отбивную и думала о том, что она неплохо выглядит.
Напряжение разом спало. Все расхохотались, даже врач. Эстер всхлипывала, вытирая глаза. Врач откашлялся.
– Кэндейс? – Он повернулся ко мне.
– Кэнни.
– Что вы можете сказать?
Я закрыла глаза и тут же увидела лицо Брюса, его карие глаза рядом с моими. Брюс говорил, что любит меня. Я открыла глаза и посмотрела на доктора.
– Все хорошо, – ответила я, зная, что это ложь. – У меня все хорошо.
– Как прошло занятие? – спросила Саманта. В тот вечер мы бок о бок «бежали» по движущейся дорожке в тренажерном зале.
– Пока не так уж плохо, – ответила я. – Таблеток, правда, не дали. Но врач, который руководит программой, вроде бы ничего.
Дорожка поскрипывала у нас под ногами, из-за спины доносилась музыка. Тренажерный зал старался привлечь новых членов, поэтому раз в неделю нам предлагались бесплатные занятия аэробикой. К самим тренажерам претензий у нас не было, но вот крыша текла, кондиционеры дышали на ладан, джакузи постоянно ремонтировалось.
– А как вообще прошел день? – спросила Сэм, вытирая пот рукавом. Я рассказала ей о сердитом письме мистера Дайффингера в защиту Селин Дион.
– Ненавижу читателей, – выдохнула я, когда моя дорожка переключилась на более высокую скорость. – Почему они все принимают так близко к сердцу?
– Наверное, он полагает, что тебя стоит взгреть, раз ты позволяешь себе ругать Селин.
– Но она общественное достояние. Я же – всего лишь я.
– Для него – нет. Твоя фамилия напечатана в газете. То есть ты тоже общественное достояние, как и Селин.
– Только большего размера.
– И с лучшим вкусом. Во всяком случае, ты не собираешься замуж за своего семидесятилетнего импресарио, который знает тебя с двенадцати лет.
– И кто же у нас критик? – вопросила я.
– Чертовы канадцы, – фыркнула Саманта. Она проработала три года в Монреале, где у нее был бурный роман, закончившийся полным разрывом, и с той поры не сказала ни одного доброго слова о наших северных соседях, в том числе о Питере Дженнингсе[23]23
Дженнингс, Питер – ведущий информационной программы «Международные новости» телеканала Эй-би-си.
[Закрыть], которого она отказывается лицезреть в телевизоре, заявляя, что ему досталась работа, которую мог бы делать американец, «кто-нибудь с более правильным произношением».
После сорока минут на беговой дорожке мы переместились в парную, завернулись в полотенца, уселись на скамьях.
– Как поживает король йоги? – полюбопытствовала я. Сэм удовлетворенно улыбнулась, вскинула руки над головой, потянулась к потолку.
– Я чувствую себя такой гибкой, – самодовольно ответила она. Я бросила в нее полотенце.
– Не мучай меня. Я, возможно, больше никогда не познаю радостей секса.
– Да перестань, Кэнни, – отмахнулась Саманта. – Ты знаешь, такие отношения, как у тебя с Брюсом, не могли длиться вечно. У меня вот они заканчиваются.
И она не грешила против истины. На любовную жизнь Саманты кто-то наложил заклятие. Она встречала парня, отправлялась с ним на свидание, и все получалось замечательно. Встречалась второй раз и возвращалась в полном восторге. А вот на третьем свидании что-то происходило, что-то она узнавала, что-то вдруг открывалось ее глазам, и в результате больше видеться с этим человеком Сэм не могла. Ее последний кавалер, доктор-еврей, с потрясающим резюме и великолепными физическими данными, смотрелся уже претендентом на ее руку и сердце, но на третье свидание пригласил Саманту к себе домой пообедать, где ее очень взволновала фотография сестры доктора, которая висела в прихожей.
– А что тебе не понравилось? – спросила я тогда.
– Она была по пояс голая, – ответила Саманта. Доктору указали на дверь, и его место занял король йоги.
– Вот как надо на все это смотреть, – наставляла меня Саманта. – День был отвратительным, но теперь он закончился.
– Хотелось бы мне с ним поговорить.
Саманта тряхнула волосами, посмотрела на меня сверху вниз, устроившись в верхнем ряду скамей.
– С мистером Дайффледорфом?
– Дайффингером. Нет, не с ним. – Я плеснула воды на раскаленные камни, и нас окутали клубы пара. – С Брюсом.
Саманта сощурилась, пытаясь сквозь пар разглядеть мое лицо.
– С Брюсом? Не поняла.
– А что, если... – Я помолчала. – Что, если я допустила ошибку?
Саманта вздохнула.
– Кэнни, я долгие месяцы слышала о том, что все у вас идет не так, что лучше не становится, что наилучший выход – на какое-то время разбежаться, пожить отдельно. И пусть поначалу ты расстраивалась, я ни разу не слышала, чтобы ты сказала, будто приняла ошибочное решение.
– А если теперь мое мнение изменилось?
– И что повлияло на твое мнение?
Я задумалась. Частично статья. Брюс и я никогда не говорили о моем весе. Может, если бы поговорили... ведь ему хватало ума понять, что я чувствую, и если б я почувствовала, как много он понимает... может, все пошло бы по-другому.
Но больше всего мне недоставало его компании, возможности рассказать, как прошел мой день, стравить пар, высказав все, что я думаю о Габби, почитать выдержки из статей, которые я готовила, эпизоды из сценария.
– Мне его не хватает, – вздохнула я.
– Даже после того, что он о тебе написал?
– Может, ничего плохого в его статье и нет, – промямлила я. – Я хочу сказать, он же не написал, что находил меня... ты понимаешь... нежеланной.
– Разумеется, он находил тебя желанной, – ответила Сэм. – Это ты не находила его желанным. Ты находила его ленивым, инфантильным, неряхой и три месяца назад, лежа на этой самой скамье, сказала мне, что убьешь его и отправишь тело автобусом в Лос-Анджелес, если еще раз найдешь в кровати оставленную им грязную салфетку.
Я поморщилась. Не помню, что произносила эти слова, но вполне могла такое сказать.
– А если ты позвонишь ему, – продолжила Саманта, – то что скажешь? «Привет, как поживаешь, собираешься опять печатно унизить меня?»
Я действительно получила месячную отсрочку. Октябрьская статья Брюса в рубрике «Хорош в постели» называлась «Любовь и «перчатка»«. Кто-то (я практически не сомневалась, что Габби) днем раньше оставил экземпляр «Мокси» на моем столе. Я как могла быстро, с замирающим сердцем прочитала статью и облегченно вздохнула, лишь убедившись, что К. в ней отсутствовала. Во всяком случае, в этом месяце.
«Настоящие мужчины используют кондомы» – этой фразой начинался его опус. Смех, да и только, учитывая, что за три года нашего общения Брюс практически не пользовался изделиями из латекса. Анализы показали, что никаких заразных заболеваний у нас нет, и я перешла на противозачаточные таблетки, поскольку стоило мне достать презерватив, как у Брюса все падало. Этот нюанс остался за пределами статьи, как и тот факт, что надевать презерватив на его член приходилось мне, отчего я чувствовала себя заботливой мамашей, завязывающей шнурки своему маленькому мальчику. «Надеть «перчатку» – больше чем простая обязанность, – поучал Брюс читателей «Мокси». – Это свидетельство ответственности, зрелости, уважения ко всем женщинам... и знак его любви к тебе».
А ведь его отношение к презервативам не имело ничего общего с написанными им словами. И при мысли о том, как мы с Брюсом лежали в постели, у меня чуть не потекли слезы. Потому что за этой мыслью тут же пришла другая: «Прежнего уже не вернуть».
– Не звони ему, – настаивала Сэм. – Я знаю, сейчас тебе очень плохо, но это пройдет. Ты выживешь.
– Спасибо тебе, философ, – буркнула я и пошла в душ.
Вернувшись домой, я увидела, что на автоответчике мигает красный огонек. Нажала на клавишу «Воспроизведение» и услышала голос Стива: «Помните меня? Мужчина в парке? Послушайте, я вот подумал, а не выпить ли нам на этой неделе пива? А может, пообедаем? Позвоните мне».
Я улыбалась, пока прогуливала Нифкина, улыбалась, когда готовила себе на обед куриную грудку, сладкий картофель и шпинат, сияла все двадцать минут разговора с Сэм о Стиве, милом парне из парка. Ровно в девять набрала его номер. По голосу почувствовала, что он обрадовался моему звонку. И говорил так хорошо. Весело, остроумно, заинтересованно. Мы быстренько разобрались с основными вехами нашей жизни: возрастом, колледжами, возможными общими знакомыми, чуть коснулись родителей (о лесбийских наклонностях своей матери я умолчала, решила приберечь эту тему для нашей второй встречи, если она состоится), коротко объяснили свое одиночество (я в двух предложениях сообщила о расставании с Брюсом, он сказал, что у него была подруга в Атланте, но она поступила в школу медсестер, а он переехал сюда). Я сказала, что увлекаюсь пешими и велосипедными прогулками. Он сказал, что ему нравится плавать на каяках. Мы договорились пообедать в субботу, а потом, может быть, пойти в кино.
– Так что все, возможно, и образуется, – поделилась я своими мыслями с Нифкином, которого, похоже, мои проблемы ни в малой степени не волновали. Он трижды перевернулся и устроился на подушке. Я надела ночную рубашку, избегая смотреть на отражение своего тела в зеркале, и оправилась спать, испытывая осторожный оптимизм: все-таки оставался шанс, что мне не придется умирать в одиночестве.
Для Саманты и меня «Азафран» давно уже стал рестораном первого свидания. Он обладал всеми необходимыми параметрами. Прежде всего находился рядом и с ее домом, и с моей квартирой. Кормили там неплохо, недорого, а вино, одну бутылку, каждая пара могла принести с собой, что позволяло произвести впечатление на кавалера купленной бутылкой хорошего вина и исключало вероятность его перехода в свинское состояние: ни крепкого, ни второй бутылки уже не полагалось. К плюсам относились и огромные окна ресторана, от пола до потолка. Официантки, которые ходили в тот же тренажерный зал, знали нас и сажали за столики у окон: даму – спиной к улице, кавалера – лицом, и та из нас, которую не пригласили, могла прогуляться мимо ресторана с Нифкином и оценить добычу другой.
Я поздравила себя, поскольку Стив выглядел очень презентабельно. Рубашка с короткими рукавами на трех пуговичках, брюки цвета хаки, которые он, судя по всему, выгладил, прежде чем надеть, приятный запах туалетной воды. Значительный шаг вперед в сравнении с Брюсом, который отдавал предпочтение футболкам в пятнах и мешковатым шортам и зачастую, несмотря на мои частые напоминания, не пользовался дезодорантами.
Я улыбнулась Стиву. Он – мне. Наши пальцы соприкоснулись над кружочками кальмаров, запеченных в тесте. Холодное белое вино идеально подходило к ясному звездному небу и едва заметному ветерку.
– Где вы сегодня были? – спросил он.
– Ездила на велосипеде до Орехового холма, – ответила я. – Думала о вас.
Что-то в его лице изменилось. Пробежала тень чего-то плохого.
– Послушайте, – начал он, – я должен вам кое-что сказать. Когда я спросил, не выпьете ли вы со мной пива... я сказал, что в этом районе новичок... То есть просто искал...ну, вы понимаете. Друзей. Людей, с которыми можно пообщаться.
Кальмары в моем животе превратилась в свинцовый слиток.
– Ага.
– Наверное, я недостаточно ясно выразился... Я хочу сказать, это не свидание или что-то такое... О Господи. Не надо на меня так смотреть.
«Не плачь, – приказала я себе. – Не плачь, не плачь, не плачь». Как же я могла так ошибиться? Какая же я жалкая. Настоящее посмешище. Я хотела вернуть Брюса. Черт, я хотела к матери. «Не плачь, не плачь, не плачь».
– Ваша глаза, – мягко заметил он. – Ваши глаза убивают меня.
– Извините, – тупо ответила я. Я же еще и извинилась. Хуже быть просто не могло. Стив смотрел поверх моей головы, в окно.
– Эй, не ваша ли это собака?
Я повернулась и, само собой, увидела Саманту и Нифкина, которые таращились на нас сквозь стекло. На Сэм Стив произвел впечатление. Перехватив мой взгляд, она подняла большой палец.
– Прошу меня извинить, – пробормотала я и заставила ноги поднять тело. В женском туалете плеснула холодной водой в лицо, стараясь не дышать, чувствуя, как слезы, которые я не выплакала, собираются за лбом и трансформируются в головную боль. Я подумала о предстоящем вечере: обед, потом последний фильм-катастрофа в ближайшем мульти-комплексе. Но я не могла. Не могла целый вечер просидеть рядом с человеком, который заявил, что наша встреча – не свидание. Возможно, со стороны это выглядит нелепо, но я не могла.
Прошла на кухню и нашла нашу официантку.
– Скоро все будет готово. – Тут она увидела мое лицо. – О Господи... что? Он гей? Сбежавший преступник? Раньше встречался с твоей матерью?
– Что-то в этом роде, – ответила я.
– Хочешь сказать, что он извращенец?
– Да, – кивнула я и на мгновение задумалась. – Нет. Вот что я тебе скажу... разложи всю еду по контейнерам, а ему ничего не говори. Давай поглядим, сколько он просидит.
Она закатила глаза.
– Так плохо?
– Тут есть другой выход, так?
Официантка указала на дверь черного хода. Около нее в кресле сидел посудомойщик, должно быть, решил пару минут отдохнуть.
– Тебе туда.
И вскоре, с двумя контейнерами еды и с тем, что осталось от моей гордости, я выскользнула мимо посудомойщика в темноту. Голова раскалывалась от боли. «Дура! – яростно думала я. – Идиотка! Безмозглая идиотка, решившая, что на такую, как я, кто-то может посмотреть».
Я поднялась в свою квартиру, оставила еду на кухне, переоделась, сбежала по лестнице, выскочила за дверь и зашагала сначала к реке, потом к Общественному холму и Старому городу, наконец повернула на запад, к Риттенхауз-сквер.
Часть меня, здравомыслящая часть, убеждала, что ничего особенного не произошло, маленькая выбоина на велосипедной тропе жизни, что идиот он, а не я. «Холостяк», – сказал он. Я-то ошиблась лишь в одном: решила, что он приглашает меня на свидание. И что с того, что с этим свиданием не выгорело? Я ходила на свидания. У меня даже были бойфренды. И вполне логично предположить, что они и дальше у меня будут, а этот говнюк не стоит и секунды моего времени.
Но другая часть, с пронзительным голосом, бьющаяся в истерике, суперкритичная и, что самое главное, куда более громкая, твердила совсем другое, прямо противоположное.
Что я тупая. Что я толстая. Такая толстая, что больше меня никто не полюбит, и такая тупая, что не могу этого понять. Что я дура, более того, показала себя полной дурой. Этот Стив, этот инженер в рубашке поло, возможно, до сих пор сидел за пустым столиком, ел кальмаров и смеялся над большой глупой Кэнни.
И кому я могла об этом рассказать? Кто мог утешить меня?
Только не мать. Я не могла обсуждать с ней свою любовную жизнь после того, как однозначно дала понять, что не одобряю ее. И плюс эта рубрика Брюса, мать и так знала слишком много о том, чем я занимаюсь с наступлением темноты.
Я могла сказать Саманте, но она подумала бы, что я рехнулась. «С чего ты взяла, что причина в твоей внешности?» – спросила бы она, и я бы пробормотала в ответ, что, возможно, есть и другая причина, может, налицо просто недопонимание, при этом глубоко в душе зная истину, Евангелие от моего отца: я толстая, я уродливая, и никто больше меня не полюбит. Это раздражало. Я хотела, чтобы мои друзья считали меня умной, забавной, способной. Я не хотела, чтобы они меня жалели.
Чего я хотела, так это позвонить Брюсу. Я не могла рассказать ему о последнем унижении, которое мне пришлось пережить... мне не требовалась его жалость, я не желала, чтобы он думал, будто я ползу к нему на коленях или собираюсь ползти, потому что какой-то говнюк с волосатыми ногами отверг меня, но мне недоставало голоса Брюса. Независимо от того, что он написал в «Мокси», независимо от того, как он обсмеял меня. После трех лет нашей совместной жизни он знал меня лучше, чем кто бы то ни было, за исключением Саманты, но в тот момент, когда я стояла на углу Семнадцатой и Ореховой улиц, мне так захотелось поговорить с ним, что у меня ослабели колени.
Я поспешила домой, взлетела на третий этаж, перепрыгивая через ступеньки. Потная, с дрожащими руками, распласталась на кровати, потянулась к телефону, набрала номер. Брюс тут же снял трубку.
– Эй, Брюс, – начала я.
– Кэнни? – Голос показался мне странным. – Я как раз собирался позвонить тебе.
– Правда? – В моей душе затеплилась надежда.
– Я просто хотел, чтобы ты знала. – Послышались рыдания. – Мой отец умер сегодня утром.
Я не помню, что я тогда говорила Брюсу. Помню подробности, которые он мне сообщил: у отца случился инсульт, и он умер в больнице. Все произошло очень быстро.
Я плакала, Брюс плакал. Я не могла вспомнить, когда я так кого-то жалела. Свершилась жуткая несправедливость. Отец Брюса был прекрасный человек. Он любил свою семью. «Скорее всего, – подумала я, – он любил и меня».
Но пусть я и очень горевала, искорка надежды начала превращаться в пламя. Теперь Брюс все поймет, – прошептал голос в голове. После таких потерь мир воспринимается по-другому. Вот и он увидит в ином свете мою развалившуюся семью, бросившего нас отца. Когда-то я спасла Брюса от одиночества, от сексуального невежества и стыда... И теперь вновь потребуюсь ему, чтобы с моей помощью он сумел пережить эту беду.
Я представила себе нас на похоронах, как я держу Брюса за руку, как помогаю ему, как он опирается на меня, в свое время мне хотелось вот так же опереться на него. Я представила себе, как Брюс смотрит на меня с уважением и пониманием, смотрит глазами мужчины, а не мальчика.
– Позволь мне помочь. Чем я могу помочь? – спросила я. – Хочешь, чтобы я приехала?
– Нет, – ответил он тут же, – я еду домой, там уже тысяча человек. Все так ужасно. Сможешь ты завтра приехать на похороны?
– Конечно. Конечно. Я тебя люблю. – Эти слова сорвались с моих губ до того, как я подумала, что говорю.
– И что это значит? – спросил Брюс сквозь слезы. Надо отдать мне должное, я быстро пришла в себя.
– Что я хочу быть там ради тебя... и помочь тебе, насколько это в моих силах.
– Просто приезжай завтра, – пробубнил он. – Это все, что ты можешь сделать на текущий момент.
Но что-то в глубинах души заставило меня продолжить.
– Я тебя люблю, – повторила я, ожидая ответа. Брюс вздохнул, он знал, что мне нужно, но не хотел или не мог дать мне желаемое.
– Я должен бежать. Извини, Кэнни.
Часть II
Перестраивая себя
Глава 5
На похоронах Бернарда Губермана я, конечно, ужасно себя чувствовала, но в принципе могло быть и хуже. Если б, скажем, я покончила с собой.
Служба началась в два часа. Я приехала рано, но на стоянке мест уже не было, и автомобили стояли вдоль подъездной дорожки до самого шоссе. Наконец я припарковалась на противоположной стороне, перебежала четыре полосы движения и сразу попала в кучку друзей Брюса. Они стояли в вестибюле, все как один в лучших костюмах, должно быть, в них ходили на собеседование, устраиваясь на работу. Сунув руки в карманы, они о чем-то тихонько говорили, разглядывая свои ноги. День-то выдался прекрасный, солнечный осенний день. Отличное время для того, чтобы полюбоваться меняющими цвет листьями, купить яблочный сидр, первый раз после лета растопить камин. И совершенно неподходящее для похорон.
– Привет, Кэнни, – поздоровался Джордж.
– Как он? – спросила я. Джордж пожал плечами:
– Он внутри.
Брюса я нашла сидящим на стуле в маленьком вестибюле, с бутылкой воды «Эвиан» в одной руке и носовым платком в другой. В синем костюме, который Брюс надевал на прошлый Йом кипур[24]24
Йом кипур – Судный день. Девятый день нового года по еврейскому календарю. Библейский (указанный в Торе) праздник.
[Закрыть], когда мы сидели бок о бок в храме. Костюм слишком узкий, галстук слишком короткий, на ногах – брезентовые теннисные туфли, которые Брюс разрисовал звездами и завитушками во время особенно скучной лекции. Как только я его увидела, перестало существовать наше недавнее прошлое: мое решение пожить врозь, его решение расписать мое тело на страницах многотиражного журнала. Ничего не осталось, только наша близость и его боль. Мать Брюса стояла над ним, положив руку ему на плечо. Везде толпились люди. Все плакали.
Я подошла к Брюсу, опустилась на колени, обняла его.
– Спасибо, что пришла, – сказал он. Холодно. Формально. Я поцеловала его в колючую щеку, похоже, он не брился дня три. Брюс вроде бы и не заметил. Его мать приняла меня куда теплее. Обняла, и от ее слов не веяло арктическим холодом.
– Кэнни, – прошептала она. – Я рада, что ты пришла. Я знала, что будет плохо. Знала, что от горя меня будет выворачивать наизнанку, но не могла не прийти, даже после нашего разрыва на автомобильной стоянке. Тогда я просто представить себе не могла, что Бернард Губерман вот так умрет в один миг.
Но было не просто плохо. Мне казалось, что я сама умираю. Я умирала, когда рабби, с которым я несколько раз встречалась за обедом в доме Брюса, рассказывал о том, как Бернард Леонард Губерман жил для жены и сына. Как приводил Одри в магазины игрушек, хотя у них еще не было внуков. «Надо готовиться заранее», – говорил он. Вот тут у меня все поплыло перед глазами. Я знала, что именно от меня ждали этих внуков, понимала, как они любили бы деда, чувствовала, сколько радости принесла бы мне эта любовь.
Я сидела на жесткой деревянной скамье в похоронном бюро, в восьми рядах от Брюса, которого покойный прочил мне в мужья, и думала, что сейчас мне хочется только одного: быть рядом с Брюсом. Но нас разделяло слишком многое, не только восемь рядов.
– Он действительно тебя любил, – шепнула мне Барбара, тетя Брюса, когда мы мыли руки. Автомобили забили все окрестности, автомобили стояли вокруг квартала, автомобилей было так много, что около кладбища на время похорон выставили полицейский пост. Отец Брюса многое делал для храма, был прекрасным дерматологом с огромной практикой. Судя по толпе, практически все евреи и подростки с кожными заболеваниями пришли, чтобы проводить его в последний путь.
– Он был прекрасным человеком, – вздохнула я. Барбара вскинула на меня глаза.
– Был?
Только тут до меня дошло, что она говорила о вполне живом Брюсе.
Барбара взяла меня под локоток и увлекла в безупречно чистую комнату-прачечную.
– Я знаю, что вы с Брюсом расстались. Все потому, что он не сделал тебе предложения?
– Нет, – ответила я. – Дело в том... я все сильнее чувствовала, что мы не подходим друг другу.
Барбара меня словно и не слышала.
– Одри всегда говорила мне, как Берни хотел, чтобы ты стала членом семьи. Он не раз и не два говорил: «Если Кэнни захочет обручальное кольцо, она тут же его получит».
О Боже. Я почувствовала, как под веками собираются слезы. Опять. Я плакала во время службы, когда Брюс стоял у гроба и рассказывал, как отец учил его играть в бейсбол и водить автомобиль, я плакала на кладбище, когда Одри рыдала над могилой и повторяла: «Это несправедливо, несправедливо».
Тетя Барбара протянула мне носовой платок.
– Ты нужна Брюсу, – прошептала она, и я кивнула, не доверяя своему голосу. – Иди! – Она подтолкнула меня к кухне. Я вытерла глаза и пошла.
Брюс сидел на заднем крыльце, окруженный друзьями, которые, казалось, охраняли его, не пропуская чужих. Когда я подходила, он сощурился, глядя на меня, будто рассматривал препарат на предметном стекле.
– Могу я что-нибудь для тебя сделать? – мягко спросила я.
Брюс покачал головой и отвернулся. На всех стульях на крыльце кто-то сидел, и ни у кого не возникло желания уступить мне место. Я уселась на ступеньку, вне их круга, обхватила руками колени. Я замерзла, проголодалась, но жакет с собой не взяла, а поставить тарелку было некуда. Я слушала, как они говорят ни о чем, о спорте, концертах, работе (те, кто работал). На крыльце появились дочери подруг Одри, неизменное трио двадцати с небольшим лет, с полными тарелками. Выразили Брюсу свои соболезнования, подставили гладкие щечки для поцелуя. Меня аж перекосило, когда я увидела, как Брюс нашел в себе силы улыбнуться им, даже вспомнил их имена, тогда как на меня едва глянул. Конечно же, я понимала, когда... если... мы разбежимся, он должен найти кого-то еще. Просто никогда не думала, что мне придется страдать на просмотре подходящих кандидатур. Я сидела, чувствуя себя глубоко несчастной.
Когда Брюс встал, я поднялась, чтобы пойти следом, но нога затекла, и я повалилась на крыльцо, дернувшись от боли: в ладонь вонзилась заноза.
Брюс помог мне встать. «С неохотой», – подумала я.
– Хочешь прогуляться? – спросила я его. Он пожал плечами.
Мы прогулялись. Вдоль подъездной дорожки, по улице, мимо припаркованных автомобилей.
– Мне так жаль, – сказала я ему. Он промолчал. Я нашла его руку, мои пальцы потерлись о его ладонь. Он не отреагировал. – Послушай, – во мне поднималась волна отчаяния, – я знаю, как все было... Я знаю, что мы... – У меня перехватило дыхание. Брюс холодно посмотрел на меня.
– Ты больше не моя девушка, – отчеканил он. – Ты хотела разрыва, помнишь? И я маленький. – Последнее слово он практически выплюнул.
– Я хочу быть тебе другом.
– У меня есть друзья.
– Я заметила. Самодовольные и манерные. Брюс пожал плечами.
– Послушай, – продолжила я, – не могли бы мы... Не могли бы мы хотя бы... – Я прижала кулак к губам. Слов не было. Остались одни рыдания. Я шумно сглотнула. «Ты должна это сказать», – приказала я себе. – Что бы ни произошло между нами, как бы ты обо мне ни думал, я хочу сказать, что твой отец был удивительным человеком. Я любила его. Никогда в жизни не видела лучшего отца, и мне очень жаль, что он ушел... Из-за этого у меня рвется сердце... – Брюс молча смотрел на меня. – И если ты захочешь мне позвонить... – наконец выдавила я.
– Спасибо, – соблаговолил ответить он. Повернулся и зашагал к дому, а мгновение спустя я направилась следом, будто нашкодившая собачонка, так и шла, низко склонив голову.
Мне следовало тут же уехать, но я этого не сделала. Осталась на вечерние молитвы, когда мужчины с талесами на плечах собрались в гостиной Одри, встав коленями на жесткие деревянные скамеечки, прижимаясь спиной к занавешенным зеркалам. Я оставалась с Брюсом и его друзьями на кухне, белоснежной и хромированной. Они что-то клевали с подносов с закусками, говорили о пустяках. Я держалась на периферии, переполненная грустью до такой степени, что боялась взорваться прямо здесь, на выложенном испанской плиткой полу Одри. Брюс ни разу не посмотрел на меня. Ни разу.
Зашло солнце. Дом медленно опустел. Брюс собрал друзей и повел их в свою спальню, где сел на край кровати. Эрик, Нейл и сильно беременная жена Нейла заняли диван. Джордж – стул у стола Брюса. Я расположилась на полу, вне их круга, и какая-то маленькая, примитивная часть моего мозга начала долдонить о том, что Брюс должен снова заговорить со мной, должен позволить утешить его, если годы, проведенные вместе, что-то для него значили.
Брюс распустил свой конский хвост, завязал снова.
– Всю жизнь я был ребенком, – объявил он.
Никто не знал, как на это реагировать, поэтому, полагаю, они занялись тем же, чем всегда занимались, собираясь в комнате Брюса. Эрик набил бонг[25]25
Бонг – приспособление для курения марихуаны, в котором дым охлаждается, проходя через воду; по сути, тот же кальян.
[Закрыть], Джордж достал из кармана зажигалку, Нейл положил полотенце под дверь, чтобы дым не выходил в щелку. «Невероятно, – подумала я, с огромным трудом сдержав приступ истерического смеха. – Смерть для них – тот же субботний вечер, когда по кабельному телевидению не показывают ничего интересного».
Эрик передал бонг Нейлу, даже не спросив, хочу ли я затянуться. Я не хотела, и он скорее всего это знал. От марихуаны мне только хочется спать и разыгрывается аппетит. Так что этот наркотик не для меня. Но из вежливости он мог бы и предложить.
– Твой отец был отличным парнем, – пробормотал Джордж, и остальные согласно закивали, за исключением жены Нейла, которая с трудом поднялась с дивана и вышла из комнаты. Эрик и Нейл тоже высказали свое сожаление, а потом все заговорили о плей-оф.
«Всегда ребенок», – думала я, глядя на Брюса сквозь дымку. Поймала его взгляд, и какое-то время мы смотрели друг другу в глаза. Он протянул мне бонг, как бы спрашивая: хочешь? Я покачала головой и набрала полную грудь воздуха.
– Помнишь, как закончили строить плавательный бассейн? – спросила я.
Брюс поощряюще кивнул.
– Твой отец был так счастлив. – Я посмотрела на его друзей. – Вам надо было его видеть. Доктор Губерман не умел плавать...
– Так и не научился, – вставил Брюс.
– Но он настаивал, категорически настаивал, что у дома должен быть бассейн. «Мои дети больше не будут потеть летом».
С губ Брюса сорвался смешок.
– Поэтому в день сдачи бассейна он устроил грандиозную вечеринку. – Джордж закивал. Он на ней присутствовал. – Заказал десяток корзин с дынями...
– ...и бочку пива. – Брюс рассмеялся.
– И всю вторую половину дня ходил в банном халате с монограммой, который купил как раз для этого случая, с длиннющей сигарой во рту, прямо-таки король, – заключила я. – Он пригласил не меньше ста человек... – Я замолчала. Вспомнила отца Брюса – в ванне с подогревом в домике для переодевания, с дымящейся сигарой во рту, с запотевшей кружкой пива на бортике – и полную луну, золотой монетой висевшую в небе.








