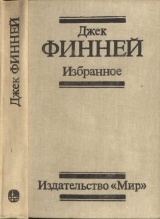
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Джек Финней
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 27 страниц)
Когда мы добрались до дому, Джулия, совершенно разбитая, сразу же поднялась к себе. Внизу никого не было, в доме царила тишина. Я тоже поднялся в свою комнату, снял пиджак и прилег на кровать. После всего пережитого я страшно устал, хоть и думал, что уснуть не смогу – слишком много накопилось впечатлений. Но, конечно, уснул почти сразу, как коснулся щекой подушки.
Очнулся я, когда уже стемнело, очнулся от голода, острого до головокружения. У меня не осталось ни малейшего представления о времени – быть может, уже очень поздно. Но в гостиной внизу я застал Мод Торренс и Феликса Грира – оба читали. И по тому, как обыденно они мне кивнули, я понял: им и невдомек, что я очевидец пожара. В такой же обыденной манере я спросил, дома ли Джейк Пикеринг, и Феликс, уже снова уткнувшийся в книжку, помотал головой.
Я прошел через темную столовую на кухню – оттуда сквозь щель под дверью пробивалась полоска света. Джулия сидела за кухонным столом рядом с тетушкой, ела холодное жаркое, видимо оставшееся от обеда, хлеб с маслом и пила чай. И как только я появился, тетя Ада вскочила, чтобы подать и мне. Лицо ее без слов говорило, что она осведомлена если не обо всем, то по крайней мере о чем-то, но вопросов она мне не задала. Джулия подняла на меня глаза и грустно кивнула; под глазами у нее проступили темные круги, я понимал, что ответ возможен только один, но не мог не спросить: „Он не вернулся?“ Джулия отозвалась: „Нет“, потом зажмурилась, уронила голову на грудь и, казалось, гнала от себя какую-то картину, или какую-то мысль, или и то и другое. Что я мог ей сказать?
Я расправился с ужином – а она все сидела, сложив на коленях руки, и ждала. Тогда я взглянул на нее, и она сказала:
– Сай, я должна побывать там снова.
Я кивнул. Непонятно почему, но и у меня возникло такое же желание.
На улице все так же дул ветер и опять повалил снег. Но на тротуаре Бикмен-стрит снег за день утрамбовали настолько, что свежего, рыхлого осталось не больше двух-трех сантиметров, и двигаться было легко. Вот и сгоревшее здание – стена, что выходила на улицу, обвалилась совсем, и мы без помех заглянули внутрь остова. С ровным тихим гулом горели факелы на концах обломанных газовых труб, и вокруг них подтекала талая вода. Но пожар как таковой уже кончился, „гибель мира“ свершилась и начала становиться достоянием – нет, даже не истории, просто забвения. В эту вот минуту в редакции „Иллюстрированной газеты Фрэнка Лесли“, в двух-трех кварталах отсюда, на углу Парк-роу и Колледж-плейс, да и в редакции „Харпере“ целая рота художников при свете газовых рожков режет по дереву гравюры сцен пожара, которые появятся в номерах следующей недели. Девушка, что идет рядом со мной, и другие жители города мельком глянут на плоды их трудов и воскресят в памяти виденное. Однако мне, как никому из них, было дано знание, что один какой-то миг – и не станет ни тех, кто режет сейчас гравюры, ни тех, кто будет их рассматривать, ни – невероятно! – девушки рядом со мной. Сохранятся несколько экземпляров газет, пожелтеют в подшивках, обращаясь в занимательные диковины, а разрушенное здание и ужасный пожар начисто сотрутся из памяти людской. Шагая мимо развалин, уже покрытых местами снегом, я поддался чувству черной меланхолии: жизнь человеческая представлялась мне такой краткой, такой бессмысленной. Подобные мысли приходят в голову, когда внезапно проснешься среди ночи и осознаешь вдруг полное свое одиночество в мире. А я ведь знал о времени, для которого здания этого словно и не существовало, а пожара словно и не происходило, так что чувства у меня сейчас были, собственно, те же.
Впереди, как раз напротив подъезда здания „Таймс“, торчал уцелевший фонарный столб; у подножия его, в круге желтого света, мягко искрился девственный снег. Здесь, на нашей стороне, снег тоже оставался почти нетронутым – по нему бежала единственная цепочка следов, исчезающая впереди, в темноте за фонарем. Казалось, будто кто-то постоял, всматриваясь в пустой оконный проем разрушенного здания „Всего мира“, затем пересек Нассау-стрит, поднялся на тротуар и зашагал дальше.
И тут, под фонарем, я схватил Джулию за руку, и мы замерли на месте. На снегу, точно так же как я уже видел однажды, резко отпечаталась миниатюрная копия надгробной плиты: множество точек, образующих круг с вписанной в него девятиконечной звездой. Но теперь эта копия была не одна – их было много, они заканчивали собой каждый след в цепочке, убегавшей в темноту.
– Да это же каблуки! – воскликнул я, приседая на корточки. – Круг и звезда – это шляпки гвоздей!..
Я посмотрел на Джулию снизу вверх, и она недоуменно кивнула:
– Ну да, конечно. Мужчины, когда заказывают обувь, частенько придумывают какие-нибудь личные знаки. – Она пожала плечами. – Вроде талисмана на счастье…
Я ответил ей кивком – я все понял. Это знак Кармоди; он спасся от пожара. И каких-нибудь несколько минут назад он приходил сюда, чтобы вновь взглянуть на содеянное. Еще мгновение я всматривался в странные отпечатки на свежем снегу. Под таким вот знаком его и похоронят. Многие годы спустя вдова обмоет и оденет его мертвое тело – и похоронит под этим самым знаком. Но почему? Почему? Вопрос по-прежнему ждал ответа.
Теперь мы возвращались пешком. Ветер спал, снегопад утих, мороз уже не чувствовался; улицы в такой поздний час да еще сразу после метели были пустынны, мы оставались с миром наедине. И вдруг на углу Четырнадцатой улицы и Ирвинг-плейс перед нами возник ярко освещенный дом и оттуда донеслись звуки вальса. „Филармоническое общество“, – сказала Джулия; боковые двери были распахнуты, и мы, приостановившись, заглянули внутрь.
Глазам нашим представилось редкостное, ослепительное зрелище. По меньшей мере треть зала, откуда вынесли кресла, занимала слегка приподнятая, натертая воском, сверкающая площадка для танцев, на которой плавно кружились вальсирующие пары. На балконе играл большой оркестр, склоненные над скрипками смычки двигались в унисон, а над залом гигантской подковой, ярус за ярусом, поднимались ложи, и все они были заполнены оживленными, смеющимися людьми. Еще больше зрителей собралось на сцене и на остальном пространстве партера. Мужчины, все без исключения, были во фраках и при белых галстуках, однако прически резко различались по длине и фасону, а бороды, усы и бакенбарды разнились еще более, и никто не терял в толпе своей индивидуальности. А женщины в длинных открытых, подчас поразительно смело вырезанных платьях – воистину вечерние туалеты этих женщин вполне компенсировали несколько сумрачный характер повседневной одежды восьмидесятых годов.
Я не силен в описании женских нарядов и материалов, из которых они шьются; лучше я вновь процитирую „Нью-Йорк таймс“, тот же самый номер» вышедший на следующее утро:
«Миссис Грейс приехала в кремовом атласном платье с жемчугами на груди. Миссис P. X. Л. Таунсенд была в голубом атласе, расшитом цветами и листьями из золотой парчи; миссис Ллойд С. Брайс – в белом атласе с парчой, отороченном кружевами; миссис Стивен К. Оулин – в белом шелковом муаре с жемчужными и бриллиантовыми украшениями. Миссис Вулси выбрала платье из черного тюля с черным атласным корсажем и отделкой из бриллиантов. Миссис Вандербилт предпочла белый шелк и бриллианты, а миссис Дж. Ч. Бэррон белый атлас с кружевами, пересыпанными бриллиантами…»
В каком-нибудь метре от нас вырос человек во фраке и при галстуке – капельдинер, смахивающий на «фараона»; он поглядел в нашу сторону, впрочем довольно терпимо, поскольку для коллекционера пригласительных билетов время было чересчур позднее. Я взглянул ему в лицо, и он приблизился к нам.
– Здесь у меня одна знакомая дама, – сказал я. – Есть какой-нибудь способ ее разыскать?
Я сощурил глаза и притворился, будто всматриваюсь в глубину зала, – удивительно, но все мы ведем себя с полицейскими так, словно они круглые идиоты. Он повернулся к маленькому позолоченному стульчику, взял с сиденья написанный от руки список в несколько страниц и протянул мне. Большинство лож обозначалось по фамилиям композиторов, начиная с Моцарта, Мейербера, Беллини, Доницетти; под каждой фамилией красивым женским почерком был выведен список гостей. Верди, Гуно, Вебер, Вагнер, Бетховен, Обер, Галеви, Гризи… Наконец, под фамилией Пикколомини я обнаружил четырех женщин и их мужей – и среди них то имя, которое искал.
Капельдинер – или все-таки фараон? – показал мне ложу «Пикколомини», почти потную; четыре женщины и трое мужчин смотрели вниз на танцующих. Как только капельдинер отошел, я шепнул Джулии:
– Вон – они, четыре львицы. Одна из четырех почти наверняка знает, что сегодня ее муж убил пять-шесть человек и чуть не сгорел сам. Итак, которая из четырех?
– По-моему, тут нет никакого сомнения, – ответила Джулия. – Та, что в желтом платье.
Я кивнул – сомнений действительно быть не могло. Она сидела подчеркнуто прямо, совсем не касаясь спинки своего золоченого кресла, поразительно красивая женщина лет тридцати пяти; лицо ее было исполнено абсолютного самообладания. Она могла бы считаться обаятельной, даже просто прелестной, только все эти определения как-то не приходили в голову; редко случалось мне видеть лицо и никогда – ни до, ни после – лицо женщины, на котором читались бы такое присутствие духа, острый ум и несгибаемая воля. И я понял Эндрю Кармоди: у него не было выбора, он должен был поступить именно так, как поступил.
– О чем вы думаете? – спросила Джулия.
Я не мог отвести глаз от этого жестокого красивого лица.
– Она меня пугает. Просто мороз по коже… И в то же время – какое очарование! Завораживает, как бездна…
– Это еще почему?
– Да потому, что придет день, когда не останется ни таких лиц, ни таких людей, да и драматических событий такого накала – тоже; все это попросту выйдет из моды. Злоумышленники станут пошляками, и в тех преступлениях, которые еще будут им под силу, не останется даже места для драматизма. Уж если выбирать между двумя типами людей, между двумя родами зла, я лично выбрал бы зло, содеянное со вкусом…
Джулия смотрела на меня, недоуменно подняв брови. Я бросил последний взгляд на миссис Кармоди и на этот роскошный бал, и мы двинулись вдоль вереницы карет, выстроившихся у тротуара, вдоль мигающих боковых фонарей, мимо неподвижных, укутанных попонами лошадей и слуг в ливреях и дальше по безмолвной улице к дому, а звуки вальса постепенно замерли позади.
20
На следующий день я проспал допоздна. Когда я наконец спустился вниз, было уже далеко за полдень, но я тем не менее позавтракал и попутно просмотрел отчет о пожаре в «Таймс» – он занимал всю первую страницу и часть второй. Остальные постояльцы давным-давно ушли, и я сидел за столом один. Джулия принесла мне завтрак; она была очень бледна, под глазами легли фиолетовые круги. В ответ на мой пристальный взгляд она сказала:
– У него была не слишком счастливая жизнь, правда, Сай?
– Он был одержимый, – ответил я. – Почти полоумный от вожделений, которым не суждено было сбыться. Предела он все равно бы не достиг. Встречаются такие люди, которым лучше бы и не рождаться на свет, – это как раз тот случай…
Джулия, однако, не приняла моей правоты – она несогласно затрясла головой еще до того, как я кончил.
– Не нам об этом судить. Если бы мы остались там, если б мы только остались…
– Вот, послушайте, – сказал я, обратившись к газете, раскрытой на второй странице. – «Помощник брандмейстера Джеймс Хинн из первой пожарной роты, – прочитал я вслух, – заявил, что его повозка прибыла с Нассау-стрит примерно через две минуты после начала пожара и что он в жизни не видел ничего подобного, о его мнению, пороховой погреб и то не вспыхнул бы быстрее». – Я взглянул на Джулию и тут же уткнулся обратно в газету. – «Капитан Тайнен заявил сегодня вечером, что за все годы своей работы в полиции он не видел более яростного и более мощного пожара…»
– Так и написано? – переспросила Джулия, прижав руку к груди. – Я газету не смотрела. Просто не могла…
– Я цитирую дословно из «Нью-Йорк таймс» от 1 февраля 1882 года – взгляните и убедитесь сами. Тут полно таких заявлений, Джулия. Так что успокойтесь: не вы начали пожар, у вас не было никакой возможности предотвратить его, и Джейку вы помочь тоже ничем не могли. – Я кинул газету на стол, потом показал на один абзац: – Лучше прочтите это – тут во всех подробностях описано, как доктор Прайм спасся, перебравшись по вывеске «Обсервер» в кабинет Томпсона в здании «Таймс». Второго мужчину, который был вместе с Праймом, звали Стоддард…
Ей стало легче, я и сам видел это. Газета писала чистую правду, и Джулии не оставалось ничего другого, как осознать печальный факт: мы не могли изменить ровным счетом ничего.
Примерно часа в два – я сидел в гостиной и просматривал «Харперс уикли» – по улице мимо окон прошествовал полицейский в высоком фетровом шлеме и длинной синей шинели; на рукаве у него виднелись нашивки сержанта. У двери он остановился и позвонил, открыла ему тетя Ада – Джулия была где-то наверху. И я услышал, как полицейский прямо в дверях, запинаясь на каждом слоге, спросил, будто прочитал по бумажке:
– Мисс Шарбонно? Живет тут такая?
Тетушка ответил – да, живет, и кликнула Джулию вниз. А полицейский продолжал:
– Морли, Саймон Морли? Такой тоже есть?..
Я встал и с газетой в руке вышел в переднюю, прежде чем тетя Ада успела ответить; полицейский на крылечке и в самом деле держал в руте квадратный клочок бумаги.
– Я Саймон Морли.
– Тогда пройдемте, – кивнул он. По лестнице спускалась Джулия, он кивнул и ей. – Оба пройдемте. Одевайтесь.
– Зачем? – воскликнули мы с тетей Адой в один голос.
– Когда надо будет, тогда и скажут.
Говорил он, как мне показалось, с ирландским Акцентом.
– А если мы хотим знать сейчас? Мы что, арестованы?
– Скоро будете, если не сделаете, что вам велено!..
Глаза у него мгновенно стали злыми и мстительными, как родится у полицейских, если вдруг осмеливаешься усомниться в правомерности их действий. Джулия поглаживала руку тетушки, бормоча какие-то утешительные слова. Я понимал, что в эту эпоху гражданские права соблюдались весьма и весьма относительно, и ради Джулии, не говоря уже о себе самом, решил помолчать.
Мои пальто и шапка висели тут же, в передней, на большой вешалке с зеркалом посредине; Джулия достала свое пальто и капор из шкафа под лестницей, уверяя тетушку, что мы, без сомнения, скоро вернемся домой и волноваться совершенно, ну совершенно не о чем…
Чуть поодаль у края тротуара ожидал экипаж. Я полагал, что нас поведут пешком, но полицейский, ускорив шаг, открыл дверцу и жестом предложил нам забраться внутрь. На откидном сиденьице спиной к лошадям сидел человек. Он молча наблюдал, как я помог Джулии влезть и устроиться. Затем я сам, пригнувшись, протиснулся между ним и Джулией, и экипаж качнулся и сел на рессорах под моей тяжестью. Полицейский снаружи захлопнул дверцу и, пока я усаживался рядом с Джулией, поднял руку и отдал честь мужчине напротив нас; сделал он это не слишком ловко, зато с большим почтением. Щелкнули поводья, экипаж тронулся, и мужчина сухо кивнул сержанту, отвечая на приветствие. Потом он повернулся к нам, и, – как только я встретил его грозный, леденящий взгляд, я догадался, кто он. Я никогда не видел его раньше и все же догадался, нет, я узнал его – и по-настоящему испугался.
Он был крупный мужчина с тяжелыми квадратными плечами. Глаза его устрашали: большие, стальные, близко посаженные, они перебегали с наших лиц на одежду, с одежды на лица, и в них читался затаенный интерес к нам, но вовсе не как к людям. Мы представляли собой нечто для него важное, мы были зачем-то ему нужны, но за людей он нас просто не считал.
Это был не кто иной, как инспектор нью-йоркской городской полиции Томас Бернс собственной персоной. И если самый известный полицейский деятель своего времени лично пожаловал за нами, значит, мы не какие-то рядовые арестованные. Меня пробрала дрожь безотчетного страха, и, наверно, пытаясь побороть страх, доказать этому человеку, что ничуть не боюсь его, я задал ему вопрос; мне хотелось, чтобы вопрос прозвучал уверенно и жестко, но ничего у меня не вышло, получилось несерьезно, словно я готовился тут же признаться, что пошутил:
– Ну, так что? – сказал я. – Не хотите ли вы предупредить нас о правах, гарантированных конституцией?..
Лицо его не дрогнуло, лишь стальные глаза быстро вскинулись навстречу моим, выискивая за моей смелостью скрытый смысл. Не найдя такового, он ответил на каком-то нелепом полуграмотном наречии, искусственно растягивая гласные – это он, по-видимому, считал признаком высшего света:
– Ладно, раз уж так, предупреждаю – держи свои дурацкие замечания при себе, не то покажу тебе толстый конец дубинки…
Странные в устах инспектора Бернса слова, но я не рассмеялся, даже про себя. В полном молчании мы проехали десяток кварталов вниз по Третьей авенею под эстакадой подземки, грохоча и покачиваясь на булыжнике, а то и кренясь и юзом скользя по снегу. Потом Третья и Четвертая авеню слились в улицу Бауэри, затем мы свернули направо по Бликер-стрит и через три коротких квартала налево на Малберри-стрит – я прочитал название на угловом фонаре. Еще полквартала – и экипаж остановился у четырехэтажного каменного здания, к которому вела лестница с большими квадратными фонарями по сторонам; фонари были с зелеными стеклами, и я понял, что нас привезли в полицию. Кучер спрыгнул на тротуар и открыл дверцу, Бернс сделал повелительный жест, Джулия вышла, и кучер тут же крепко взял ее за руку. Потом настала моя очередь. Бернс выскочил одновременно со мной и плотно сжал мне кисть своей рукой. Мы быстро поднялись по ступенькам, и я увидел над дверью позолоченные буквы, густо оттененные черным: «Городское управление полиции».
Мы прошли через вестибюль с деревянным полом, где за столом сидел тучный полицейский в форме; пол давно истерся, фаянсовые плевательницы облезли и потрескались, и над всем этим витал специфический запах – не знаю, из каких составляющих он складывается, но его не спутаешь ни с чем – запах именно такого видавшего виды здания. Быстро, почти бегом – ну, почему полицейские обязательно должны вести себя с людьми, как с врагами, словно эта служба вырабатывает какой-то особый инстинкт? – нас провели по лестнице вниз, в угрюмый подвал с низким потолком и кирпичными стенами. Там стояли маленький стол, простой кухонный стул и еще подставка, на которую был водружен газовый рожок с рефлектором – газ подводился по гибкому шлангу, змеящемуся по полу, – и еще там была деревянная тренога и на ней огромный фотоаппарат из красноватого полированного дерева, с медными рукоятками и черными кожаными мехами.
Следом за нами вошли трое в штатском, без пиджаков. Повинуясь жесту Бернса, мы с Джулией сняли пальто и головные уборы и сложили их на стол у двери. Один из вошедших сразу же направился к аппарату и начал с ним возиться; двое других стали рядом наготове. Я понимал, что сопротивление совершенно бессмысленно, и все же – ведь конституция действовала та же, что и в наши дни, – не мог промолчать.
– Я хочу знать, почему я здесь. Хочу знать, в чем меня обвиняют. Хочу посоветоваться с адвокатом. И решительно отказываюсь фотографироваться, пока не увижусь с ним…
– Слышали голубчика? А ну-ка, растолкуйте ему, почему он здесь…
Меня схватили с двух сторон за руки, и один из «стражей порядка» изо всей силы пнул меня коленом под копчик, посылая головой вперед через всю комнату к стулу; Джулия вскрикнула, а я наверняка упал бы, не держи они меня за руки. Потом меня молниеносно развернули вокруг оси, выкручивая руки в плечах, и бросили на стул так грубо, что сиденье застонало, а ножки проехались по полу. Рот мой беззвучно скривился от боли, на глазах выступили слезы. Один из шпиков приблизил губы к самому моему уху и голосом, исполненным ликования от сознания своей власти надо мной, проорал:
– Вы здесь, ваша милость, потому что нам так угодно!
Я мгновенно повернулся к нему и выплюнул слова ему в лицо, прежде чем он успел отодвинуться:
– Сволочь паршивая!..
Одна рука тут же схватила меня за горло, чтобы я не смог уклониться, а другая сжалась в кулак и размахнулась для удара, но вмешался Бернс:
– Погоди, на нем не должно быть отметин…
Помедлив мгновение, кулак опустился, вторая рука сдавила мне горло разок и тоже опустилась. Бунт мне не помог, да я и не надеялся, что поможет, тем не менее не жалел о нем. Шпики замерли надо мной на случай, если сопротивление возобновится, но с меня хватило одной попытки.
Человек у аппарата достал большую кухонную спичку, затем приподнял ногу и чиркнул спичкой по натянувшимся сзади брюкам; она загорелась, запахло серой. Он повернул медный вентиль, газ в рожке зашипел, вспыхнул красноватым пламенем, тогда фотограф прикрутил газ, и пламя распалось на десятки маленьких язычков, сияющих ровным голубоватым светом. Свет, отбрасываемый рефлектором, был так ярок и так горяч, что я прищурил глаза, почти закрыл их.
– Но-но, без фокусов!.. – Меня тряхнули за плечо куда сильнее, чем была нужда, и у меня даже зубы клацнули. – Открой глаза!..
Я заставил себя открыть глаза, и человек у аппарата залез с головой под черное сукно. Мехи раздвинулись, потом слегка сжались, и я увидел, как он сдавил резиновую грушу.
– Готово, – объявил он, и настала очередь Джулии. X счастью, когда она садилась, к ней никто не притронулся, иначе я наверняка бы вмешался и тогда-то уж меня избили бы как следует. Фотограф вновь надавил на грушу, и, едва его голова показалась из-под сукна, Бернс поднял руку и повелительно вытянул палец.
– Давай без задержки, – распорядился инспектор.
Фотограф пробормотал: «Слушаюсь, сэр», схватил пластинки и буквально выбежал из комнаты прочь. Один из двух оставшихся шпиков достал блокнот. Бернс окинул меня взглядом.
– Лет двадцати восьми – тридцати, – начал он, и полицейский принялся поспешно записывать. – Рост сто семьдесят восемь, вес шестьдесят пять…
Шпик строчил, а Бернс описал меня всего с головы до пят и мою одежду, включая пальто и шапку, затем описал Джулию и ее одежду, и обладатель блокнота тоже ушел. Бернс поманил меня пальцем, и я приблизился к нему.
– Давай-ка сюда бумажник.
Я достал из внутреннего кармана бумажник, предчувствуя, что никогда больше его не увижу. Другой рукой я вытащил из кармана брюк горсть мелочи и с презрительной миной протянул то и другое Бернсу.
– Сдачу оставь себе, – сказал инспектор, ухмыльнувшись собственному остроумию, и оставшийся в комнате шпик прыснул. Бумажника Бернс, впрочем, тоже не взял, а предложил: – Пересчитай сперва. – Я послушался; оказалось сорок три доллара. Нацарапав что-то в записной книжке, он посмотрел на меня. – Сколько там?.. – Я ответил, он проставил сумму, вырвал листок и подал мне расписку на сорок три доллара, подписанную «Томас Бернс, инспектор». – Мы тут не воришки, – назидательно произнес он и, обернувшись к Джулии, велел ей пересчитать деньги в сумочке. Взяв у нее бумажные деньги – девять долларов, – дал расписку и ней, вернул сумочку, и Джулия сухо поинтересовалась, зачем ему наши деньги. – Вам, может, удрать захочется, – ответил он, пожимая плечами. – А без денег-то далеко не удерешь, а?..
Мы снова сели в экипаж, Бернс опять лицом к нам, доехали до Пятой авеню и повернули на север.
– Куда мы едем? – спросил я.
– А ты не догадываешься?
– Нет, не догадываюсь.
– Тогда погоди – узнаешь…
Наконец, мы остановились между Сорок седьмой и Сорок восьмой улицами; теперь я догадался, куда мы ехали, – и Джулия тоже, как я понял по ее взгляду, – только по-прежнему не мог представить себе зачем. Вот он прямо перед нами, только тротуар пересечь, особняк Эндрю Кармоди на Пятой авеню, со своей великолепной, бронзовой и каменной, оградой и узким газоном позади нее. Дверца экипажа открылась, кучер жестом предложил нам выйти, приготовился взять Джулию за локоть, а Бернс меня – за кисть… Неужели Кармоди, увидев, как мы с Джулией выскочили из заколоченной комнаты бок о бок с конторой Джейка, решил, что мы соучастники шантажа? И теперь намерен обвинить нас в этом?
Дверь нам отворила горничная, девочка лет пятнадцати, не больше, в длинном черном платье с рукавами, прикрывающими запястья, огромном белом переднике и хитроумном кружевном чепчике; щеки у нее рдели, будто их только что натерли.
– Входите, пожалуйста, джентльмены, входите, мисс, вас ожидают, – сказала она с боязливой учтивостью.
Мы прошли через вестибюль, потом по короткому коридорчику, выложенному блестящим паркетом, и, миновав высокую дверь, попали в комнату, отличавшуюся от гостиной тети Ады как небо от земли. Эта была раза в четыре больше, по одну сторону тянулся ряд застекленных дверей, и обставлена она была французской мебелью в стиле, если не ошибаюсь, какого-то из Людовиков – изящнейшей, элегантнейшей, легкой настолько, что, казалось, ею и пользоваться нельзя. По стенам висели картины в рамах, из сводчатых ниш смотрели белые мраморные бюсты. У окна стоял большой белый с золотом рояль или, быть может, клавикорды.
И в этой прекрасной комнате, выдержанной в мягких тонах, как в тщательно подобранной декорации, у маленького камина с белым верхом нас поджидала миссис Эндрю Кармоди в розовом платье со свободными рукавами. Она небрежно играла сложенным веером слоновой кости, а лицо у нее было такое же, как прошлой ночью в ложе на благотворительном балу – спокойное, словно за всю свою жизнь она никогда не ведала волнений.
– Добрый день, инспектор. Мистеру Кармоди уже сообщили, что вы здесь, сию минуту он спустится…
Она удостоила Бернса улыбкой, игнорируя остальных с такой легкостью, будто она и впрямь нас не видела.
– Добрый день, мадам Кармоди. Надеюсь, он не слишком страдает?..
– Ожоги болезненные, тем не менее…
Она слегка шевельнула плечиком и послала инспектору еще одну ослепительную улыбку, из которой явствовало, что беседа окончена. Потом она подняла и раскрыла веер и обмахнулась раз или два, и Бернс, чтобы как-то затушевать тот факт, что ему не предложили сесть, нагнулся и принялся разглядывать мраморный бюст Марии-Антуанетты.
Послышались медленные шаги, но, как только я повернулся навстречу им, они сделались бесшумными; человек, весь обмотанный бинтами, с трудом прошел по огромному ковру к кожаному шезлонгу. Белые повязки пересекали лоб, закрывали с обеих сторон виски и щеки, плотно охватывали шею. А нос и узкие полоски кожи между носом и краями бинта были так воспалены, так ужасно обожжены, что еще сохранившаяся пленочка кожи, казалось, не в состоянии удержать кровь, готовую вот-вот брызнуть наружу. Волосы сгорели начисто, вся голова была воспалена и покрыта струпьями. Воспалены были и глаза, и он то моргал ими часто-часто, то на несколько секунд закрывал их совсем. Одна забинтованная рука висела на перевязи, пальцы, торчащие из бинтов, вздулись и потрескались.
Он опустился в шезлонг и откинулся назад, будто выбившись из сил. На нем были черные брюки в легкую светлую полоску и синий шлафрок с плетеной окантовкой. На складном столике возле шезлонга стояли стакан, графин, тут же лежали открытая коробочка с пилюлями и градусник. Какое-то время хозяин молча лежал с закрытыми глазами, потом взглянул на нас, произнес: «Как…» – но закашлялся, надрывно, с хрипом. При следующей попытке заговорить он снизил голос почти до шепота, лишь бы не закашляться снова:
– Как видите, я получил ожоги. Во вчерашнем пожаре. Великое счастье, что выбрался оттуда живым…
Внезапно он резко втянул в себя воздух, поднял руки к груди, словно собираясь закашляться вновь, но судорожно сглотнул и подавил кашель. Опять полежал секунды две-три с закрытыми глазами, потом раскрыл их, глянул на Джулию, глянул на меня и кивнул Бернсу несколько раз кряду.
– Они самые и есть, – сказал, почти прошептал он. – Спасибо, инспектор. Садитесь, пожалуйста.
– Ах, да, – произнес Бернс таким тоном, будто оставался на ногах исключительно по рассеянности. – А теперь, сэр, прошу вас рассказать все, как было…
Мы с Джулией остались стоять, а хозяин поведал Бернсу о письме Пикеринга и о встрече в парке ратуши.
– Я нисколько не сомневался, что какие-то документы у него могут быть. В качестве подрядчика я честно выполнял для муниципалитета ряд работ, и денежные ведомости, без сомнения, сохранились. Отнюдь не все, что делалось для города, пока Твид был у власти, делалось бесчестными методами…
– Само собой.
– И тем не менее его документы имели для меня известную ценность. Я веду сейчас кое-какие переговоры довольно деликатного свойства – речь идет о миллионах, и любая сплетня или клевета, пусть самая голословная, может сорвать все дело. Так что я сразу же установил за ним слежку. Пикеринг даже не пытался улизнуть от нанятого мной сыщика, и тот без труда установил его адрес – дом девятнадцать на Грэмерси-парк. Заодно ж просил выяснить фамилии и других жильцов дома. Мне представлялось, что среди них могут быть соучастники этого нелепого заговора. Вчера утром я встретился с Пикерингом, и тот повел меня в свою тайную контору в бывшем здании «Всего мира». Я принес с собой тысячу долларов наличными, я хотел заплатить, просто чтобы избавиться от него. Запроси он на цент больше – я сообщил бы вам его адрес и потребовал бы арестовать его.
– И правильно сделали бы, – отозвался Бернс.
«А ведь неплохо придумано», – решил я; окажись я на месте Кармоди, я, наверно, приправил бы факты таким же соусом. Время от времени заходясь кашлем, он продолжал свой рассказ: Пикеринг-де нехотя согласился на тысячу долларов, понимая, видимо, что никаких доказательств чьих-либо злоупотреблений у него, по существу, нет; Пикеринг упомянул, почему заколочен дверной проем в соседнее помещение; Пикеринг уже вытаскивал из своих ящиков документы в обмен на тысячу долларов, но тут в шахте лифта каким-то образом возник пожар. И вдруг, к совершенному удивлению Кармоди, мы – он указал на нас пальцем – ворвались в контору через заколоченную дверь, я бросился на Пикеринга и начал с ним бороться, а Джулия принялась запихивать деньги за пазуху. До Кармоди уже доносился треск огня, вверх по шахте катились клубы дыма, слышались крики «Пожар!..» и топот людей, бегущих со всех ног; пришлось ему самому бежать, спасая свою жизнь…
Он опять захлебнулся кашлем, и миссис Кармоди, метнув на нас уничтожающий взгляд, торопливо подошла и поднесла к его губам стакан воды. В полнейшем недоумении я посмотрел на него, потом на Джулию – она недоумевала не меньше моего. Зачем Кармоди понадобилось впутывать нас в эту историю? Нет, пожалуй, я улавливал причину, хоть и выраженную лишь намеком: гневно потрясая забинтованной головой и оттолкнув стакан, Кармоди выпрямился и шезлонге и проговорил резким шепотом, равнозначным крику:








